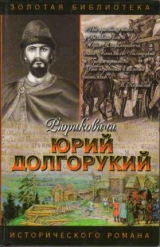
Текст книги "Юрий Долгорукий"
Автор книги: Вадим Каргалов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
В лето шесть тысяч шестьсот тридцать третье[100]100
1125 г.
[Закрыть] была в Новгороде великая буря с градом, подрала кровли на хоромах и церквах, а скотину загнала в Волхов. Истопли многие скоты, лишь немногих изымали люди из воды живыми. Будто пастухи невидимые, неземные гнали скотину на погибель, и ужасались люди непонятному.
В лето шесть тысяч шестьсот тридцать пятое[101]101
1127 г.
[Закрыть], в осени напала такая великая саранча, что четыре дня повсюду, как туман, стояла и, всю землю покрыв, хлеба в полях и леса объела. Тем же летом бысть вода велика в Волхове, а мороз побил ярь всю и озимые, и был голод всю зиму, ржи осмина по полугривне.
Лето шесть тысяч шестьсот тридцать шестое[102]102
1128 г.
[Закрыть] карами небесными было отмечено особо: на всю Русь обрушился гнев Божий. Случилось великое разлитие рек, дома с берегов и жито с полей водой унесло, потому что с зимы великие снеги лежали до месяца мая и стаяли разом. А летом все жита в цвету морозом побило, отчего учинился глад великий, покупали люди осмину ржи по полугривне, а то и дороже, отчего множество народу померло.
Туга и беда на всех, прости, Господи!
Тяжко было людям на Руси, а новгородцам и того тяжче. Целую гривну за осмину ржи отдавали на торгу, у кого ещё находилось серебро. Ели новгородцы конину, лист липовый, кору берёзовую, мешаючи с соломой, лесной мох. Мертвецы лежали на улицах, и никто не подбирал их. Власти растрясли всю новгородскую городскую казну наймитам, чтобы мёртвых из града вон вывозили и земле предавали, ибо от смрада нельзя было людям из своих домов выходить. Родители детей своих задаром отдавали иноземным гостям, чтобы спасти от неминуемой голодной смерти, а иные новгородцы разошлись по разным странам. К тому же снова была великая вода в Волхове, много хором порушила и брёвна домовые унесла в озеро Ильмень.
Завид Дмитриевич, приявший посадничество по кончине отца, сам в том же злосчастном году помер.
– Божья кара за грехи наши! Терпите, люди! – вещал с амвона священник Савва и не забывал каждый раз добавлять, что корень-то несчастья из Новгорода произрастает...
Но всё это будет после, а в лето шесть тысяч шестьсот тридцать третье[103]103
1125 г.
[Закрыть] Русь замятежилась от кончины великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха.
Знали ведь многие люди, что старый князь давно недомогает, сам в походы не ходит, в Киев наезжает редко – больше отлёживается в своём загородном дворце у реки Альты, где и церковь собственным иждивением и трудами построил и богато украсил, но всё равно кончина великого князя показалась ошеломляющей неожиданностью. Рухнул столп, на котором покоился державный порядок, и замерла Русь в тревожном ожидании.
Скончался Владимир Всеволодович Мономах во дворце на Альте, возле любезной ему новой церкви, которую строил торопливо, будто предчувствовал смерть свою.
Случилось это в девятнадцатый день весеннего месяца мая.
Май считали на Руси несчастливым, неверным месяцем. Пословицы даже сложили:
«Май обманет, в лес уйдёт».
«Май теплом поманит, да морозцем обдаст».
«Ай, ай, месяц май, не холоден, так голоден».
«В мае родиться – весь век промаяться».
«В мае жениться – весь век промаяться».
Считалось, что в мае нельзя начинать никакого важного дела, а если, кто начинал и терпел неудачу, ему говорили с насмешливой укоризной:
– Захотел ты в мае добра!
Тут же не о жизни мизинного человека и не о семейном благополучии шла речь, но о судьбе Великой Державы.
Старики, кивая на обманчивый май, предрекали всяческие беды.
Но на этот раз май оказался благосклонным, смена власти прошла без княжеской замятии и народных мятежей. Князья дружно съехались на похороны великого мужа.
Юрий поспешал как только мог. С немногими гриднями-телохранителями и боярином Василием (престарелый тысяцкий Георгий Симонович не выдержал бы такой бешеной гонки!), меняя по дороге коней, гнали с рассвета до темноты, но всё равно припоздали – встретили скорбный поезд уже на дороге к Киеву.
По обычаю дубовую колоду с телом Мономаха везли на санях. Глубокие борозды оставались от полозьев на влажной весенней земле, а между бороздами, как бы отчёркнутые ими от остального мира, шли в чёрных траурных одеяниях сыновья покойного великого князя: Мстислав, Ярополк, Вячеслав, Андрей.
Юрий спешился, поклонился телу отца, молча присоединился к братьям – позади Вячеслава, но впереди Андрея (Мономаховичи шли по старейшинству).
Следом, тоже между санными бороздами, в скорбном молчании шествовали внуки Мономаха, бояре и княжии мужи – словно чёрный ручей тихо струился среди весёлой зелени полей.
Сани медленно поднимались на гору по затихшим киевским улицам. Живым частоколом стояли вдоль улиц киевляне, простоволосые, коленопреклонённые, у многих на глазах – слёзы.
На соборной площади Юрий ревниво пересчитывал князей, толпившихся у паперти. Многие явились, многие почтили покойного великого князя!
Будут ли столь же единодушны князья в постановлении Мстислава Владимировича великим князем?
Митрополит с многочисленным церковным причтом навстречу вышел. Почти все епископы были здесь, даже из дальних епархий. Когда только успели приехать? Может, заранее знали?
Великую честь оказывала Русь великому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху!
Положили Мономаха в митрополичьем Софийском соборе, рядом с отцом его Всеволодом Ярославичем и другими великими князьями.
Аминь!
Потом на княжеском съезде без споров поставили великим князем Мстислава Владимировича, старшего сына Мономаха. Может, кто из князей и недоволен был, но скрывали до поры своё недовольство. Не понадобились дружины, предусмотрительно приведённые Мономаховичами к Киеву (за Юрием тоже большая дружина пришла, и воевода Пётр Тихмень был неотлучно при своём князе).
Так, без замятии, произошла смена власти.
Старшего брата Юрий видел больше издали, лишь при встрече по-родственному обнялись и перекинулись немногими любезными словами. Мстислав весь в хлопотах был, в державных заботах, всегда окружён князьями и советными мужами – не подступишься.
Как следует присмотрелся Юрий к старшему брату только на поминальном пире – рядом сидели. Отмечал Юрий благоприобретенную величавость в облике Мстислава, значительность и неторопливость речи. В волосах седины, а стан прямой, широкие плечи развёрнуты, взгляд строгий, прожигающий. Такому невольно поклонишься – видный муж!
Юрий прикинул, что годов сейчас старшему брату близко к пятидесяти, в самой он мужской силе. Если по отцу судить, княжить Мстиславу долго, сам-то Мономах помер на семьдесят четвёртом году жизни. Выходило, что самому Юрию о великом княжении и мечтать нечего. Да и другие старшие братья живы-здоровы, дорогу не уступят – Ярополк, Вячеслав...
Отрубил Юрий несбыточные мечты, и сразу на душе легко стало, покойно. Знать, Богом так определено, что единственная судьба Юрия – Ростов да Суздаль...
Поэтому Юрий был бестревожен, когда Мстислав Владимирович созвал братию для утверждения на княжеских столах – каждый новый великий князь так делал. О чём беспокоиться Юрию? С Ростово-Суздальского княжества его не столкнуть, прирос крепко, даже великому князю сие деяние не под силу, а прибавления отчинных владений Юрий не ждал. Не приближает его Мстислав – и не надо. Князь Юрий Владимирович в своей земле самовластец, ни в чьей подпоре не нуждается. А вот на пользу ли самому Мстиславу отчуждение, время покажет. С потайным злорадством вспомнил Юрий обычную присказку старого воеводы Непейцы Семёновича, что ростовцам до Киева дела нет, ни к чему ростовцам в великокняжеские дела путаться. Так Юрий и будет делать...
Никаких неожиданностей на братском совете не случилось. За князем Ярополком Владимировичем утвердили Переяславль, за князем Вячеславом Владимировичем – Туров, за князем Юрием Владимировичем – Ростов и Суздаль, за Андреем Владимировичем – Владимир-Волынский. Сыновья самого Мстислава остались в прежних городах: князь Изяслав – в Курске, князь Ростислав – в Смоленске, князь Всеволод – в Новгороде.
О других княжеских столах на совете даже речи не шло: новый великий князь оставил всё, как было. Какой князь в каком городе сидит, пусть там и остаётся, лишь бы против Мономаховичей не злоумышлял, свару не заводил.
Юрия же дела князей Святославичей, Изяславичей и Владимировичей совсем не касались, даже слушать о них было неинтересно. Отметил только для себя, что заводить свару с князьями Мстислав не собирается, а потому войско из Залесской Руси требовать не будет...
Юрий молча сидел между Вячеславом и Андреем, только раз приподнялся, чтобы произнести благодарственные слова великому князю Мстиславу Владимировичу, когда тот объявил о затверждении за ним залесской отчины.
Призвав Мономаховичей и потомство их во всём быть заедин, Мстислав отпустил братьев. Провожать не стал. Великокняжеский дворецкий впереди младших Мономаховичей шествовал до ворот, да холопы с факелами освещали дорогу (час был уже поздний, ночной).
Больше в Киеве князю Юрию делать было нечего, пора возвращаться в Суздаль. Так и сказал боярину Василию:
– Завтра поутру отъезжаем...
Полной неожиданностью оказалась для Юрия просьба Ольбега Ратиборовича, ближнего боярина покойного великого князя, пожаловать к нему на двор для доверительного разговора.
Недоумевал и боярин Василий. Точно бы никаких общих дел у Юрия со старым вельможей не было, о чём с ним говорить? Провожая Юрия до крыльца (самого боярина к Ольбегу не позвали), Василий торопливо шептал:
– Если просить что будет – сразу не соглашайся, княже. Скажи, что поразмыслить надо, посоветоваться с мужами. Ни в какие киевские дела не увязывайся, худо будет. Вспомни, как сам в отрочестве говаривал: «Да ну вас всех!»
Юрий посмотрел на боярина снисходительно и насмешливо.
Верный боярин, пребывая неотлучно при князе многие годы, так и не заметил, что Юрий уже давно переступил ту незримую черту, за которой властитель перестаёт нуждаться в подсказчиках. Когда понадобится – сам спросит, а не спросит – прилично мужам помолчать. Не хотелось обижать Василия, любил его Юрий и душевную близость ценил, но намекнуть, что времена изменились и сам он, князь Юрий Владимирович, другим стал – пора.
Остановился Юрий, с притворным смирением поклонился Василию:
– Как велишь, боярин, всё исполню!
Василий побледнел, губы задрожали – понял:
– Прости, княже, неразумного слугу своего...
Но Юрий уже улыбался, ласково положил руку на плечо боярина:
– Так-то вот, друг мой верный...
И зашагал через сени, твёрдо ступая тяжёлыми уличными сапогами. Боярин Василий растерянно смотрел ему вслед.
Ольбег Ратиборович принимал Юрия по-домашнему, в малой жилой горенке, увешанной коврами; ворсистый ковёр на полу скрадывал звуки шагов. Для покоя предназначена была горенка, для уединения. Даже дорогое оружие, развешанное по стенам, казалось здесь лишним. Через оконце вламывалось в горенку пронзительное майское солнце, искрами пробегало по блестящей стали. Переступил порог Юрий и словно ослеп – луч солнца ударил прямо в глаза.
Но столик, за который посадил Юрия старый боярин, стоял в тени, в приятном полумраке, сюда не добиралось весёлое буйство солнечных лучей.
Давно не видел Юрий старого отцовского боярина и посочувствовал: что делают годы с человеком! Не прежний могутный муж сидел перед ним, но сущий старец. Борода белая как снег, на главе волос совсем не осталось, пальцы дрожат. Ссутулился на своём стульце, словно меньше ростом стал. Но глаза по-прежнему смотрят жёстко и пронзительно.
Юрий первым разговор не начинал, давно знал цену выжидательному молчанию. Ольбег улыбнулся ласково и снисходительно. Понял Юрий, что его маленькие хитрости здесь ни к чему, весь он для мудрого старца как на ладони.
– Удивился, княже, что тебя позвал? – тихо и неторопливо начал Ольбег. – Поди гадаешь – зачем?
Юрий ничего не ответил. Зачем было отвечать, когда Ольбег сам всё понимает и спросил просто так, для начала разговора? Пусть сам объясняет, зачем позвал.
Вздохнул Ольбег, дрожащей рукой нацедил из скляницы вино в кубок, пододвинул собеседнику. Вздохнул, продолжил, как показалось Юрию, через неохоту:
– Присматривался я к тебе, княже, на совете. Слушал ты старшего брата отстранённо, смотрел недобро...
Снова промолчал Юрий. Так оно и было, оспаривать ни к чему, беседа-то доверительная, но и подтверждать – тоже ни к чему. Догадка ведь только у боярина, не более того!
Тогда Ольбег Ратиборович заговорил наконец о главном – уверенно, напористо:
– Не о Мстиславе разговор наш, о всём княжеском роде Всеволодовичей. Задумайся, княже, почему так возвысилась Русь при великих князьях Владимире Святославиче и Ярославе Владимировиче Мудром? Сам отвечу: пригнули они князей-соперников, правили Русью единовластно. Не сразу Владимиру и Ярославу удалось к единовластию прийти, годы прошли в войнах и усобицах, но когда пришли – обернулось это благом для Руси. А потом наступили времена соправительства. Сразу три князя правили Русью, хоть сидели в разных городах: Изяслав – в Киеве, Святослав – в Чернигове, Всеволод – в Переяславле, и ни один не был самовластием, даже великий князь Изяслав, все советовались да переговаривались, а Земля вразнос пошла. Самому тебе должно быть ведомо: в Киеве мятеж великий, усобица за усобицей, князь на князя нож точил, половцы безнаказанно украины разоряли. Нестроение наступило на Руси. Дед твой Всеволод Ярославич, вступив на великое княжение, тоже не свободен был, во всём оглядывался на Олега и Давида Святославичей, на других сильных князей. Про великого князя Святополка и говорить нечего: княжеские съезды собирал беспрестанно, как приговорили князья – так и поступал, а у отца твоего Мономаха был в полном послушании, словно не он великий князь, а переяславский владетель Владимир Всеволодович Мономах!
Юрий склонил голову, соглашаясь. Да, так оно и было, рассказывал и тысяцкий Георгий Симонович, и боярин Фома Ратиборович, что всем заметным делам на Руси Мономах – голова. И в походы других князей собирал, и княжеские съезды направлял, а великий князь Святополк вроде как со стороны смотрел да поддакивал.
А Ольбег Ратиборович продолжал, так же напористо и страстно:
– Соправительство сломал только отец твой, Владимир Всеволодович Мономах, когда стал великим князем. Походы его бесчисленные, грозы на мятущихся князей, пролитая кровь и растраченное серебро – только ради единовластия. Собрала Русь растопыренные пальцы в кулак, и устрашились враги Православия. Поляки, венгры боялись русские рубежи переступить, половцы в Диком Поле тихо сидят, как степные бурундуки, боязливо по сторонам оглядываясь – не идут ли полки Мономаха? Благотворная тишина наступила на Руси. Единовластие – главное наследие Мономаха, и Божественное предназначение Мстислава Владимировича это наследие сохранить. Подопри Мстислава, если нужда будет. Помни, не Мстиславу ты поможешь, но Руси, от усобиц уставшей...
Помолчал, долил в кубок Юрия вина.
– Почему тебя позвал, а не Ярополка, не Вячеслава, знать хочешь? В тебе вижу опору, в твоём княжестве, не мечущемся в усобицах. Набирает мощь Залесская Русь, я-то вижу! Но время твоё ещё не пришло. Подкрепи Мстислава – и выиграешь время, чтобы обрести подлинное могущество. А если Киев, не дай Бог, перейдёт в другие руки, худо будет и Ростову, и Суздалю. Не Мстиславу поможешь ты – себе...
Точно бы всё правильно говорил старый боярин, и забота его о верховенстве княжеского рода Всеволодовичей была понятна Юрию, но всё же, всё же...
– О Новгороде думаешь? – догадался Ольбег.
– О Новгороде...
Посмурнел старый боярин, губами шевелил, словно подыскивая убедительные слова. Видно, очень уж не хотелось вспоминать Ольбегу о новгородских делах, обидных для Ростова. Однако понимал боярин, что без ответа Юрию весь разговор – впустую.
– Поторопился Мономах с Новгородом, я его предупреждал, – выдавил наконец Ольбег из уст своих виноватые слова. – Верил Мономах, что Киев теперь навечно за Мономаховичами, вот и постарался напрямую привязать Новгород к Киеву. Говорил я ему: а ну как сядет на великое княжение кто из Святославичей и Новгород к ним перетянется? Разъединена будет Залесская Русь, Новгород – по одну сторону, Ростов с Суздалем – по другую. Где будут Мономаховичи опору искать? А пока, княже, вот тебе ещё одна причина за Мстислава держаться. Пока он великий князь, отчуждение Новгорода от Ростова не так опасно...
Не то чтобы убедил боярин князя, но примириться со случившимся помог. Может, и правда: пока сидит Мстислав в Киеве, от новгородцев обиды не будет? Но связывать себя прямыми обязательствами всё-таки не следует...
Ответил Юрий вежливо, почти так, как советовал Василий, только о мужах, с которыми будто бы надо совет держать, не упомянул:
– Спасибо, боярин, за научение, на многое ты мне глаза открыл, теперь думать буду...
С тем и ушёл, оставив Ольбега Ратиборовича в сомнении – согласился с ним князь или нет.
Тем же днём отъехал Юрий Владимирович из Киева, и дружина с ним ушла. Уже без него Ярополк Владимирович Переяславский со своими дружинами половецкого хана Бора от рубежей отгонял, без него князья изменников-торков карали, а великий князь Мстислав Владимирович неожиданно ввязался в усобицу на Волыни.
Бесконечно далеки были все эти заботы от князя Юрия Ростово-Суздальского...
4
В одно ничем не примечательное июльское утро духовник Савва не удалился сразу после общей трапезы, как всегда делал, а поднялся следом за князем в советную горницу.
Смиренным человеком был Савва, ненавязчивым, приходил, когда звали, а если сам искал встречи с князем, то лишь по важному делу. Князь Юрий это знал, поэтому велел мужам обождать в сенях, а сам уединился с духовником.
– Чем озабочен, святой отец?
– Из Киева, из Выдубицкого монастыря, прислали выписку из летописи о батюшке твоём, Владимире Всеволодовиче Мономахе, – без пустословия начал Савва и протянул Юрию пергаментный лист, исписанный угловатыми уставными буковками.
Так было заведено самим Юрием: прежде чем заносить в суздальскую летопись известия о значительных событиях, показывать записи князю. А посмертная летописная запись о Мономахе – что могло быть значительнее?
Всю жизнь покойного князя монахи-летописцы выносили на суд потомкам...
Вроде бы всё в летописной записи было уважительно и благолепно. Написал киевский монах-летописец, что благоверный князь Владимир, нареченный Мономахом, был достойным мужем, украшенным добродетельным нравом и прославленным в победах. Был он страшен окрестным народам и любим подвластными ему. Он не был горд, не возносился в своих благополучиях, но славу и честь за все свои победы воздавал Господу, на Божий Промысел смиренно ссылался, за что Бог ему престол великокняжеский мимо старейших князей даровал и многих противных ему покорил. Он был во всём милостив и щедр деяниями, в правосудии законы хранил и хотя виновных наказывал, но более с уменьшением вины и прощением. Лицом был красен, очи имел великие, власы рыжеватые и кудрявые, чело высокое, бороду широкую, ростом не вельми велик, но крепок телом и силён. В войнах был храбр и хитр по устроению полков. Многих врагов своих победил и покорил, сам лишь однажды побеждён был – от половцев у Триполя. Сей князь всех русских князей себе покорил, так что во время его владения ни один не смел на другого воевать или ему воспротивиться, но все его яко отца почитали, а половцы не смели ни единова нападения в пределы русские учинить, ни даже от Донца приблизиться. Владел Мономах Русью тринадцать лет, а всего жил семьдесят три года...
Доволен остался Юрий. Немногие князья удостоены были такой великой похвалы!
А подправить в записи всё-таки было что. Подсказал, возвращая пергаментный лист Савве:
– Стыдное поражение у Триполя – не Мономахова вина, а великого князя Святополка. Святополкова неразумная торопливость войско в нестроение привела. Скажи монаху, когда в летопись переписывать будет.
– Так же мыслю, княже, – согласился духовник. – Скажу...
Давно ушёл духовник, мужи нетерпеливо переминались за дверью, а князь всё не звал в горницу. Сидел на лавке, подперев ладонью подбородок, думал. Вот ведь как получается: вся долгая и многотрудная жизнь великого мужа в четыре десятка летописных строчек уложилась. По ним только и будут судить о Владимире Всеволодовиче Мономахе, когда уйдёт живая память вместе со знавшими великого князя людьми...
Что-то изменилось сегодняшним утром в Юрии, но что – он толком не понимал. Он чувствовал не только горечь недавней утраты, что было объяснимо и естественно, но и какое-то внутреннее высвобождение. Образ отца расплывался, терял реальные очертания (раньше разум не примирялся с утратой!). Уходил Мономах в длинную череду легендарных великих князей, которые воспринимались сознанием только как предания старины, как сказания о днях давно минувших. Олег Вещий, Игорь Старый, Святослав, Владимир Святой, Ярослав Мудрый... А теперь и Владимир Мономах – в былинной неосязаемости...
Почитания достойны великие мужи и строители Руси, но все они – вне нынешней жизни...
Только теперь до конца осознал Юрий, что отца больше нет и что это – безвозвратно. А коли так, то над ним, князем Юрием Владимировичем Ростово-Суздальским, никого больше нет, кроме Бога!
Остальные князья на Руси князю Юрию либо ровня, либо много ниже стоят. Некому больше навязывать ему свою волю, как порой поступал Владимир Мономах. Ни на кого больше оглядываться не надо, ничьего одобрения не надо искать и ничьего осуждения не надо опасаться. Свободен отныне Юрий в своих помыслах и поступках. Теперь он подлинно самовластец!
Юрий рывком поднялся со скамьи, хлопнул в ладоши.
Тишка из своего тёмного уголка бросился к дверям – открывать.
Осторожно переступая высокий порог, в горницу вереницей входили мужи.
Князь не в кресле своём высоком восседает, а стоит возле, рукой на подлокотник опирается, пальцы крепко сжаты, а глаза смотрят пронзительно, отстраняюще.
Мужи по лавкам рассаживаться не решились, хотя всегда раньше так делали и без княжеского знака. Остановились робкой кучкой посередь горницы. Суровым был князь, непонятным. Гневен на кого-то? Случилось что?
Тяжело и непререкаемо, как глыбы в основание крепостной стены, ложились княжеские слова:
– Запомните сей день, мужи. Пришла пора подлинно возвышать Залесскую Русь, чтобы назвали её Русью Великой. Отныне по-иному будем вершить дела, по-своему, ни на кого не оглядываясь – ни на стольный Киев, ни на богатый Чернигов. Над мужами – князь, над князем – Бог, никаким иным мы неподсудны!
Перебрал Юрий взглядом каждого мужа, словно в душу заглянул. Только покорность в лицах, только страх, только готовность к мгновенному исполнению княжеской воли...
Иного Юрий и не ожидал. Подобрел лицом, неторопливо угнездился в кресле и продолжил уже ненапряжённо, дружелюбно:
– Садитесь, мужи, будем о делах думать.
Обычный совет, обычные неторопливые речи степенных мужей – ничего значительного или опасного не происходило в то утро в Залесской Руси. Да и князь стал вовсе не грозным, разговаривал с мужами ласково. Но уходили мужи задумчивыми и растревоженными. Догадывались, что переламывается что-то и в жизни княжества, и в их собственной судьбе, а что переламывается и почему – не знали.
Наверно, потому и не разъехались сразу по своим дворам, как делали всегда после советного сидения, а вышли за ворота и остановились, словно боясь остаться в одиночестве. Вместе-то спокойнее!
Молчали, вздыхали.
Подошёл задержавшийся у князя воевода Пётр Тихмень.
– Чем озабочены, мужи?
Кто-то из бояр осторожно начал:
– Суров был поначалу князь, а отчего – не ведаем...
Воевода многозначительно поднял палец; одно только слово произнёс:
– Самовластец!
И мужи вздохнули с облегчением. Самовластец – это понятно. Князем-отроком Юрий был, потом, мужая, поднялся до князя-правителя. Теперь – самовластец. Естественное течение жизни, а суров был потому, что объявлять о самовластии надлежит строго и непререкаемо, чтоб запомнили накрепко. Может, для своих мужей и худа в том нет, как служили они князю усердно и прямо, так и служить будут, изменников в Ростове и Суздале точно бы не было и нет. А что до соседних владений, то не суздальским мужам о них печаловать. Жёстко объявил господин Юрий Владимирович: ни на Киев, ни на Чернигов больше не оглядываться! А на другие, не стольные грады, тем более смотреть Ростову да Суздалю ни к чему.
Многим мужам княжеская жёсткость даже понравилась. Давно бы так объявить, а то великокняжеский боярин Ошаня до сих пор в Ростове для чего-то сидит, пития с дворецким Дичком Борщовым немилосердно истребляя. Укажут ему теперь дорогу прочь...
А сошлись мужи на том, что, видно, от Бога предназначение князю Юрию – быть самовластием, и роптать на Божью волю – грех. А что спрос с мужей построжает, так сие княжеству только на пользу.
Тем же вечером Юрий отъехал с немногими ближними людьми в Кидекшу. Не к Ульяне в объятия, но ради уединения и тишины. Давно ушла отроческая любовь, только привычка осталась – если в Кидекше ночевать, то с Ульяной на ложе.
Потом и вовсе перестал Ульяну звать. Огрузнела ключница, обабилась, голос стал громким и пронзительным, с дворовой челядью обходилась жёстко – вразумляла нерадивых литым кулачком по загривку. Крепко держала в своих руках Ульяна княжеский двор, даже огнищанин Корчома её побаивался.
Юрий с грустью думал, что нашёл он ключницу норовитую, рачительную, – цены не было такой управительнице! – а любушку потерял.
В те редкие ночи, когда Юрий звал Ульяну к себе, ключница приходила безропотно, быстро раздевалась и деловито ложилась рядом. На ложе Ульяна была старательна и сноровиста, будто работу необходимую исполняла, без пыла и любовного трепета – обыденно. Может, и думала она не о Юрии, а о прокисшем ни с того ни с сего мёде, о свежатине, которую не привезли вовремя из дальней вотчины, или о чём ином, хозяйственном.
Получал Юрий телесное облегчение, а в душе – пустота.
Надоедливо всплывало в памяти неприятное: выглянул он однажды в оконце, а Ульяна дланью своей тяжёлой дворовую девку по щекам хлещет, только русая головёнка из стороны в сторону мотается...
Эх, Ульяна, Ульяна!
Не манил Юрия и суздальский дворец. Княгиня Евдокия только вокруг детей хлопочет, не до любовного ей баловства. Не заметил Юрий, как стал главой большого семейства. Подрастали сыновья: Ростислав, Андрей, Иван. Не младни уже – отроки. На отца смотрят восхищённо и почтительно, как на мудрого престарелого мужа. А ведь ему-то, Юрию, едва на вторую половину четвёртый десяток лет перевалил, хоть и ранняя седина в бороде, но в самой он мужской силе, кровь вскипает, по ночам скоромные сны навещают. Грех, наверное, но уж так...
Не к жене теперь приезжал Юрий в суздальский дворец – к сыновьям. Не было во дворце прежнего тёплого уюта. С того памятного июльского утра, когда Юрий громогласно объявил себя самовластием, что-то неуловимо изменилось вокруг. Дворовая челядь, и раньше почтительная, на цыпочках ходит, любое мановение княжеской руки сторожит, а в глазах – жертвенная готовность кинуться, исполнить. Мужи рассаживаются в советной горнице смиренно, говорят осторожно, только по делу. Никого не казнил Юрий, не обжигал неожиданной опалой, а сидят, словно зажатые.
Даже боярин Василий поначалу осторожничал, сомневался, можно ли с князем разговаривать как прежде – попросту, по-дружески.
Ну Василия-то Юрий быстро успокоил, опять залучился весёлый боярин улыбками, в шутливых беседах с ним отводил Юрий душу.
Комнатный холоп Тишка хлопотал рядом, как в прежние годы, заботливо и безбоязненно; мог и попенять князю, что одевается-де легко, а день холодный, или ещё за что-то показать своё недовольство.
Хотя какой он Тишка? Для других людей он уже Тихон, и не комнатный холоп, а тиун при князе, человек уважаемый. Как сам Тихон неотлучно ходил за князем, так за ним тенью следует бойкий отрок Илька, присматривается к княжескому обиходу, внимает Тихоновым наставлениям, как господину служить. У самого Тихона голова седая, прежней бойкости нет – готовит себе смену.
Князю Юрию Владимировичу отрок приглянулся, разрешил снисходительно:
– Пусть присматривается. Не век тебе с рушниками бегать, ноги-то уже немолодые. Будет тебе новая служба, достойная мужа.
Пообещал, но Тихона от себя пока не отпускал. Уютно было с ним Юрию.
Тысяцкий Георгий Симонович и старый воевода Непейца по-прежнему приходили к Юрию запросто, говорили нескованно. Старейшие ростовские вельможи полагали себя не ниже любого князя, держались с Юрием, как ровня, и это нравилось ему.
Ещё бесстрашный воевода Пётр Тихмень не переменился, остался прямым и упрямым, как прежде, если что не по его размышлению выходило, мог и с князем вежливо поспорить.
Но остальные...
Тяжела оказалась расплата за самовластие. Цена ему – одиночество правителя...
Казалось, обрёл Юрий в Кидекше желанную тишину и покой. Сидит перед широким окном своей любимой горницы под самой луковичной кровлей, бездумно смотрит на заречные дали. Тишина. Изредка доносится со двора пронзительный голос Ульяны.
Простучали копыта по жердевому настилу под воротной башней. Это сын боярский отъехал, прибегавший по делам из Суздаля.
Дела оказались мелкими, скучными. Мог бы дворецкий Ощера и сам решить, не докучая князю, но переосторожничал. «Надо пристрожить Ощеру, чтобы впредь понапрасну князя не теребил», – лениво подумал Юрий. Может, пристрожит он Ощеру, а может, и забудет. Пустячное это всё...
Скучно было Юрию, одиноко.
В военных тревогах, в коварных водоворотах межкняжеской усобицы прошлых лет мечтал Юрий о тишине. Но вот в лето шесть тысяч шестьсот тридцать четвёртое[104]104
1126 г.
[Закрыть] утишилось всё в Залесской Руси, и Юрий заскучал. Понял вдруг, что за непрестанными княжескими заботами упустил он столь необходимые любому человеку простые житейские радости – семейное устойчивое тепло, облегчающее душу дружеское общение, любовные омолаживающие волнения...
Сколько в жизни упущено, сколько неизведано!
Сам себя обездолил, сам!
Кликнул Ильку:
– Поди к огнищанину Корчоме. Спроси, когда боярин Василий наведаться обещал?
Прислушивался, как скатывается по лестнице бойкий Илькин топоток, а спустя малое время – приближающиеся тяжёлые шаги, тоже торопливые. Видно, Корчома счёл приличным самому доложить князю.
Задохнулся огнищанин, не сразу и слово сумел вымолвить, видно, тяжеленько ему по лестнице бегать. Но доложил коротко и внятно:
– Боярин обещался до обеда быть.
Вымолвил и застыл в ожидании: может, князь ещё что спросит.
Но Юрий мановением руки отпустил старого огнищанина...
Обедали вдвоём – князь и боярин Василий.








