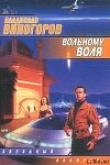Текст книги "Невероятно насыщенная жизнь"
Автор книги: Вадим Фролов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Из учителей нам больше всего понравилась Маргарита Васильевна – Маргоша, как ее в классе зовут. Она у нас классная руководительница, а преподает географию и очень интересно преподает – всегда у нее что-нибудь новенькое, чего и в учебнике нет. И потом почему-то на нее не хочется смотреть, как на учительницу, а скорее, как на старшего товарища – она все понимает и не задается и разговаривает с ребятами без криков и без всяких там «сю-сю-сю», по-товарищески, как с друзьями, но трепачей и задавал, по-моему, не любит. И правильно! И веселая она, а я думаю, раз человек веселый и умеет шутить и смеяться, значит, он человек хороший.
– Маргоша – золото, – сказала Татьяна, – и хи-итрая.
– Почему же она хитрая? – спросил я.
– Ну, она по-хорошему хитрая, – сказала Татьяна. – Она нас всех насквозь видит, а любит и уважает, но не «сюсюкает». Верно?
– Верно, – сказал я, – золото. У нее и волосы золотые.
– Ишь ты, – сказала Татьяна, – заметил.
А чего же тут не заметить? Я вообще все красивое замечаю.
– Заметил, – сказал я. – Я и не только это заметил.
– А что ты еще заметил?
– Кое-что заметил.
– Наблюдательный, – сказала Татьяна и усмехнулась. – А ты заметил, на кого этот… как его… Апологий похож.
– На змея, – сказал я, чтобы не ударить лицом в грязь, хотя почему на змея – и сам не знал.
– Ну уж, на змея, – сказала Татьяна, – на уис-ти-ти он похож, вот на кого.
– На кого, на кого?
– Уистити. Есть такая обезьяна. Она все время дергается, всех передразнивает, крутится и так и сяк, чтобы ее заметили, а сама такая несчастная, и когда ее не замечают – она горючими слезами заливается.
Не знаю, может, она и придумала такую обезьяну, но очень уж точно это к Аполошке подходило. Я засмеялся, но в душе мне почему-то даже жалко его стало. Уис-ти-ти!
Про Герку она только одно сказала:
– Сознательный-самостоятельный.
И тут я не понял, то ли она хвалит его, то ли ругает, а больше она о нем говорить не хотела. Вообще, и верно, может показаться, что мы сплетничаем и только чужие недостатки обсуждаем. Неправда это. Наоборот, мы решили, что ребята в классе хорошие, только их немного расшевелить надо.
– А кто мы такие, чтобы их расшевеливать? – спросил я, потому что мне пришло в голову, что мы их еще не знаем как следует – мы новенькие, а у них уже давно свой коллектив, а, как говорят, «со своим уставом в чужой монастырь не суйся». Я сказал об этом Татьяне, а она сказала, что поживем – увидим. А потом еще сказала, что вообще-то она зайцев не любит, то есть самих зайцев любит, а вот людей-зайцев нет. Не любит она еще врунов, подхалимов, трусов, ябед, подлецов, нытиков, задавал, воображал, хулиганов, эгоистов, пижонов, жуликов, деляг, зубрил, дураков, нахалов и тех, у кого «моя хата с краю» и «своя рубашка ближе к телу». Словом, всех, кого и не надо любить и которых я сам терпеть не могу, только я их не всегда распознать могу и довольно часто ошибаюсь, и это довольно обидно.
Я ей об этом сказал, и тут она меня огорошила.
– А ты, чтобы не ошибаться, – сказала она, – чаще на себя посматривай.
– Эт-то как п-понимать? – спросил я. – Эт-то что же? Значит, и я тоже?..
– Опять стихами заговорил, – засмеялась она.
Фу-ты ну-ты! Может, и прав был тот старичок, что я стихи сочиняю?
– Ладно, – сказал я, – ты не отговаривайся. Что же, значит, и я…
– Конечно, – сказала она. – Ну-ка, вспомни, разве ты никогда, например, не задавался?
– Вот уж нет! – возмутился я и сразу осекся. Задавался, да еще как. Например, в прошлом году, когда наша дворовая команда первенство района по хоккею выиграла. Как индюк по школе ходил!
– И никогда не трусил?
Я промолчал. Чего уж там. Я иногда только делаю вид, что не трушу, и лезу во всякие происшествия, а на самом деле…
– И не врал?
………………………………….
– И не пижонил?
………………………………….
– И не «химичил» чего-нибудь?
Она продолжала спрашивать, а я готов был хоть под стол залезть.
«Вот так-так, – думал я, – хорош, оказывается, ты, гусь, Семен Половинкин-Многодолькин. А еще берешься других людей обсуждать». У меня, наверно, была такая дурацкая рожа, что она вдруг перестала задавать свои вопросики, посмотрела на меня и начала хохотать так, что на нас все стали оглядываться.
– Ох, и выраженьице у тебя, – сквозь смех сказала она, – прямо как будто сейчас топиться побежишь. Да ты не расстраивайся. – Она вдруг вздохнула. – Ох, и трудно быть настоящим человеком…
Я как-то об этом никогда не задумывался; какой есть – такой и есть. Жил, в общем, как живется и не задумывался, кто же я такой на самом деле? Только вот, пожалуй, последнее время и стал задумываться, да и то не очень. И если бы не дядя Саша со своим хронометражем и со всякими другими воспитательными штучками, вроде разных книжек, и если бы не М. Басова со своими закидонами, и если бы не разные происшествия, которые что-то часто со мной стали случаться за последнее время, и если бы… И если бы да кабы… И сейчас тут эта Татьяна! Поневоле задумаешься. Я сидел мрачный-мрачный, и мороженое уже совсем не лезло в меня. А Татьяна ела как ни в чем не бывало и посмеивалась.
– Ну, чего смеешься? – пробурчал я. – Наговорила человеку шут знает что и смеется.
– А ты, кажется, ничего парень, Сеня, – сказала Татьяна. – Мне мой дед говорит, что, если человек начинает задумываться, какой он, значит, еще не все потеряно. Может быть, из него тоже гвозди можно будет делать.
– Какие гвозди? – удивился я.
– Стихи есть такие. Их дед мой очень любит. «Гвозди бы делать из этих людей…»
– …крепче бы не было в мире гвоздей? Да?
– Ага, – сказала Татьяна. – Знаешь?
По-моему, она тоже удивилась. А я подумал, что вот не иначе опять со мной происшествие – похоже, ее дед – тот самый старичок, который меня в магазине выручил. Но я ничего не сказал. Надо проверить, а потом, если это так, взять да и закатиться к старичку в гости – ведь он меня приглашал. Вот у Татьяны глаза на лоб полезут!
– Хорошие стихи, – сказала Татьяна. – А насчет разных ошибок, так они у каждого бывают. У меня их тоже – вагон и маленькая тележка. Так что ты не расстраивайся.
Ничего, хороший она «парень» – Татьяна. Я растрогался и вспомнил, что у меня в кармане так и лежит яблоко, которое швырнула мне обратно Машка. Я достал яблоко и протянул его Татьяне.
– О-о! Антоновка! – сказала она.
Она сказала это так вкусно, что я немножко повеселел и снова принялся за мороженое. И в самом деле, не такой уж я подонок; есть во мне и кое-что хорошее. Наверно, есть. Надо только… Но что «надо», я так додумать и не успел. За окном на тротуаре, прямо против нашего столика стояла Маша Басова и одним глазом смотрела, как мы уплетаем мороженое. Глаз у нее светился зеленым светом, как у семафора. Я даже вздрогнул от неожиданности, и мороженое с ложечки упало мне на штаны. Вообще-то я редко теряюсь, а тут почему-то здорово растерялся, как будто меня поймали на чем-то… на чем-то… Я уставился на Машу, а она вздернула подбородок кверху и, не оглядываясь, ушла.

– Ты чего в окно уставился? – спросила Татьяна.
– Так, – сказал я, – задумался.
– Ах, задумался, – засмеялась она, и я не понял – видела она Басову или нет.
Я вдруг заторопился. Посмотрел на летчиковы часы и сказал, что, пожалуй, пора домой, у меня еще дел невпроворот.
– Пошли, – сказала она.
Мы быстро доели мороженое и вышли. И некоторое время шли по Литейному и молчали. Потом Татьяна посмотрела на меня искоса и тихонько спросила:
– А как тебе Маша Басова? Нравится?
Я даже остановился, что она – мысли читает, что ли? Я начал было что-то мямлить: «да так», «ничего», «так себе», но тут же разозлился на себя – что я, в самом деле, и эту Татьяну боюсь – и решительно сказал:
– Нравится! А что?
– Правильно, – сказала Татьяна. – Она, по-моему, мировая девчонка.
– Ага! – сказал я.
– Я бы хотела с ней дружить, – сказала она.
– Правильно! – сказал я и подумал, что и верно было бы здорово, если бы такие две мировые девчонки подружились.
– Ну, разбежались, – сказала Татьяна, когда мы дошли до угла.
– Я провожу, – сказал я.
– Не надо, я на трамвай – до Мальцевского, – сказала она и протянула мне руку. – Спокойной ночи, Периодичкин.
– Спокойной ночи, Круглошарикова, – ответил я.
Рука у нее была маленькая, но крепкая и теплая.
Я бежал домой и думал, что вот с этой Татьяной совсем запросто можно обо всем поговорить, и пошутить, и посмеяться, а с Машей никак ничего у меня не получается: колючая она какая-то, как ерш. Я засмеялся: она – ерш, а я – репейник. Ну, раз репейник, так я от нее и не отцеплюсь! Вот такие пироги, как говорит дядя Саша.
Все это, весь свой день, я и вспоминал, лежа в кровати. А когда вспомнил, решил, что, в общем-то, все не так уж страшно. Надо быть только более организованным и уметь исправлять свои ошибки.
Да, а зачем это бате понадобился Венька Жук? Не забыть бы завтра спросить. А топиться я не собираюсь. Незачем мне это…
…На следующее утро я запросто сдернул с Мишки одеяло и пошел умываться. А когда вернулся, Мишка опять был под одеялом, закутанный с головой, как в спальном мешке. Я определил, где у него уши, и дернул через одеяло за ухо. Он чего-то забурчал.
– Встанешь? – спросил я.
– Отлипни, – заныл Мишка.
– Твое дело, – сказал я и пошел на кухню. В дверях обернулся и увидел, как Мишка от удивления высунул нос. «Удивляйся, удивляйся, – подумал я, – то ли еще будет».
Ольга почему-то встала самостоятельно, и мы с ней быстро позавтракали. Батю я будить не стал – на столе лежала записка: «Пришел поздно, буду спать до 12-ти».
– Выйди с Повидлой, – сказал я Ольге.
– Чего-о-о? – пропищала она. Но я не стал повторять и стал собирать портфель.
– Я опоздаю, – опять запищала Ольга.
– Не опоздаешь, – сказал я строго.
Она тоже очень удивилась, но взяла поводок и начала надевать на пса. Повидло тоже, по-моему, очень удивился: посматривал то на меня, то на Ольгу и даже повизгивал от удивления. Но я не обращал на них внимания и занимался своим делом.
Они ушли с обиженным видом. Маму я тоже будить не стал и направился в школу. «Приду с запасом, чтобы не опоздать», – решил я. Я уже был в дверях, когда из-за ширмы вышел отец в трусиках и в майке.
– Семен, почему Мишка не встает? – спросил он. – Заболел, что ли?
– А не знаю, – сказал я равнодушно.
– Ты что, не будил его? – удивился отец.
– Будил, – сказал я еще равнодушнее.
– Ну и что? – еще больше удивился отец.
– А ты его спроси, – сказал я.
– Гм-м, – промычал батя. – Интересный разговор. Что это с тобой?
– Ничего, – сказал я и пожал плечами. – Не маленький, пусть к дисциплине привыкает.
Батя внимательно посмотрел на меня и засмеялся.
– Ишь ты! Ну что ж, может, и правильно. Не будить, значит? Опоздает ведь.
– Раз опоздает, два опоздает…
– Ладно, попробуем, – сказал батя и махнул рукой.
– Ну, я пошел, – сказал я и тут же вспомнил, что не спросил про Веньку Жука. Но батя сам спросил у меня очень серьезно:
– Слушай-ка, что он за парнишка, Венька Балашов?
Ну что я ему мог ответить? Я сам его мало знаю. Если не считать двух-трех разговоров… Кто его знает, вроде ничего парень, только злой какой-то и похоже – затюканный.
– А что? – спросил я.
– Видишь, какое дело. Похоже, у него серьезные неприятности намечаются. Хотелось бы знать… – сказал батя задумчиво.
– Это что, я за ним следить должен, что ли? – спросил я. – Ты участковый, ты и следи.
– Ладно, – сердито сказал батя. – Сыпь в школу. А насчет «следить» вечером поговорим. – Повернулся и ушел за ширму. Рассердился.
А в самом деле, что, я на своих ребят капать должен, если у меня отец милиционер? Дудки! И пусть не обижается. А Венька что, Венька – парень как парень. Вон, даже Машка с ним дружить хочет. Правда, может быть, это она мне со злости сказала.
Во дворе я встретил Ольгу. Передник у нее был в пыли и нос в пыли, а коленки расцарапаны. Сама злая и чуть не плакала. А Повидло был ужасно виноватый и подлизывался к ней всячески.
– Ты чего? – спросил я.
– «Чего, чего», – сердито сказала она. – Не могу я с этим… Повидлкой гулять. Увидел на той стороне какую-то шавку – ка-а-к рванет. Я через барьер и через кусты перелетела. И на пу-у-узе через всю Моховую проехала. Вот теперь опоздаю из-за тебя.
Мне стало ее ужасно жалко, и я не выдержал. Взял у нее поводок, вытянул разок Повидло вдоль спины, ухватил Ольгу за руку и понесся с ней домой. Смазал ей коленки йодом, вымыл мордаху, заставил переодеть передник, помог портфель собрать, опять схватил за руку, и мы вместе понеслись в школу. И по дороге я думал, что опять у меня что-то не так получается. Мишка-то ведь еще дрыхнет. Несправедливо!
Уже совсем неподалеку от школы мне опять подставил ножку тот вчерашний парень с собачьими зубами и черными, как дырки, глазами. На этот раз я не упал – дерево помогло, я в него и врезался. А тип этот ухватил меня за плечо.
– Опять торопишься, Веснушка, – сказал он.
Дались ему мои веснушки!
– Беги, – сказал я Ольге. – Опоздаешь.
– А ты? – спросила она.
– Я сейчас, – сказал я.
Она побежала, но несколько раз оглядывалась. А у самой школы остановилась и некоторое время смотрела на нас. Видно, что-то ей не понравилось. Я махнул ей портфелем, и она нехотя пошла в школу.
– Ну, чего тебе? – спросил я у парня.
– Ты чего же уговор не выполняешь? – спросил он, оскалившись.
– Да ведь ты же сам ушел! – заорал я. – Я в садик вместе с твоим Фуфлой приходил, а тебя уже не было.
– А ты бы подождал, Веснушечка, подождал бы, – пропищал он. – Так вот давай-ка сейчас сгоняй. А я вон на том углу подожду.
– Да пошел ты! – сказал я. – Я в школу опаздываю. И что я тебе, посыльный, что ли?
Он стиснул мне плечо, как вчера, и тут уж я чуть не запищал. И в это время на той стороне улицы я увидел Веньку Жука, а он увидел меня с этим типом. Он остановился как вкопанный, а потом мне показалось, что он хочет драпануть – как-то он странно дернулся взад и вперед. В общем, явно испугался чего-то. Но потом довольно решительно направился к нам. И тут парень тоже заметил его. Он сразу выпустил мое плечо и уставился на Веньку. А Жук подошел как-то боком и стал рядом со мной.
– Приехал? – спросил он мрачно.
– Кто приехал? – пропищал парень. – А ты кто такой? Меня знаешь?
Голос у него был такой, что я вдруг испугался. Но Венька и бровью не повел.
– Чего тебе от него надо? – спросил он и кивнул на меня.
– А ты кто такой, – опять спросил парень, – чтобы меня допрашивать?
– Ладно, кончай, – отрезал Венька зло, повернулся ко мне и сказал: – Ты иди.
Я хотел кое-что спросить, но он так посмотрел на меня, что я пошел. На ступеньках школы я обернулся и подумал, не вернуться ли мне. Уж больно не понравился мне этот тип. Сперва Фуфло, теперь Венька и батя… Венька что-то говорил парню, и тот вроде спокойно слушал. Потом Жук махнул рукой, и парень пошел от него прочь. А Венька, словно раздумывая – идти ему или не идти, – нехотя направился в школу.
Глава третья
В вестибюле я глянул на часы: до звонка еще пять минут, и я решил подождать Веньку «Что-то тут странное, – думал я. – Жук этого парня знает, это уж точно. Может, ему действительно помочь надо. Уж очень он мрачно и расстроенно выглядел». – Венька вошел в вестибюль, и я спросил его:
– Ты этого типа знаешь, что ли?
– Никого я не знаю, – буркнул он и начал подниматься по лестнице.
– Слушай, он Фуфлу знает, – сказал я, шагая за ним.
Венька остановился.
– Чего пристал?! – сказал он сквозь зубы. – Отвали! – И побежал наверх.

А потом на всех переменах он сразу выходил из класса, и я нигде не мог его найти. На последний урок он и совсем не пришел. А в школе, если честно говорить, мне было, в общем-то, не до него, потому что уважаемая Маша Басова выкинула такой номер, что я даже растерялся. И не один, а целых три номера.
Во-первых, она пересела на другую парту. Ушла от меня. Устроила какой-то там обмен, в результате которого со мной рядом оказался ухмыляющийся Аполошка, а сама она уселась на первую парту со своим Герасимом-Германом – Г. А., как она его называет. То, что она пересела и со мной даже не поздоровалась, – это ее дело. А вот то, что я мешал ей заниматься, – это уже не только ее дело. Она сказала об этом Ренате Петровне (литература), когда та спросила ее, почему она пересела.
– Это правда, Половинкин? – строго спросила Рената Петровна.
– Правда, – сказал я. – Наверно, правда. Раз она говорит.
– Хорошо, что ты признался, но плохо, что ты, едва придя в нашу школу, уже начинаешь мешать. Учти, наша школа… – И минут пять она говорила о том, какая это замечательная школа, и как надо дорожить ее честью, и каким надо быть, чтобы стать достойным этой чести, и что она надеется – коллектив возьмет меня в работу.
– Я его возьму в работу, – сказал Апологий.
Все заржали, а Рената сказала, что ничего смешного нет и Феофилактов, хотя тоже новенький, но, кажется, серьезный человек.
– Я серьезный, – сказал Аполошка, – и я беру обязательство исправить Половинкина к концу первой четверти.
– Надо раньше, – сказала Рената Петровна.
– Я хотел сказать, – Аполошка поднял палец, – до конца первой четверти. До!
– Правильно! – сказала Рената Петровна.
У меня аж скулы свело от злости. Я стоял, как болван, и даже влепить этому трясучке не мог. А все ухмылялись, и Машка, по-моему, даже хихикала.
– Уис-с-с-с-тити! – прошипел я сквозь зубы.
Аполошка вначале сделал круглые глаза, а потом вдруг изо всей силы хлопнул меня по спине.
– Ты чего?
– В чем дело? – спросила Рената.
– Он подавился, – сказал этот змей.
У Ренаты от удивления брови спрятались под прическу.
– Чем подавился? – спросила она.
– Яблоком, – сказала уистити.
Тут уж Машка захохотала, а Рената Петровна еще минут пять читала мне мораль о том, как нехорошо есть яблоки на уроках.
«Ну, погоди, обезьяна лопоухая, – думал я, – ты у меня еще не так трястись будешь». И строил всякие планы и, конечно, ничего не слышал, что было на уроке, и схватил еще одно замечание. Но, несмотря на это, я твердо решил по шее этому змею больше не давать, а, наоборот, делать вид, что мне тоже очень весело.
Как только прозвенел звонок и Рената Петровна вышла из класса, ребята окружили нас с Аполошкой – думали, наверно, что будет небольшая драчка. Но я сказал Апологию:
– А ты ничего парень, веселый. Давай пять.
Аполошка здорово удивился.
– Ты молодец, – продолжал я, – остроумный. Вот бы мне так. А то я ненаходчивый какой-то. Вот ты бы меня и поучил – раз уж взял шефство, а? А то я совсем тюфяк какой-то.
Апологий полупал глазами, а потом захихикал от удовольствия. Поверил. Он похлопал меня по плечу и сказал очень важно:
– Положись на меня, Половинка. Со мной ты станешь человеком!
И я пожал его руку, а ребята смотрели на меня с сожалением. Решили, наверно, что я дурачок какой-то. А Машка даже кулаком по парте стукнула со злости и опять назвала меня не то Караваевым, не то Каратаевым. Она второй раз меня так называет – первый, когда я пришел к ней насчет Веньки Балашова поговорить, а второй – сейчас. Надо будет узнать у кого-нибудь, кто такой этот Караваев-Каратаев. Спрошу у дяди Саши, пожалуй. А уистити-Аполошку я и сам пе-ре-вос-пи-таю. И думаю, не я с ним, а он со мной человеком станет. А Маша… Маша… ну, что ж Маша…
Немножко меня утешило, что Татьяна на перемене подошла ко мне и сказала, что я вел себя совершенно правильно.
– Игон… игно-рируй, – сказала она.
– Что, что?
– Не обращай внимания, значит. Будь выше.
– Ага, – сказал я.
– С такими – так и надо. Тогда они отлипнут.

Я хотел ей сказать, что еще сделаю из этой уистити человека, но ее зачем-то позвал наш Великий Староста – Герасим-Герман-Герка – Г. А., и она отошла. Интересно, почему это я, кажется, начинаю злиться на этого Г. А.? Он ведь ничего мне не сделал, наоборот, даже и внимания на меня не обращает, будто меня и в классе совсем нет. Мне, конечно, на его внимание начихать, но почему-то я все-таки злюсь.
Я не успел про это додумать, как Маша Басова выкинула второй номер. Ко мне вдруг подошли Зоенька и Юлька – есть у нас такие волнистые попугайчики-неразлучники: все время парой ходят и чирикают.
– Сеня, – прочирикали они хором, – мы тебе что-то хотим сказать.
– Валяйте, – сказал я.
– Ты нам нравишься, Сеня, – сказали они и опустили глазки.
– Вот еще… – сказал я.
– Правда, правда, – сказали они, – ты очень, – они хихикнули, – очень-очень-очень… мужественный и добрый. И ты нам нравишься.
– Очень приятно, – сказал я.
– Мы тебя приглашаем в кафе-мороженое, – сказали они.
– Спасибо, – сказал я вежливо, – но я занят.
– Ах-ах-ах, – прочирикали они, – какая-какая-какая жалость! А мы так-так-так надеялись.
– Он стесняется, – услышал я за спиной чей-то ехидный голос.
Обернулся, а там стоит М. Басова и ухмыляется во весь рот. И я почему-то только сейчас заметил, что на глазу у нее нет повязки. Ничего, с двумя глазами она тоже выглядит неплохо. Даже лучше, чем с одним.
– Он стесняется, – повторила Маша.
– Но почему же? – хором прочирикали попугайчики.
– У него, наверное, нет денег, а мороженое он очень любит. Прямо жить не может без мороженого. Уж я-то знаю.
Ах, вот в чем дело. Ну, ладно, М. Басова, посмотрим, что ты сейчас скажешь. И когда Зоенька и Юлька, или Юленька и Зойка – как их там – пропищали хором, что раз они меня приглашают, значит, они и угощают, и что это необязательно, чтобы обязательно мальчик в наше время угощал, я сказал совершенно спокойно:
– Верно, верно, это Маша здорово заметила – я очень люблю мороженое. Прямо жить без него не могу. И я вас сам приглашаю в девятнадцать ноль-ноль в кафе-мороженое «Гном» на Литейном проспекте. Насчет денег не беспокойтесь – я угощаю. Маша, и ты, конечно, тоже приходи. – Я поклонился, как рыцарь какой-нибудь, и даже ножкой шаркнул.
Девочки раскрыли рты, а у М. Басовой глаза стали как щелочки и нос сморщился. Как будто сейчас чихнет.
– Будь здорова, – сказал я, и она, наверное, от неожиданности, действительно чихнула. Девчонки фыркнули, а я только зубы стиснул, чтобы не рассмеяться.
– Вы идите, – свирепо сказала Машка девчонкам. – А мне этому ррррыцарю паррру слов сказать надо.
Зоенька и Юлька, хихикая, отошли, а М. Басова надвинулась на меня, как грозовая туча.
– Опять твои штучки?! – зашипела она.
– Какие штучки?
– Такие!
– Я по-хорошему.
– Ты со всеми по-хорошему!
– Не со всеми.
– И всех яблоками угощаешь. Тебя мороженым, а ты яблоками… чужими.
– Почему чужими???
– Ты в «Мороженом» Татьяне мое яблоко отдал.
– Ты же его не взяла.
– Мало ли что!
– Знаешь, Басова, – сказал я, – ты, по-моему, все-таки… чокнутая.
На этом разговор кончился. Я опять нарочно поклонился – уж рыцарь, так рыцарь – и отошел. А потом обернулся и сказал:
– Так я жду в девятнадцать ноль-ноль. «Гном». Запомнила?
Она ничего не ответила, и я посмотрел на нее. У нее был какой-то странный вид: не то она заплакать собиралась, не то засмеяться. И она была такой… такая… что у меня даже сердце вдруг екнуло. Мне захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но я выдержал и ушел. «Один-один», – подумал я.
А третий номер, который она отколола, опять оказался в ее пользу, хотя впрочем, как считать…
На большой перемене в коридоре меня подозвали к себе Татьяна, Гриня Гринберг, Коля Матюшин и Петька Зворыкин. Они стояли у окна и о чем-то спорили. Когда я подошел, Гринька сразу спросил:
– Что ты все-таки думаешь насчет Веньки Балашова и его компании?
– Их надо в бараний рог скрутить, – сказал Петька Зворыкин.
– Шпаги наголо, господа, так, что ли? – спросил я, вспомнив, как Гриня кричал тогда в классе.
– А что ты предлагаешь, – закипятился он, – прощать им все, да? Машке фонарь подвесили. На Моховой проходу от них нет, а мы терпим!
– Из ста зайцев… – начала Татьяна.
– Хватит, – мрачно сказал Коля Матюшин. – Надо обсудить.
– Чего обсуждать! – завопил Зворыкин. – Собраться и врррезать им кэээк следует!
– Хвалилась синица море поджечь, – сказала Татьяна.
– Слушай, Шарова, – сердито сказал Гриня, – в самом деле, хватит нас пословицами удивлять. Не такие уж мы рохлики.
– Кто? Кто? – спросила Татьяна.
– Рохлики. От слова «рохля», – объяснил Гриша. – А ты, вместо того чтобы хихикать, предложила бы что-нибудь.
Татьяна стала сразу ужасно серьезной и сказала:
– Предлагаю организовать… С… О… Р.
– Чего, чего? – спросил Петька.
– СОР. Союз отважных рохликов, – сказала Татьяна.
Я засмеялся. Петька надулся. А Гриня сперва вроде обиделся, а потом махнул рукой и тоже засмеялся.
– Уж лучше БОР – боевой отряд рохликов, – сказал он, – а то СОР плохо звучит.
– Дремучий бор, – мрачно сказал Матюшин.
И тут все наперебой стали придумывать названия.
МОР – могучий отряд рохликов.
ЛОР – летучий отряд.
ГОР – гневный…
– Чепуха собачья, – сказала Татьяна. – «И как вы ни садитесь…»
– Опять пословицы, – сказал Матюшин.
– И почему собачья? – спросил я. – У меня есть собака…
И тут мне в голову пришла великая мысль: надо злить Повидлу. Натаскивать. Пусть рычит и показывает зубы. Клыки. Говорят, есть такие собаки, которые очень добрые, но охотятся на львов. Повидло – гроза Моховой! И пусть всякие шпаны берегут свои штаны! Ха-ха, опять стихи…
– Я не хотела обидеть собак, – сказала Татьяна. – Собаки…
– …лучшие друзья человека, – сказал Матюшин. – Мне надоели твои… цитаты.
– Шарова, – сказал Гриня, – дело серьезное, а ты к нему относишься несерьезно.
– А чего это ты заговорил, как наш великий староста Герасим? – спросил я Гриню.
– Между прочим, – сказал Матюшин, – не мешало бы и его позвать. Все-таки…
– Дудки, – сказал Петька Зворыкин.
– Он по этому поводу пять собраний проведет, – сказал я.
– И примет решение, – сказал Гриня, – пойти в штаб ДНД и спросить у них – что они смотрят.
– И получится пшик, – сказал Зворыкин.
– Пшик, – сказал я.
– Хватит пшикать, – рассердился Матюшин. – Решайте, что будем делать, или я пошел.
– Ага, – сказала Татьяна, – кажется, вы разозлились. Есть план.
– Ну? – сказали все мы хором.
– Нужно смеяться, – сказала Татьяна.
– Ха-ха, – сказал Зворыкин.
– Петьку мы исключаем, – сказала Татьяна.
– Почему?! – завопил Зворыкин.
– У тебя нет чувства юмора.
– У меня?!
– У тебя. Нет.
– Ну и ладно. Зато… я драться могу.
– Не драться! – строго сказала Татьяна. – Кулаки – это слабость. А мы сильнее. Мы будем смеяться.
– Я, кажется, тебя понял, Шарова, – сказал Гриня. – Ты молодец!
– А я что говорил?! – сказал я.
– Ты ничего не говорил, – сказал Матюшин, – ты только хлопал ушами.
– Ну и хлопал, – сказал я.
– Не отвлекайтесь, – сказал Гриня. – Изложи, Шарова.
– Мы будем смеяться, – сказала Татьяна. – Они – лопухи. И они от нашего смеха завянут.
– Гыы! – выдал Зворыкин. – Ты что… того?
– Петя, – ласково сказала Татьяна, – все знают, что ты в классе самый сильный, самый смелый, самый веселый и самый умный.
– Да брось ты, – сказал Петька, и рот у него разъехался до ушей.
– Да, да, – сказала Татьяна, – об этом даже в «Вечернем Ленинграде» писали.
Мы все заржали, и до Петьки, кажется, дошло. Он сказал:
– Ну и ладно. А я их бить буду.
– Или они тебя, – сказала Татьяна.
– Партизан-одиночка, – сердито сказал Гриня. – А как мы будем смеяться, Шарова? Хором или по одному?
– При любом случае и по любому поводу, – сказала Татьяна. – И хором и поодиночке.
– И будем мы называться РС, – торжественно сказал я.
– Как? – спросил Матюшин.
– Я знаю, – сказал Петька, – РС – это реактивные снаряды. Так «катюши» в войну назывались. Вззззз! Бумц!
– Ничего подобного, – сказал я, – РС – это рохлики смеются.
– Отлично! – сказал Гриня. – Но все-таки нельзя допускать партизанщины. Неорганизованной. Надо, пожалуй, согласовать это с пионерской организацией.
– Я согласую, – сказал я, вспомнив, кто у нас председатель совета отряда (М. Басова).
– Ох! – сказала Татьяна. – Уж лучше я согласую.
– Ах! – сказал я. – Не понимаю…
– А я понимаю, – сказал Зворыкин, ухмыляясь. – Он…
– Он будет у нас командиром, – быстро сказала Татьяна.
– Он новенький, – сказал Матюшин.
– А ты старенький, – сказала Татьяна. – Кто за?
Все подняли руки. Даже Петька. Он, в общем-то, неплохой парень.
– Кто против? – спросила Татьяна уже просто так.
– Я! – сказал кто-то сзади.
Вот так! Конечно, это была М. Басова. Я знал, что она в долгу не останется.
– Ты все слышала? – спросил ее Гриня Гринберг.
– Я ничего не слышала, – сказала Маша, – но вы его куда-то выбрали. А его нельзя выбирать.
– Почему? – спросил Гриня.
– Его никуда нельзя выбирать, – продолжала Басова. – Во-первых, он слишком добренький. А значит, он не будет требовать как следует. Во-вторых, у него… как это… а-мо-раль-ное лицо.
Еще новости! Лицо у меня как лицо. Разве только веснушки, будь они неладны. И при чем здесь мое лицо – в общественном деле?
– А что, обязательно красавчиком надо быть? – спросил я. – Как…
– Вот, – сказала Басова, – вы же сами видите, что, кроме всего, у него не хватает… как это… ин-тел-лек-та. Он не-ин-тел-лек-туальная личность.
Ладно, заведу себе записную книжку и буду записывать:
Эмоции (?)
Караваев-Каратаев (?)
Троянская война (?)
А-мо-раль-ное лицо (?)
Не-ин-тел-лек-туальная личность (?)
И какая разница между лицом и личностью – все узнаю! И научу этим словам своего Повидлу. И он ее – М. Басову растерзает, раздраконит в мелкие клочки и закопает их у Петропавловской крепости в глубокую-глубокую яму. А я посажу там репейник и раз в неделю буду приходить туда и рыдать. Не буду рыдать! Буду смеяться.
Этого всего я не сказал, а только подумал, но так посмотрел на Марию Басову, что она икнула. Ничего она не икнула, а продолжала как ни в чем не бывало. И сказала такое, что тут уж я икнул.
– Вчера, – сказала она, – я видела, как его за плечо вел милиционер! И что-то строго ему говорил. На Некрасова, угол Чехова. А милиционеры зря за плечо не водят.
Все посмотрели на меня.
– Вел? – спросил Матюшин.
– За плечо? – спросил Гриня.
– Влип? – спросил Петька.
Татьяна молчала.
– Влип, – сказал я, – вел, – сказал я, – за плечо, – сказал я и ушел. И даже не обернулся – так мне вдруг стало обидно. Сразу вспомнил ту девчонку в старой школе.
…12.15 – Ушел с уроков.
12.25 – Пришел домой.
Никого нет. Это хорошо.
12.25–12.26 – Поддал под зад Повидлу.
12.26–13.00 – Лежал на диване. Думал. Непроизводительно. Ну и шут с ним.
13.00–13.10 – Смотрел в зеркало. Лицо как лицо.
…Она как-то сказала, что будет дружить с Венькой Жуком. Ну и дружи, сказал я тогда, и правильно. Может, это ему поможет. Опять стихи: может – поможет… Гвозди бы из этих людей делать… А я, наверно, не гвоздь. Дал еще раз Повидле. Он удивился. Вот ведь что – удивился, а не обиделся, а я чуть… чуть… не заревел. «Репортаж с петлей на шее». Фучик бы не заплакал и вообще не так бы себя вел. Пойду-ка я к дяде Саше летчику. Поговорю с ним. С батей-то не больно поговоришь. Ему все некогда. У него – то тунеядцы, то «политурщики», то еще почище… Был бы летчиком или, как у Машки, профессором – тогда бы поговорили…