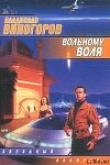Текст книги "Невероятно насыщенная жизнь"
Автор книги: Вадим Фролов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Вот уже и голуби виноваты. Ну, как это? «Чувство юмора должно…» Нет. «Чувство юмора самое…»
Я встаю со скамейки и иду домой.
…Папа сидит в кресле и читает толстую книгу.
– А, пришли? – спрашивает он. – Ну, как прошвырнулись?
Он иногда, особенно когда у него хорошее настроение, любит употреблять такие словечки, хотя и учитель.
– Папа, – говорю я, – я тебя очень люблю.
– Значит, хорошо прогулялись, – говорит папа, не отрываясь от книги.
– Папа, я тебя очень люблю, – повторяю я.
– А? – говорит папа и встает, аккуратно положив книгу на кресло. – Машка, Машка, что ты? – спрашивает папа и снимает очки.
А я не знаю, что ему ответить, не знаю, и все. Что-то со мной случилось за эти два дня, а что – я никак не могу понять. Я и злюсь на себя, и почему-то мне себя жалко, и еще какие-то трудные мысли вертятся в голове медленно и тяжело, как мельничные жернова. Какие-то серьезные и важные мысли: о людях, о жизни, о войне, о том, что люди почему-то умирают, о дружбе, о любви – в общем, обо всем. Но ни одной мысли я не могу высказать, потому что не подбирается слов – мысли какие-то бессловесные, а крутятся и крутятся.
– Что-нибудь случилось? – встревоженно спрашивает папа. – Где все остальные?
– Ничего не случилось, папа, – я стараюсь говорить спокойно, но чувствую, что голос у меня дрожит, – ничего не случилось, остальные едят… мо… мороженое.
– Вот оно что, – озабоченно говорит папа. – Ты, наверно, устала, иди отдохни.
Ничего я не устала, но я молча киваю и иду в свою комнату, сажусь на подоконник и смотрю в окно, и уже ничего не думаю, а так лениво сижу на подоконнике и смотрю в окно на машины, автобусы и людей. А они идут себе и идут…
Через некоторое время ко мне заходит папа. Он становится рядом со мной и тоже начинает смотреть в окно. А потом говорит задумчиво:
– Вот был у меня случай перед самой войной. Очень мне нравилась одна девочка из нашего класса. И однажды мы пошли с ней в Таврический сад. Детского катка тогда там еще не было, а мы – мальчишки и девчонки – катались на каналах и на пруду. А надо сказать, что катался я неважно, мне совсем недавно подарили коньки – были раньше такие коньки «английский спорт», – они привинчивались к обыкновенным ботинкам и выглядели как толстые металлические линейки. А у той девочки были «снегурочки» – сейчас таких тоже нет. Лед на каналах был плохой, вперемешку со снегом, но на таких коньках можно было кататься довольно сносно – у них были широкие лезвия. Ты слушаешь?
Я кивнула. Чудной он, папа; ну при чем здесь какие-то «снегурочки»?
– Ну вот. Девочка была очень хорошая, такая милая девочка, скромная, добрая и, знаешь, очень, очень хорошенькая. – Это папа сказал почему-то шепотом и сделал круглые глаза. – И я, конечно, старался как мог, чтобы не ударить лицом в грязь. Понимаешь, я только-только научился немного ездить назад, даже перебежка у меня немного получалась. Я и решил, – папа хмыкнул, – пофорсить. Ехал, ехал задом и посмотрел на нее. Вижу, она улыбается. «Ай да я, – думаю, – что за я!» Вдруг – раз! И очутился по пояс в воде. Там, оказывается, почти у самого берега была небольшая прорубь – я в нее и влетел. И стою, высовываюсь из этой проруби, как суслик из норы, и ничего не соображаю.
Я засмеялась. Папа, очень довольный, посмотрел на меня и тоже засмеялся, а потом вздохнул.
– Это мне сейчас смешно, а тогда – ой, ой… Кругом все хохочут, а она ну просто заливается… Я кое-как вылезаю из проруби, вода с меня течет, и выгляжу я, как жалкая мокрая курица, а она хохочет, и все мальчишки и девчонки хохочут, а один – это, понимаешь, был мой соперник – прямо ржет, довольный такой, и кричит мне, что, дескать, дофорсился, а сам раскатывается вокруг нее, а потом берет ее за руку и они уезжают, а я мокрой курицей бреду домой, и мне, естественно, попадает от мамы. И в довершение всего я, естественно, заболеваю, и никто не приходит меня навестить. А?! – Папа сказал это так возмущенно, как будто он только сейчас вылез из проруби. – Каково?! Просто жить не хотелось.
Хитрый у меня папка, но я-то все его хитрости вижу насквозь. И хоть этот случай совсем не похож на то, что сейчас со мной, мне все-таки становится немного полегче, наверно, оттого, что я чувствую, что папа желает мне добра.
Я еще немного посмеялась, а потом сказала:
– И совсем эта девчонка не добрая. Противная девчонка.
– Пожалуй, да, – задумчиво сказал папа, – пожалуй, да.
– Папа, а зачем полковнику самовар? – неожиданно спрашиваю я.
– Самовар? – удивился папа. – А-а-а! – Он вначале смеется, а потом становится грустным. – Видишь ли, – говорит он, – сам по себе самовар полковнику, пожалуй, не нужен. Это, так сказать… э-э-э… символический самовар, что ли. Ну, как тебе объяснить? Полковнику предлагают уйти в отставку… ну, на пенсию. Он уже совсем не молод, да и здоровье пошаливает. Но ведь он всю жизнь – военный; в армию пошел еще по комсомольскому набору. И ты представляешь, каково ему уйти в отставку. Это очень грустно – уходить в отставку. На пенсию и то грустно, а в отставку… Слово-то какое: от-став-ка… Ну, вот он и посмеивается над собой… скрепя сердце. Уйду, дескать, в отставку, отгрохаю себе дачу с тремя верандами и буду выращивать клубнику и малину. А потом, говорит, буду со своей старушкой сидеть в саду и пить чай с малиновым и клубничным вареньем. Из блестящего и пузатого самовара. И говорит, что из самовара чай, понимаешь ли, значительно вкуснее, чем из какого-нибудь паршивого чайника. Вкуснее… – Папа замолчал и задумался.

А я вспомнила одну картину, кажется, я ее видела в Русском музее. Сидит в саду за столом толстая и вся какая-то розовая, как поросенок, молодая тетка-купчиха и пьет чай. Блюдечко держит на пяти растопыренных пальцах и такая довольная – прямо млеет вся, а глаза выпуклые и блестящие, как у коровы, но выражения в них никакого – дура такая сытая, и больше ничего… Здорово нарисовано! Художник Кустодиев, по-моему. Вспомнила я эту картину и представила себе, как полковник сидит за пузатым самоваром и держит блюдечко на растопыренных пальцах. И глаза у него… Грустные у него глаза. Очень грустные.
А папа вдруг закричал так, что я даже вздрогнула:
– Ты можешь себе представить полковника в саду за самоваром?!
– Как купец, – сказала я. – Нет, не могу.
– Вот и я не могу, – говорит папа, сердясь, – хотя, наверное, чай из самовара, да еще с клубничным вареньем – это действительно очень, очень вкусно…
И папа вышел из комнаты. Но сразу вернулся.
– Да, – сказал он, – а что все-таки случилось?
– Ты про что? Про глаз? – спросила я.
– Ну, и про глаз.
– Это все ерунда.
– А что не ерунда?
– Па, – сказала я ласково, – ничего-ничегошеньки не случилось такого. Просто я, наверно, дура и чего-то не понимаю. Но я пойму, ты не беспокойся.
– Ну ладно, – сказал папа, почему-то повеселев. – Конечно, поймешь. – И он вышел.
А скоро пришли наши. Я слышала, как они там шумели и смеялись, и мне было немного обидно, но только немного, и не выходила я уже просто так, из принципа.
Потом в комнату зашла бабушка и сделала, наконец, мне примочку. Она ни о чем не говорила, а только напевала про себя арию из оперетты «Сильва». «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?..» Уходя, она сказала:
– Очень милый этот твой рыцарь – Сенечка. Очень, очень.
– Да какой он мой?! – заорала я.
– Только он немного странный. Какой-то… хм-м… толстовец, Платон Каратаев. Вот именно.
После бабушки появился Витька. И удивительное дело – совсем не ехидничал, а только покрутился по комнате, поглядывая на меня, и сказал:
– Ты, Машка, не волнуйся – глаз заживет, а этой жучино-фуфлиной компашке мы с ребятами еще покажем! А этот твой хахаль ничего! Только…

Я сделала шаг в его сторону, и он испарился. «Ну и ну! – подумала я. – Что же это такое? Навязался на мою голову этот белобрысый! Платон… как его… Каратаев. А кто такой Платон Каратаев?» Я была ужасно зла. Этому Семену я все-таки дам от ворот поворот. Решительно и беспощадно. Ишь вообразил!
Ну, конечно, заглянул и полковник. Он подмигнул мне и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не дала ему. Я сказала:
– Я знаю, о чем вы хотите сказать. Что этот Сенька хороший парень, только…
– Ну? – удивился полковник. – И совсем не это. Я хотел сказать, что если ты хочешь, можешь составить мне компанию на завтра. Я собираюсь на… фронт поехать. Поедем?
У меня даже сердце зашлось. Я, конечно, поняла, что полковник хочет проехать по тем местам, где он когда-то воевал, и это было бы очень здорово поехать с ним, но две причины помешали мне согласиться. Во-первых, он наверняка предложил мне это, чтобы подлизаться ко мне… Ну, не подлизаться, не так сказала, а ну, в общем, чтобы я не расстраивалась из-за сегодняшнего. Но это бы еще ничего – тут я могла и поступиться своей гордостью. Главная-то причина – это то, что завтра у меня классное собрание, и я обязательно должна на нем быть.
– Спасибо, – сказала я как можно более приветливо, чтобы он не подумал, что я поняла, почему он предложил мне это, – но я никак не могу – у меня завтра собрание. – И тут я вздохнула с сожалением. Мне и в самом деле было очень жалко, но что поделаешь…
– Жаль, жаль, – сказал полковник, и мне показалось, что ему действительно было жаль, – ну, в другой раз.
– Обязательно, – горячо сказала я.
В дверях полковник обернулся и сказал очень серьезно:
– А что? Он и в самом деле отличный парень, только… – и помахал в воздухе рукой.
Я, наверно, так посмотрела на него одним глазом, что он поднял руки вверх, потом покачал головой немного удивленно и вышел.
За обедом все болтали о чем угодно и со мной говорили, будто ничего и не было, и это было хорошо, а то мне уже надоело сердиться на всех и на себя.
Вечером папа с полковником ушли разыскивать еще одного своего товарища по фронту. Мама пришла поздно, и они с бабушкой о чем-то долго говорили в папиной комнате. А перед сном мама позвала меня к себе, и мы улеглись с ней в ее постель, как бывало в моем детстве, и долго, долго разговаривали. О чем разговаривали, я рассказывать не буду – мало ли какие дела могут быть у женщин. Но после этого разговора мне стало как-то тепло и уютно. А когда я уже собралась к себе, мама поцеловала меня и вздохнула.
– Ох, мало я тобой занимаюсь, доча, совсем мало… – сказала она.
– Ты не расстраивайся, – сказала я, – я ведь не очень плохая, да и папа мной занимается… с избытком. – Тут я тоже вздохнула, а мама засмеялась.
– Ма, – спросила я, – а кто такой Платон… Караваев?
– Караваев? – переспросила мама. – Наверно, Каратаев?
– Ага, Каратаев.
– Это у Толстого в «Войне и мире» есть такой солдат. Очень хороший и добрый. Даже слишком добрый. А зачем тебе?
– Так, – сказала я и пошла спать. И заснула сразу.
Глава третья
Значит, так. Собрание было назначено на одиннадцать, а я вышла из дому в девять. Решила немного погулять, подумать и прийти в школу пораньше, чтобы поболтать с ребятами. И, конечно же, сразу, как я только вышла из дому, начались приключения. Это просто невероятно, как мне за последнее время стало везти на приключения!
Стоило мне выйти, а в подворотне меня уже поджидают Фуфло и Хлястик. Веньки не было.

– Здорово, – кривляясь, говорит Фуфло. – Как глазик?
– А твой? – спрашиваю я.
– Ничего, – говорит он, – проходит.
– Ну, и у меня проходит, – говорю я и иду дальше, но дорогу мне загораживает Хлястик.
– Слышь-ка, – говорит он ласково, – если ты на Веньку в школе накапаешь, то мы тебе оба глазика… – И он тычет мне в лицо двумя растопыренными пальцами.
Я не из трусливых, но тут мне стало страшновато – у него был такой противный голос и такие жуткие зеленые глаза…
– Очень мне нужно на вашего Веньку ябедничать, – говорю я, храбрясь, а сама думаю, как бы убежать, – но раз вы так, то теперь это уже мое дело. Может, и накапаю…
Хлястик и Фуфло притискивают меня к стенке, и как назло никого нет. По улице идут прохожие, но сюда и не смотрят, да и кричать я не буду. «Ой, не идти мне сегодня в школу, – думаю я, – обязательно второй глаз подобьют».
– Ты сс-мотри, – шипит Фуфло и толкает меня в плечо.
– Только попробуй, – шипит Хлястик и толкает меня в другое плечо, и мне уже хочется зареветь во весь голос. Ужасно обидно! Какие-то подонки прямо. И когда я уже готова была зареветь, появляется собственной персоной, как чертик из коробочки… Семен! Ну, не сказка ли?!
– Привет, Маша, – говорит он и улыбается до ушей, – ты чего тут делаешь?
– Б-беседую, – говорю я.
– Мы беседуем, – злорадно ухмыляясь, говорит Фуфло и идет навстречу Семену. Хлястик тоже отстает от меня и тоже поворачивается к белобрысому.
– О чем? – спрашивает Семен как ни в чем не бывало.
– О погоде! – кричу я и даю дёру.
Мчусь до угла, заворачиваю за угол. Удрала, удрала! Ур-ра! Несусь по тротуару до следующего угла, потом… поворачиваю и мчусь обратно. Когда вбегаю под арку, вижу, что там уже никого нет, кроме дворничихи Светланы. Она подметает.
– Светлана! – кричу я. – А где мальчишки? Они только что здесь были.
– Аа-а, Машенька, – говорит Светлана. – Ну, как глазик?
– Хорошо, – говорю я, – где мальчишки?
– А-а, эти, – говорит Светлана, – да постояли, поговорили, посмеялись и ушли куда-то…
– Смеялись?! – кричу я.
– Ну да, – говорит Светлана немного удивленно, – а чего им не смеяться – такие шалопаи.
Я медленно выхожу из-под арки. Смеялись. Ха! Интересно. Прямо здорово интересно. Я-то мчалась его выручать, а он, оказывается, с ними смеялся. Правда, я не сразу бросилась его выручать, а сперва удрала, но потом-то все-таки бросилась. Позавчера бросилась – даже синяк заработала, – и сегодня бросилась! А он, видите ли, смеялся… А?
Я задумчиво иду по улице и задумчиво сажусь на скамейку в садике на Некрасова. Всегда я мимо этого садика проходила совершенно спокойно, а тут за три дня уже третий раз…
Потом я понемногу успокаиваюсь и только удивляюсь, чего это меня прямо заносит в этот садик? И чего это я думаю об этом Семене? Очень он мне нужен! «Всё!» – говорю я себе. Сегодня же, если, конечно, увижу его, а я почему-то уверена, что увижу, обязательно скажу ему раз и навсегда, чтобы он не попадался мне больше на моем жизненном пути, иначе… иначе он будет иметь дело с Г. А., а если надо, то и с другими мальчишками из нашего класса.
… По дороге я купила три больших гладиолуса. В школу пришла за пятнадцать минут до начала собрания и сразу же в вестибюле встретила Г. А. Он был очень красивый. Прямо невероятно красивый, как Жерар Филип в картине «Монпарнас-19». Я эту картину посмотрела в Ольгино – там в кино пускают и до шестнадцати тоже. Г. А. был в полосатом свитере, рукава он закатал до локтей. И еще на нем были японские джинсы с каким-то драконом на заднем кармане, а на ногах новенькие отличные кеды. Он стоит в вестибюле, такой красивый и мужественный и… и ждет меня. Я это ясно вижу. И я жалею, что надела школьную форму. Ведь хотела надеть свое новое платье, но передумала. А зря – почти все девчонки и мальчишки пришли как хотели, и девчонки, конечно, фу-ты ну-ты! Ну ладно, не это главное. Главное, что он ждет меня, а не кого-нибудь.
Я не спеша иду к нему.
– Чао, Гера, – говорю я весело.
– Здравствуй, – говорит он, не глядя на меня. – Я удивлен, – говорит он и смотрит куда-то поверх моей головы, – я позвонил тебе, как мы обговорили, а ты взяла и ушла. Где-то шаталась, – говорит он и смотрит уже прямо мне в глаза, вернее, в глаз, потому что второй-то у меня завязан.
– Гера, – сказала я, – я не шаталась. Я… бродила.
– Бродила? – спросил Гера. – Это, по-моему, совсем отлично. Она бродила!
Он был так возмущен, что мне стало стыдно, а когда мне становится стыдно, я сразу принимаю гордый вид.
– А я очень люблю бродить, – гордо сказала я.
– Так, – сказал Гера, – вместо того чтобы продумать и обсудить, как нам пригласить твоего полковника… Коля, Коля, иди сюда! Как с заметками? Ты подожди…
«Подожди» – это он сказал мне, а сам отошел с Колькой Матюшиным и стал с ним обсуждать что-то с ужасно деловым видом. Я, конечно, понимаю, что общественное должно быть выше личного – об этом нам толкуют чуть ли не с первого класса, но мне почему-то бывает всегда ужасно обидно, когда Г. А. забывает меня ради разных собраний, секций, мероприятий и заметок. Подумаешь, заметки – я и сама их пишу, но его-то я из-за них не забываю.
А впрочем, к лучшему. По крайней мере, хоть сейчас обойдусь без нотаций. Соберусь с мыслями и что-нибудь придумаю. Нет, врать я, конечно, не буду – я абсолютно не умею ему врать, а просто придумаю, как бы получше ему объяснить, что со мной случилось вчера. И я не стала его ждать, а пошла на третий этаж к нам в шестой, нет, теперь уже в седьмой «Б».
Зашла в класс, а там уже почти все, и конечно, стоит страшный шум и гвалт. Орут все сразу – каждому хочется похвастаться, как и где он провел лето и какие подвиги совершил. Помалкивают пока только новенькие, а их у нас, как мне сообщили Зоенька и Юлька, трое: два мальчишки и одна девчонка.
Ясно, что, как только я зашла, все сразу уставились на мою повязку.
– Чепуха, – сказала я, – соринка попала. – Одним глазом я посмотрела на Веньку – он сидел в углу ужасно скучный, но когда я сказала про соринку, мне показалось, что он немного взбодрился. Вот чудак, неужели он думал, что я наябедничаю?!
Я помахала рукой, дескать, все в порядке, и начала изучать новеньких.
Номер первый: длинный и скучный. Какой-то совершенно унылый мальчишка.
– Знаешь, как его зовут? – спросила Зоенька и хихикнула. – А-по-ло-гий! А?
Ну и ну! Понятно, почему он такой странный – все время трясется. И ни на кого не смотрит. Уселся в углу, трясется и что-то замышляет. Это я сразу поняла, как только Зоенька сказала мне его имя. Человек с таким именем должен быть зол на весь свет, а раз зол, значит, обязательно что-то замышляет. Правда, когда я потом рассказала об этом папе, он сказал, что я не имею права делать такие выводы. Родители назвали его так, значит, у них были свои соображения. Им – родителям – виднее. Они же его родили, а не ты.

Не хватало еще такого рожать! Сидит – трясется. И имечко – у-у-у! Жизнь, между прочим, показала, что я была права. Но это после.
Номер второй: очень приятная такая, полненькая девчонка с ямочками на щеках, и по-моему, веселая и умненькая.
– Тебя как дразнят? – спросил ее этот нахал Петька Зворыкин.
– Меня не дразнят, – сказала она, – но если ты хочешь знать, как меня зовут, то я тебе скажу. Конечно, если ты очень вежливо попросишь.
– Я не попрошу, – сказал Петька независимо, но я видела, что он растерялся, – скажите пожалуйста, фифти-фуфти!
– Чудак, – сказала новенькая, – у тебя очень плохое произношение. Надо говорить фефти-фюфти. Так, по крайней мере, говорят настоящие троглодиты. Понял?
– Какие еще… троглодиты? – сказал Петька обескураженно и отошел, махнув рукой. – С тобой… А ты…
Девчонка усмехнулась так хитренько и уселась на подоконник. Отличная девчонка. И прическа у нее отличная. Интересно, как на нее посмотрит Г. А.? Зоенька и Юлька на нее уже косятся, а мальчишки посматривают.
Третьего новенького еще не было. Гера появился вместе с Колей Матюшиным. Он сразу направился ко мне, и вид у него был такой, что я перетрусила. К счастью, в класс вошла наша славная Маргоша – Маргарита Васильевна, и все радостно заорали: все соскучились по ней, не только я. На столе уже стоял большой букет, а я про свои цветы совсем забыла: как вошла в класс – сунула их в парту и забыла. А тут, конечно, вспомнила, достала гладиолусы и протянула их Маргоше. Она взяла цветы и поцеловала меня в щеку, ребята заорали еще громче, а я за спиной услышала тихое: «Подлиза». Повернулась – ну, ясно, это Апологий. Стоит сзади, смотрит на меня невинными глазами и трясется. Я ничего не ответила, только посмотрела на него так презрительно…
Наконец все угомонились и расселись по своим местам, и Маргоша весело сказала:
– Ну, здравствуйте.
– Здравствуйте! – опять заорали все.
– Какие вы все стали большие, здоровые и красивые. Я очень рада вас всех видеть, – сказала Маргарита Васильевна.
– И мы тоже! – закричали мы.
– И вы тоже, – басом сказал Коля Матюшин и покраснел.
– Что тоже? – удивилась Маргарита Васильевна.
Коля почему-то ужасно смутился, махнул рукой и сел, а этот Апологий – он сел справа от меня за соседнюю парту, – выпучив свои масляные глазки, очень вежливо сказал:
– Он хотел сказать, – и он показал на Колю, – что вы тоже стали большие, здоровые и красивые…
Колька погрозил этой трясучке кулаком, а Маргоша засмеялась.
– Ну что ж, спасибо, – сказала она.
И все тоже засмеялись. А между прочим, наша Маргоша и верно большая, здоровая и красивая. Русая коса вокруг головы, румянец во всю щеку, а главное, очень добрая и умная. Я не помню, чтобы она на кого-нибудь крикнула или просто, как говорят учителя, повысила тон. (У нас была одна учительница, которая так и говорила, когда сердилась: «Вы хотите, чтобы я повысила на вас тон?») Не помню, чтобы Маргоша читала кому-нибудь нудные нотации, как некоторые. А вот умела сказать как-то, что все сразу становилось понятно – и какой ты хороший и какой ты ужасно, ужасно плохой. И действительно, становилось очень стыдно, если ты оказался плохим, и очень радостно, если ты был хорошим. И потом ей совершенно невозможно было врать. Она только посмотрит, улыбнется как-то грустно и, между прочим, немного презрительно, и ты готов хоть сквозь землю провалиться…
– Ну ладно, – сказала Маргарита Васильевна, – давайте поговорим, как мы будем жить, товарищи семиклассники. Это «товарищи семиклассники» она сказала так торжественно, что мы все стали ужасно гордыми.
– Отлично будем жить! – крикнул Гриня Гринберг и встал. – Как мы будем жить? – спросил он нас и поднял руку. Он махнул рукой, и мы все гаркнули:
– Отлично!
– Вот и прекрасно, – сказала Маргоша, – значит, нам и собрание проводить вроде незачем. Пойдемте погуляем.
– У-р-ра! – завопили все, но тут встал Г. А.
– Безусловно, мы пойдем и погуляем, – сказал он, – но все-таки мне кажется, что некоторые организационные вопросы мы должны решить сейчас.
– Правильно, – сказали хором Зоенька и Юлька.
Они всегда кричат «правильно», что бы ни сказал Г. А.
– Какие вопросы, Гера? – спросила Маргоша.
– Ну как же, Маргарита Васильевна, – сказал Гера немного даже укоризненно, – вы всегда говорили, что мы должны быть организованными.
– Говорила, – сказала Маргоша и чуть прищурилась.
Я еще давно заметила: когда она так прищуривается – значит, ей что-то непонятно или не нравится.
– А-а! Я поняла. Действительно – мы уже седьмой. Ответственность соответственно повышается. Мы должны переизбрать наши органы самоуправления. Так я тебя поняла, Гера? – Она сказала это очень серьезно, но мне показалось, что в глазах у нее скачут какие-то веселые зайчики.
– Так, – твердо сказал Гера.
– Он слагает с себя полномочия, – услышала я шипящий голос справа. Апологий! Ну… он получит!
Маргоша кивнула своей красивой головой, встала из-за стола и присела к Веньке на самую заднюю парту. Венька, как зверек какой-то, шарахнулся…
– Гера, начинай собрание, – сказала Маргоша.
Г. А. вышел и встал за учительский стол.
Я должна кое-что объяснить. Наша Маргоша отличная учительница, она знает свой предмет так, что мы, и даже самые умные из нас – Г. А., Гриня Гринберг, Зоенька, как ни странно, Петька Зворыкин (он математик), Коля и… мы всегда немного теряемся, когда она задает нам вопросы, между прочим, по программе, но зато нам всегда очень интересно.
Она почему-то преподает географию. Я бы хотела, чтобы она преподавала литературу. У нас литераторша так себе. «Что хотел сказать Пушкин этим своим стихотворением?» А я не знаю, что он хотел сказать. Да и никто, наверно, толком не знает. Сам Пушкин, наверно, не думал, что его будут проходить в школах. Мало ли что он хотел сказать! А вот читаешь его и совсем не думаешь, что он хотел сказать. Он сказал – и все. И все понимаешь. Ну, не очень-то и не всегда, но главное все-таки понимаешь… Папа о Пушкине вообще не может говорить спокойно.
– Я засыпал под Пушкина и просыпался под Пушкина, – говорит он. – И вот сейчас мне много лет, а я помню, как мама читала мне на сон грядущий «Руслана и Людмилу»… «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» И если ты будешь знать Пушкина – тебе захочется знать все!
И вот что интересно – по литературе у меня железная четверка. По грамматике – пять, а по содержанию всегда четверка.
– Басова, как всегда, в своем репертуаре, – говорит наша литераторша Рената Петровна. – Ей мало темы, которую утвердило гороно, ей обязательно надо высказать свои мысли. Это, конечно, неплохо, но надо их иметь, а Басова перепевает чужие, вычитанные из взрослых журналов. А там бывают всякие мысли. И в них даже мы, специалисты, иногда разбираемся с трудом. А ваше дело – программа!
Ничего я не перепеваю. Я просто стараюсь думать – так, по крайней мере, учит папа.
Но нашей Ренате – мы ее зовем «граната» – ей нужны только «взрыв». Она так и говорит: «Пушкин – это взрыв нашей поэзии. Горький – это взрыв нашей прозы». «Взрыв» – это она произносит вначале шипящим голосом, а потом – на «р» – она сама вз-з-з-р-р-р-рывается.
А литературу я очень люблю. Я думаю, что человек не может жить без нее. Без литературы и без чувства юмора. Но это не всегда и не у всех получается. У Ренаты Петровны, например, чувства юмора и не бывало. А у Маргоши – ого! Она – молодец, у нее сплошное чувство юмора – она понимает, что иначе с нами нельзя, иначе ничего не получится.
Я помню, как только Маргоша пришла к нам в класс и сказала, что будет у нас классной руководительницей, Петька Зворыкин заявил:
– Видали мы и не таких. (У нас до этого была довольно слабая классная руководительница, и мы творили, что хотели.)
– Не таких – видали, – сказала Маргарита, – таких, как я, не видали.
– Н-ну? – сказал Петька.
– Что сказал Гагарин, когда сел в свой корабль? – спросила она.
– «Поехали», – сказал Г. А.
– Правильно, – сказала она, – «поехали». А что вы знаете, например, о снежном человеке?
– Это неподтвержденная гипотеза, – сказал Гриня Гринберг.
– А я поеду на Памир! – крикнул Коля Матюшин.
– Баланда, – сказал Петька Зворыкин.
– Какое отношение это имеет к географии? – обиженно спросила Зоенька.
– А что такое Шхельда? – спросила Маргарита Васильевна.
– Гора, – сказал Г. А.
– Она имеет отношение к географии? – спросила Маргоша.
– Н-ну… – сказала Зоенька.
– А к чему она еще имеет отношение? – спросила Маргоша.
– Альпинисты на нее лазают, – вдруг сказал Венька.
– Точно, – сказала Маргоша, – а это имеет отношение к географии?
– Имеет! – крикнула я. – Имеет!
– Не так громко, – сказала Маргарита Васильевна, – но, в общем, я рада, что вы, кажется, меня поняли. Давайте выберем самоуправление.
Она сказала это, вышла из-за стола и уселась за парту, попросив подвинуться Веньку, с которым никто не хотел сидеть, потому что он всем мешал.
– А вы? – спросил Г. А.
– При чем тут я? – спросила Маргарита Васильевна.
– А кто же руководить будет?
– Ну, если вы очень ошибетесь, то я поруковожу, но вообще-то я считаю, что вы достаточно сознательны. Вот только кому вы поручите вести собрание?
Мы растерялись.
– Вот странно, – сказала Маргарита Васильевна, – вы же знаете друг друга лучше, чем я вас.
И тут поднялась Зоенька.
– Я считаю, – сказала она, – что старостой класса должен остаться Гера Александров. Вот пусть он и руководит собранием.
Мне тоже хотелось, чтобы Гера остался старостой класса и руководил собранием, потому что он очень справедливый и работоспособный – что ему ни поручат, он все выполнит, и даже если ему и не поручают, он сам берется за многое и все выполняет. Мы с ним работаем в тесном контакте – я ведь давно уже председатель совета отряда. Но когда об этом сказала Зоенька, я разозлилась и сказала, чтобы собранием руководил Петька. Все вначале удивились, а потом начали кричать:
– Петька! Петька!
Наверно, всем было интересно, что из этого получится, – ведь у нас раньше собранием руководили всегда учителя или старшие пионервожатые, а тут, пожалуйста, сами! И еще, конечно, всем было интересно, как новая классная руководительница отнесется к тому, что мы вдруг взяли и выбрали этого балбеса Петьку. А она очень спокойно сказала:
– Большинство голосов за Петьку. Покажись.
– Ну, я, – сказал Зворыкин, поднимаясь. Он немного растерялся, но все-таки нахально улыбался во весь рот.
– Петя, – сказала Маргарита Васильевна, – иди за мой стол и руководи. И не стесняйся.
– А чего мне стесняться, – сказал Петька и заорал: – Эй, вы! Тихо!
А Маргоша спокойненько сидела за Венькиной партой и совсем не мешала нам выбирать свои органы самоуправления. Только потом, когда уже все были выбраны, она встала и сказала, что главное – это чувство ответственности за порученное дело, а у кого нет такого чувства ответственности, тому лучше сразу отказаться.
Но все, кого куда-нибудь выбрали, закричали, что у них есть такое чувство, хотя, мне кажется, у некоторых его вовсе не было и кричали они за компанию. Но самое интересное, что в скором времени оно действительно у них появилось – почти у всех. Наверно, потому, что ребята друг другу не давали спуску. «Где твое чувство ответственности?» – кричали все, и волей-неволей тебе приходилось выполнять. А Маргоша с тех пор на всех наших собраниях садилась где-нибудь в сторонке и помалкивала, только иногда, когда чересчур увлекались, она нас поправляла, но так, что мы этого почти не замечали.
…Вот и сейчас она села к Веньке, а Гера стал руководить собранием. Он это здорово умел, и все шло как по маслу, быстро, потому что всем хотелось погулять с нашей веселой Маргошей. И все бы кончилось совсем хорошо, если бы Г. А. вдруг не сказал, что он хочет поговорить еще по трем вопросам. Все закричали – какие там еще три вопроса, все ясно и т. д. и т. п. Но Г. А. железно настаивал, и Маргарита Васильевна поддержала его.

Но только Гера открыл рот, чтобы выложить свои три вопроса, в дверь постучали, и вошел третий новенький. Вы уже, конечно, догадались, кто это. Я даже не очень удивилась – от этого ненормального телепатика всего можно было ожидать.
Он вошел и вежливо сказал:
– Здравствуйте. Вы извините, что я опоздал. У меня домашние дела.
Все удивленно посмотрели на него, а он улыбнулся так дружелюбно и сказал:
– Я новенький. Меня Семеном зовут. Семен Половинкин.
– Проходи, Сеня, – приветливо сказала Маргоша.
Семен огляделся по сторонам, увидел меня и не удивился, как будто он знал, что я именно в этой школе и в этом классе учусь. И как нарочно, сама не знаю почему, я на этот раз сидела одна, и, конечно же, он сразу подошел к моей парте и уселся как ни в чем не бывало, да еще подмигнул мне и сказал так, что все слышали: