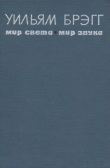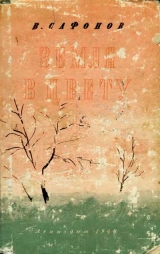
Текст книги "Земля в цвету"
Автор книги: Вадим Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
МУХИ ПРОФЕССОРА МЕЛЛЕРА
Он показал нам массу красивых разноцветных мух.
Путешествия Гулливера.
Меллер был ученик Моргана.
Он работал в лаборатории с неутомимым рвением. И от пробирок, в которых копошились дрозофилы, Меллер ждал разрешения загадки наследственности, загадки изменчивости, загадки управления формами и многих других загадок.
А для всего этого нужно было добраться до вещества наследственности. Только средства, чтобы добраться до него, полагал Меллер, должны оказаться не простыми, а чрезвычайными.
И Меллер придумывал весьма причудливые способы, чтобы изменить наследственную природу крылатых пленниц в своих пробирках. Однажды он направил на них рентгеновские лучи. И от мух, побывших в зеленоватом пучке рентгена, пошло необычайное потомство. Среди копошащихся мельчайших, словно точки, мушек в сильную лупу можно было рассмотреть мух с белыми и киноварными глазами, мух с черным телом, с загнутыми крыльями, почти вовсе без крыльев.
Это произошло в 1927 году. В атом году все дрозофилы мира, все это многомиллионное мушиное население, выведенное генетиками в их пробирках: мухи-«толстобрюшки», мухи со «слоновыми» глазами, мухи с «оленерогими» крыльями, мухи-«таксы», мухи-«запятые», мухи-«телескопы» – все они могли чувствовать себя именинницами. О них писали не только ученые журналы генетиков, но и газеты во всех странах – утренние и вечерние, серьезные и легкомысленные.
Это была одна из самых больших сенсаций за все время существования науки генетики.
Меллер сумел ворваться в неприступную цитадель наследственности!
Началась полоса самых неожиданных опытов, в подражание меллеровокому. Генетики чувствовали себя начальниками осадных башен. Они действовали теперь настоящими таранами, чтобы пробить бреши в крепостных стенах наследственности. Один вызывал изменения в потомстве дурмана с помощью радия. Другой заставлял личинок дрозофилы париться в душной бане. Третий пробовал на мышах ультрафиолетовые лучи. Четвертый морил своих подопытных животных крепчайшими ядами. Пятый предлагал рентгенизировать пшеницу.
– Мы вызовем целый фонтан изменчивости. Вот тогда-то мы и получим все, что нам нужно. Мы выведем любые сорта, самые изумительные. Например, такие, какие будут расти прямо в песках пустыни или на вечной мерзлоте.
Популярные статьи советовали внимательно читать выходящие номера журналов, чтобы не пропустить ожидающегося сообщения о новом виде живых существ, созданном посредством рентгена или эманации радия.
Это сообщение так и не появилось. Годы шли, а биологам приходилось рассказывать на лекциях все о тех же мухах профессора Меллера, относя предстоящую коренную перестройку всех домашних животных и полевых растений ко все более неопределенному будущему.
Однообразие этих постоянно повторяемых и никак не сбывающихся пророчеств постепенно утомило самих пророков. Восторги стали казаться искусственными. Дело, очевидно, не было таким простым, как это представлялось вначале. Некоторые решались робко выразить сомнение:
– Ну, а все-таки, какую новую, замечательную породу, гордость мушиного мира, создали рентгеновские лучи? Все эти «белые глаза», «киноварные глаза», «загнутые крылья» – по большей части безнадежные уродцы. А значительная часть измененных мух изменилась настолько основательно, что даже и вообще потеряла способность жить: ведь недаром у Меллера множество мух вовсе не вылупилось из яйца…
И в самом деле, направляя на пробирки свой зеленоватый сноп, Меллер и сам не знал, что из этого произойдет; получив своих измененных мух, он не мог ответить на вопрос, почему одна изменилась так, а другая этак.
Все было, как в старой сказке: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».
И многим стала в голову закрадываться мысль, что, пожалуй, напрасно на американских мушек, принявших рентгеновский душ, возлагались такие радужные надежды:
– По этому же способу можно пробовать починить часы. Вы берете часы и кидаете их о пол. Очень может быть, и даже скорее всего, что часы у вас при этом разобьются. Но не теряйте надежды, что у каких-нибудь часов когда-нибудь винтики и колесики от удара расположатся так, как их не мог бы поставить искуснейший часовщик, и часы у вас пойдут на славу!

РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ НАУКИ
ВСЕСОВЕРШЕННАЯ ТУФЕЛЬКА. ЕЩЕ О НАУКЕ-КАРЛИЦЕ И НАУКЕ-ВЕЛИКАНЕ
Они владели искусством объяснять конкретное при помощи абстрактного, действительное при помощи его тени, искусством систематизировать небольшое число поспешных, пристрастно подобранных наблюдений и в своих перегонных кубах извлекать из них законы управления вселенной.
Ромен Роман, Клерамбо.
В те времена, когда первые генетики еще чувствовали себя Колумбами, открывшими Америку, среди мендельянцев двое особенно похвалялись своим неодобрительным отношением к дарвиновской теории эволюции. Это были немецкий генетик Лотси и английский генетик Бэтсон.
– Мираж рассеялся, – заявили они. – Это можно доказать, как геометрическую теорему. Очевидно, что ничто на свете не в силах создать новых наследственных зачатков. Животные и растения изменялись потому, что смешивались и по-разному комбинировались зачатки, сотворенные на заре времен. Ибо жизнь подобна игре в карты, и основной биологической наукой следует считать математическую дисциплину – комбинаторику, науку о сочетаниях. Таким образом, мы возвращаемся к великому Линнею, который сказал: «Видов существует столько, сколько создало их вначале бесконечное существо». Нужно только в этом превосходном и благочестивом изречении слово «видов» заменить словами «наследственных зачатков».
Бэтсон, впрочем, полагал, в согласии с некоторыми своими коллегами, что «на заре времен» наследственные зачатки были созданы из не слишком доброкачественного материала. И многие из них с тех пор разрушились. Так что мир теперь беднее зачатками, чем был прежде.
Вот и все объяснение эволюции, которая так занимает этих дарвинистов! Эволюция происходила, потому, что зачатки смешивались и тасовались, как карты, а также потому, что творец работал довольно небрежно.
Организмы теряли то тот, то иной зачаток и, конечно, изменялись.
Но «на заре времен», как известно каждому школьнику, жили только микроскопические живые существа, похожие на амеб. А все растения, животные и люди появились позднее.
Что из того? Бэтсона, Лотси и их единомышленников это вовсе не смущало. С несокрушимой логикой они сделали вывод: значит, самые сложные живые существа – амеба и инфузория, а самое простое – человек. И эволюция хотя с виду и происходила, но на самом деле ее не было вовсе. Просто забавная история о том, как рассеянные туфельки и амебы растеряли почти все зачатки из корзинки, которую им дал добрый бог, выпуская их гулять.
Простейшая амеба и туфелька – сложнее, чем человек! Мир, поставленный на голову!
Это что же: «не любо – не слушай…»? Но Бэтсон и Лотси вовсе не острили. Они воевали. Они насмерть бились с материалистическим объяснением эволюции. Вот в точности, что они писали:
«Может быть, у парамеции (инфузории-туфельки) уже передавалась из поколения в поколение генетическая вещь, обладавшая способностью сделать хвост живого вьющимся или зубы его тупыми, но за отсутствием хвоста и зубов эти вещи должны были дожидаться своего времени».
Книжки немецких и английских генетических журналов, где печатались рассуждения Бэтсона и Лотси, приходили в Москву. Там читал их худой, высокий человек, с крутым могучим лбом и острой бородкой.
– Кудрявость несуществующих хвостов и тупость несуществующих зубов у туфельки! – бормотал он, и прекрасные голубые глаза его гневно сверкали. – Какие-то зачатки-тормозители, зачатки-кнопки, которые, пока их не нажало время, мешали проявиться всем этим зубастым и хвостатым зачаткам! Двадцатый век! Передовая наука! Как бы нажать ту кнопку, что тормозит собственный умственный механизм этих воскресших схоластов, которые того и гляди порадуют нас новыми процессами ведьм!
Он взял лист бумаги и склонился над ним. Из-под пера его выходили слова: «дарвинизм», «ламаркизм», «мильярдеизм», «менделизм», «наследственность простая», «наследственность сложная». Человек с обликом рыцаря сопоставлял эволюционное учение и пристройки к нему – многочисленные теории, которые касались отдельных сторон процесса развития, изменчивости, наследственности.

Вдруг он расхохотался и бросил перо Климент Аркадьевич Тимирязев, знаменитый профессор Московского университета, самый замечательный ботаник мира, поднялся со стула.
– Одна тысяча сто пятьдесят вторая! – сказал он, все еще смеясь и держа за уголок лист со своими наполовину в шутку, наполовину всерьез сделанными расчетами. – Вол что-с, ничтожная дробь: 1/ 1152. Это все-с, на что могут претендовать менделисты в обширном поле фактов, которое возделывает дарвинизм. Истинная мерка их роста!
Он своими глазами видел Дарвина. И навеки врезался ему в память живой образ великого старца, ни с чем не сравнимое соединение почти мужицкой простоты, какой-то зоркой важности с львиной мощью в чертах его лица. Еще только один раз встретил Тимирязев такое соединение: в лице Льва Толстого.
Дарвин был тогда уже очень слаб, семья оберегала его от назойливых посетителей. Но к Тимирязеву он вышел, тяжело сел в кресло, и небольшие глаза ею остро и внимательно рассматривали из-под нависших бровей молодого русского ботаника, добравшегося до Дауна, до этого тихого провинциального пристанища, где Дарвин укрылся от своей шумной славы.
«Пойдемте, я вам покажу». И так же тяжело хозяин поднялся с кресла. В дверях ручная белка прыгнула к нему и взбежала по рукаву к его белой бороде.
Он повел гостя в теплицу. Там стояли горшочки со странными растениями. Листья, покрытые слизистыми волосками, сжимались, как кулаки, когда старческие, чуть согнутые, с припухшими суставами и с плоскими ногтями пальцы осторожно вкладывали в них кисочки мяса или мелких насекомых. То были насекомоядные растения, предмет одного из последних изысканий Дарвина, зеленые хищники, пожирающие живых существ и переваривающие их так, как переваривает пищу желудок животного. Растения, настолько удивительные, что до исследования Дарвина многие ботаники отрицали самое их существование. И вот в даунской теплице Тимирязев видел их воочию – живое, наглядное свидетельство единства жизни, общности основных жизненных явлений в животном и растительном мирах.
Дарвин спросил своего гостя, чем он занимается. Тогда тот рассказал, о чем неотступно думал со времени своего студенчества – о создании живого, при помощи света, в зеленом растении. Снаружи, за стеклянными рамами теплицы, тихо колыхались тяжелые ветви. Дарвин смотрел туда.
– Да, хлорофилл, – задумчиво выговорил он, – это, быть может, самое интересное из органических веществ…
И он тоже думал об этом! В тот миг было так, будто, уходя из жизни, он благословил труд и бесстрашную мысль молодого русского ученого.
Тимирязев попрощался с Дарвином. На прощанье старый натуралист говорил о стране, из которой молодой гость приехал сюда. Эти слова врезались Тимирязеву в память.
– Вы встретите здесь, – говорил Дарвин, – много слепых людей, которые только и стараются вовлечь Англию в войну с Россией. Но будьте уверены, что в этом доме симпатии на вашей стороне, и мы каждое утро берем в руки газеты с желанием прочесть известие о ваших новых победах.
Россия воевала тогда с Турцией.
Так закончилась встреча натуралистов двух поколений, двух стран, двух великих натуралистов.
Давным-давно умер Дарвин, человек очень скромный и очень строгий к себе. Когда была опубликована его автобиография (он писал ее для семьи, для детей и сам ни за что бы не согласился на опубликование), в ней прочли слова: «Я не чувствую за собой какого-нибудь большого греха, но часто сожалел, что не принес более непосредственной пользы своим собратьям».
Нет среди нас и Тимирязева. Но для нас Тимирязев – не прошлое, не вчерашний день. Он наш современник. Он дожил до великой нашей эпохи. Он успел поработать среди тех и вместе с теми, кто строил наше общество, наше государство.
В Октябрьские дни 1917 года 74-летний ученый, член знаменитейших академий мира, сразу стал на сторону восставшего народа. Для него это был логический вывод из всей его жизни, его работы, его науки. Социалистическую революцию он принял как праздник, как радость, как осуществление самых заветных своих надежд. У него не было ни дня, ига часа колебаний. Он нес во всей чистоте всю великую культуру человечества, но «груз старого мира» не отягощал его плеч.
Рабочие вагонных мастерских Московско-Курской железной дороги избрали его депутатом Московского Совета; тогда он написал в Московский Совет замечательное письмо, напечатанное затем на многих языках: «Итак, товарищи, все за общую работу не покладая рук, и да процветет наша советская республика, созданная самоотверженным подвигом рабочих и крестьян и только что у нас на глазах спасенная нашей славной Красной Армией!» Так заканчивалось это письмо.
Он был избран членом Социалистической академии, председательствовал в Ассоциации натуралистов рабочих-самоучек, вошел в Государственный ученый совет.
И продолжал работать над своей могучей наукой о живой природе, писал новые книги, в которых были горячие отклики на общественные события и страстно пропагандировалась эта наука.
Жизнь и труд, жизнь и дело жизни – эти понятия были для Тимирязева равнозначны. Он работал до конца. Предсмертная болезнь вырвала у него из рук перо, которым он дописывал предисловие к книге «Солнце, жизнь и хлорофилл».
В последние часы свои он получил письмо от Владимира Ильича Ленина. Ленин прочел книгу Тимирязева «Наука и демократия», присланную ученым, и писал:
«27 апреля 1920 г. Москва.
Дорогой Климентий Аркадьевич!
Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!
Ваш В. Ульянов (Ленин)».
У постели умирающего ученого находился врач-коммунист Б. С. Вейсброд. Тимирязев сказал ему:
– Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм. – я верю и убежден, – работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелание дальнейшей работы для счастья человечества.
Эти слова мы читаем сейчас на памятнике в Сельскохозяйственной академии, носящей славное имя Тимирязева.
Его сердце перестало биться в полночь с 27 на 28 апреля 1920 года.
Перед Великой Отечественной войной было издано по решению правительства Советского Союза собрание сочинений Тимирязева. Последние томы выходили тогда, когда на Западе уже запылал военный пожар, зажженный разбойничьим гитлеровским империализмом.
И мы тогда по-новому перечитали страницы, написанные Тимирязевым во время войны 1914–1918 годов. Он разоблачал чудовищную пропаганду расовой ненависти. Какие гневные слова он находил, чтобы бичевать «тех, чья специальность – спускать с цепи демона войны»! Ложь, «ложь во всех видах» – вот ядовитое оружие поджигателей войны. Обрекая на муку, на смерть миллионы, они и свой собственный народ «с завязанными глазами» толкают в пропасть.
В июне 1917 года, в том самом июне, когда большевики повели за собой в Петрограде четырехсоттысячную демонстрацию народных масс и красные знамена вселили страх в сердца министров правительства Керенского, 74-летний ученый печатает статью «Красное знамя».
Он обращается в ней к измученным народам половины Европы, стонавшим под гогенцоллерновским сапогом, он обращается и к другим, тоже измученным, постоянно продаваемым, постоянно предаваемым, жестоко и бесстыдно эксплоатируемым и обманываемым народам в странах лживой, так называемой «западной демократии». «Воспряньте, народы, – призывает Тимирязев, – и подсчитайте своих утеснителей, а подсчитав – вырвите из рук нагло отнятые у вас священнейшие права ваши: право на жизнь, на труд, на свет и прежде всего на свободу, и тогда водворится на земле истина и разум, производительный труд и честный обмен их плодами».
Вот кем был Тимирязев. И вот почему мы говорим, что для нас он – не прошлое, не вчерашний день, а наш современник.
Голос Тимирязева звучно и ясно доносится до нас.
В очень многих своих научных воззрениях Тимирязев опередил свое время. В книгах его есть страницы, смысл которых полностью раскрылся только сегодняшней науке. А есть и такие страницы, которые, несомненно, укажут путь и науке завтрашнего дня.
Тимирязев и сейчас – участник строительства нашего естествознания. В спорах и дискуссиях, возникающих в нашей биологической и сельскохозяйственной науке, спорящим сторонам то и дело приходится убеждаться, что Тимирязев уже обдумывал многие вопросы, казалось бы, вставшие только что впервые.
«Всем исследователям, которые обращаются ко мне, – говорит академик Т. Д. Лысенко, – рекомендую читать в первую очередь побольше и повнимательней Дарвина, Мичурина, Тимирязева. Я сам чрезвычайно часто перечитываю из них те или иные места при всякой заминке, при всякой трудности».
Дарвин, Тимирязев, Мичурин! Эти имена в нашем сознании не случайно звучат рядом.
Живы непосредственные ученики и сотрудники Тимирязева. И кто сосчитает учеников его учеников – академиков, профессоров, селекционеров, агрономов, колхозников-опытников? Великий ученый живет в работах советских биологов, ботаников, физиологов растений, в самой передовой в мире советской сельскохозяйственной науке, создающей новых животных и новые растения, науке, которая древнюю власть земли заменила в нашем Советском государстве властью над землей. Он положил ей начало. Ведь его называли «патриархом русской агрономии».
Вот почему неразрывна связь между нашим сегодняшним днем, нашей наукой и Климентом Аркадьевичем Тимирязевым.
А в том, другом «стане», с которым боролся, который клеймил Тимирязев… Он говорил о возможности новых процессов ведьм – мы стали свидетелями «обезьяньих процессов», уголовного суда над эволюционным учением в Америке. В страшных судилищах гитлеровской Германии экспертами, инквизиторами выступали ученые – специалисты по «арийской чистоте». Чудовищный бред расизма раздувал огонь в адских печах Треблинки и Майданека.
Мы стали свидетелями, как потом, после разгрома немецкого нацизма, этот чудовищный бред перекочевал за океан и нашел приверженцев среди фашиствующих поджигателей новой войны, стремящихся навязать миру «новый американский порядок».
И мы увидели еще, как «исты» и «логи» привели к измельчанию биологии в «ведущих» странах «англо-саксонской демократии», на деле осуществляя мысль: «наш век – не век великих задач».
И как из рассуждений о неприкосновенности «зачатков» извлекаются ненависть к человеческому творчеству и отвратительные теории племенного человеководства…
КАЛИФОРНИЙСКИЙ КУДЕСНИК
Если немного познакомишься с учеными, замечаешь, что они наименее любопытные из людей. Находясь несколько лет назад в одном большом европейском городе, который я не назову, я посетил музей естественной истории в обществе одного из хранителей, который с чрезвычайной любезностью описывал мне окаменелости. Он сообщил мне об очень многом, вплоть до плиоценовых слоев. Но когда мы оказались перед первыми следами человека, он отвернулся и ответил на мои вопросы, что это вовсе не его витрина. Я понял мою нескромность. Никогда не надо спрашивать ученого о мировых тайнах, не находящихся в его витринах. Это его вовсе не интересует.
«Сад Эпикура».
В то самое время, когда Лотси и Бэтсон воспевали всесовершенство туфельки и доказывали невозможность пересоздания живых существ, весь мир был полон славой человека, в руках которого природа была, казалось, как мягкий воск.
Кто был этот человек? Он не имел научных степеней, нетвердо разбирался в генетических формулах и вовсе не верил в вещество наследственности, бессмертное и неприкосновенное. Вот почему Лотси и Бэтсон не только не признавали в этом человеке достойного себя противника, но и совсем не замечали его существования. Но зато Климент Аркадьевич Тимирязев считал его работы крупнейшим событием в биологии и куда больше интересовался ими, чем всеми хитроумными рассуждениями о зачатках вьющегося хвоста у инфузорий.
Человек этот был Лютер Бербанк. В его саду в Калифорнии цвели черлые розы, синий мак, маргаритки с блюдечко величиной, кактусы росли без шипов, как гигантская капуста, к столу подавали «солнечные ягоды», каких не видел до того ни один садовник, и душистые сладкие плоды, созревшие на паслене и бузине.
Бербанка называли «калифорнийским кудесником». Он и сам ничего не имел против легкой дымки таинственности вокруг себя. Сын фермера из Массачузетса, потолкавшийся немало по разным штатам Америки, он обладал как раз той цепкостью, какая нужна, чтобы тебя не сбили с ног и не растоптали в волчьей «войне всех против всех».
Разбогатев, он учредил «фирму». Фирме полагается иметь секреты, а товар ее должен быть вне конкуренции. В строгой тайне, словно за плотной завесой, рождалась каждая новинка Бербанка. И лишь немногие посетители получали доступ в волшебный сад в Санта-Розе.
Тех, кого допускали туда, встречал хозяин – пожилой, безукоризненно одетый джентльмен в мягкой шляпе и высоком крахмальном воротничке.
У него было красивое моложавое лицо стопроцентного американца, которому повезло в делах и который уверен, что все на свете «о’кэй», то есть хорошо.
Джентльмен водил гостя по питомнику и, пошучивая, показывал чудеса.
– Удивительный день! Благословенный калифорнийский климат! Но вас интересует моя слива без косточки? Никто из посетителей, даже искушенных, не может удержаться от возгласа изумления, когда его зубы проходят сквозь весь плод, будто это клубника. Вот она, эта слива, в тот момент когда мы удалили косточку только частично.
Косточка была узенькой, мягкой и походила на полумесяц.
– А это та же слива, но четырьмя-пятью поколениями позже.
В сущности, тут вовсе уже не было косточки. Какое-то крошечное пшеничное зерно.
Посетитель улыбался.
– Это мне напоминает, – говорил он, – музей, в котором показывали два черепа: один с надписью «Череп Вильяма Шекспира», а рядом другой, поменьше: «Череп Вильяма Шекспира, когда он был ребенком». Только голова Шекспира, как видно из коллекций этого музея, увеличивалась с возрастом, косточка же вашей сливы уменьшалась.
Хозяин тоже улыбался. Остроумный разговор двух джентльменов!
Вдруг, отбросив шутки, посетитель спрашивал серьезно:
– Слушайте, чем вы руководились? Законами Менделя? Скажите, как же надо изучать их, чтобы добиться всего этого?
– Я советую вам, – отвечал Бербанк, – начать изучение Менделя чтением Дарвина, затем покончить с Менделем и почитать Дарвина более основательно.
Любезная улыбка по-прежнему означала, что все «о’кэй». Но она скрывала теперь, как нелегко досталось кудеснику ученичество у великого ученого Дарвина в той стране, где в числе «демократических свобод» была также свобода организации уголовного суда над теорией эволюции.
Однажды Бербанк признался:
– Поднялась настоящая буря, и в пылу сражения меня называли не только богохульником, но и еще хуже; по поводу меня произносили проповеди, говорили, писали, бранились, осыпали меня ругательствами даже с помощью телеграфа… Богохульство мое состояло в том, что я работал совместно с природой, пользовался ее законами, направлял ее силы в желаемом направлении, придумывал, как создать новые формы… И затем заявил, что добился полезных и прекрасных результатов. Но ветер порядком просвистел мне уши, пока длилась буря.
Джентльмен и тут немного кокетничал. Ведь то было в прошлом! Потом все стало «о’кэй». Все? Да, поскольку это касается дел фирмы. Наука его, новая, небывалая наука кудесника, «о’кэй» не стала. Ни один профессор не признавал ее.
Вся Америка говорила о Бербанке. Но американские «серьезные ученые» вовсе не интересовались ни им, ни его растениями. Эти ученые были наименее любопытными из людей.
Не знаю, часто ли пожилой джентльмен с выхоленным, почти безвозрастным лицом задумывался о том, чем могло бы стать дело его жизни. Может быть, он примирился с тем, что на три четверти оно пошло впустую. Что за беда! Он разменял его на звонкие доллары.
Фирма нуждается в рекламе. Имя сына фермера красуется на многих книгах с изящными и немного выспренними названиями, например, «Жатва жизни». Его достижения описаны в двенадцати толстых томах. В них – блеск, благодушный юмор, дымка. И то, что вернее всего поразит воображение читателя: колоссальные цветы, чудовищных размеров плоды, рассказ о двадцати тысячах сливовых деревьев, выращенных в девять месяцев, и шестидесяти пяти тысячах гибридов ежевикомалины, истребленных по повелению кудесника.
Бербанк умер в 1926 году. И сразу перестала существовать его «фирма чудес». В Америке никаких преемников у Бербанка не нашлось. Что стало с его садом, никому не было интересно. Его продали с молотка. Но газеты об этом даже не сообщили.