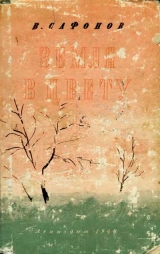
Текст книги "Земля в цвету"
Автор книги: Вадим Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
М. М. Якубцинер, знаток пшеницы, рассказывает об этом. И, по ходу рассказа, показывает; ведь все сортовое разнообразие пшениц Земли – вот оно: протяни руку и достань с полки.
Твердая пшеница – рекордсменка по урожайности. Каждое зерно в полном ее колосе – на четверть крупнее, тяжелее зерен других, мягких пшениц. Изумителен по своим качествам белок, содержащийся в зерне твердой пшеницы. Превосходна мука, особенно вкусен хлеб. Десять процентов пшеничных площадей в мире заняты твердой пшеницей. А пошла она, лучшие ее сорта, – от нас.
Вся стекловидная пшеница в Соединенных Штатах и в Канаде родом от сортов Украины и Крыма.
Наша «украинка» – это мировой пшеничный чемпион.
Многое прямо взято Америкой от нас в неизмененном виде. «Cubanca», – пишут они латинскими буквами. «Arnautca», – повторяют они знаменитое имя нашей южной пшеницы. Самый распространенный в Америке озимый сорт «таркей» получен из украинской пшеницы; следующий по распространению – «кэмред» – происходит от «крымки». Основной, шире всех известный канадский сорт «маркиз» – потомок западноукраинских пшениц.
Не существовало бы сортов «гарнет», «гурон», «прелюд», «престон» без ленинградских пшениц «ладога» и «онега». Созданный у нас, разумом и руками наших людей, хлеб оказался самым лучшим в мире. Громко и гордо повторяешь это: ведь это же самое чистое – хлеб, пища и жизнь человечества!
А наш вклад в мировую сельскохозяйственную науку! Как измерить его?
В учении о классификации и биологической характеристике культурных растений настолько неизмеримо превзойдено все сделанное раньше или в других странах, что можно сказать: оно наново создано в СССР. Учение об исходном материале, об использовании сортовых богатств – это слава и честь нашей науки.
И, зная это, с особым сложным чувством смотришь на эти полки-стеллажи, на эти ящики, картонки, карточки и книги каталогов – на мировую коллекцию, инструмент стольких замечательных открытий и бескровных побед в великом человеческом деле.
И вдруг осознаешь: да как же это? Ведь все это в городе, где и сейчас есть руины и скелеты еще не восстановленных домов, а на стенах видны не только столетние черточки, отмечающие, куда доходила вода в 1824 году, во время наводнения, всем знакомого по пушкинскому «Медному всаднику», – на стенах не стерты кое-где надписи: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Как же, каким подвигом сбережена и спасена чудесная коллекция – двадцать тысяч килограммов зерна – во время голодной блокады?
Это еще потруднее, еще удивительнее, чем спасение Эрмитажа.
– …Они уже похоронили было нашу коллекцию, – говорит Якубцинер. Он произносит это голосом глухим, неузнаваемым – так говорят о вещи позорной, о которой говорить невыносимо стыдно, стыдно за человека, сделавшего или сказавшего такую вещь. – Читайте.
И я прочел.
– «…Я не имел времени узнать, что случилось с замечательной программой работ по эволюции и генетике сельскохозяйственных растений… (Знаю только, что часть коллекции семян, оставленных в Ленинграде, была съедена во время осады.)»
Так, мимоходом, в скобках: «часть съедена»; хорошо, хоть со всей не разделался, часть пощадил доктор Джулиан Гексли, ведущий биолог Великобритании, внук Томаса Гексли, друга и помощника Дарвина, «цепного пса дарвинизма», как он сам себя называл.
– Кем съедена?
– Нами, хранителями, хочет он сказать, – все тем же голосом поясняет Якубцинер.
Имя Гексли хорошо известно. Видный эволюционист; и специальность одна с дедом. Но как мало нашлось бы у них общих тем для разговора! Развитие, прогресс? «Эволюцию можно себе представить как ряд слепо кончающихся ветвей…» – вынес совсем недавно, в год великой Сталинградской битвы, холодный приговор Гексли-внук. Что бы сказал на это старый, бесстрашный «цепной пес»?
Джулиан Гексли не любопытен. Две недели он пробыл в Советском Союзе – на послевоенных юбилейных торжествах Академии наук. Он мог бы узнать решительно все, что ему хотелось, – все наиболее важное из области той науки, которой он занимается. Зачем бы иначе ученому приезжать к ученым другой страны? Но он «не имел времени». Не имел времени узнать о программе эволюционных и генетических работ, какую сам называет замечательной. И он, биолог, вовсе даже не поинтересовался великой гордостью мировой науки – коллекцией ВИРа. Так откуда же это «знаю» – «знаю только, что съедена»? Эта походя брошенная клевета?
Может быть, Джулиан Гексли исходил из своих общих представлений о человеческом роде.
Председатель Комитета по делам науки и культуры при Организации Объединенных Наций (а этим председателем состоит сэр Джулиан) невысоко ставит людской род. Вполне вероятно, что на островах Альбиона, среди друзей, коллег, парламентских златоустов и чопорных леди-филантропок, ему так и не посчастливилось встретить решающих противоречий своей точке зрения. Во всякое случае, он пришел к выводу о необходимости покончить с нынешним способом воспроизводства людей. Как доверяться в таком дело собственному усмотрению этих существ? Их надо разводить, как борзых, как скаковых лошадей или как махровые тюльпаны! В этом единственное спасение. Только так «можно было бы получить настоящие касты и, по крайней мере, некоторые из них наделить альтруистическими и коллективистскими качествами».
Касты! Увы! Даже в современной Индии строгость кастового устройства под угрозой.
И профессору Гексли невесело.
Он умозаключает:
ученый создает и хранит бесценную коллекцию;
ученый голоден; что сделает ученый?
Ученый, естественно, съест бесценную коллекцию.
Вот железный силлогизм доктора Гексли, способный порадовать самого Леви-Брюля, усерднейшего собирателя образчиков «первобытного мышления»!
«Наука в СССР» Дж. С. Гексли напечатана в журнале «Nature», 1945 год, том 156, № 3957, стр. 254–256.
А почти немедленно следом за тем в том же томе, № 3979, стр. 622, тот же академический и «объективный» журнал «Природа» сделал следующий шаг: вдохновленный уничтожением части единственной в мире коллекции, он решил вовсе покончить с нею. И вот что мы прочли: «Во время блокады Ленинграда остатки ее были съедены…» Остатки? Расшифровки нет. Только намек. Но вполне иезуитский. Пусть поймут, что, мол, уже и раньше, до всякой войны и блокады, большевики «подбирались» к единственной в мире, к своей собственной коллекции и начали ее истреблять.
«Харланд и Дарлингтон» – стоят подписи под этой новой статьей. Тот самый генетик Харланд, который, возродив в Перу вырожденный сорт хлопчатника методом, разработанным советскими учеными-мичуринцами, забыл упомянуть, чей это метод. Тот самый генетик Дарлингтон, который, отлично зная, чем обязаны поля главного земледельческого доминиона его империи – Канады – нашим хлебным злакам, а сады Канады – мичуринским сортам, не постеснялся заявить, что Мичурин… вывез свои сорта из Канады, что Лысенко («неизвестный работник сельскохозяйственной научно-исследовательской станции на Украине») о яровизации «по-видимому, услышал из германских источников», что Тимирязев следовал в своих открытиях… Вильяму Оккаму, английскому схоласту XIV века!..
Великий жизнелюбец, непоколебимо веривший в человека и дело его на земле, М. Горький, написал: «Человек – это звучит гордо». Но он же знал: «Рожденный ползать, летать не может».
Ползунам непонятен и ненавистен высший полет человеческого духа – творчество. С каким завистливым злорадством стремятся они принизить, оплевать его! Ничего не было. Все знал Вильям Оккам в XIV веке.
Особенно же ненавистна им та страна, где самое свободное и самое человечное творчество стало законом жизни. Мичурин один создал сотни новых растений, одержав наиболее гордую победу над природой? Нет, «легче предположить, что он получил свои лучшие растения из Канады и США». А еще легче предположить, что именно простейший инструмент самонаблюдения – зеркало – мог привести С. Д. Дарлингтона, F. R. S. (члена Королевского общества) к согласию с Гексли в оценке людского рода и к одобрению теории человеководства.
Вот таким аршином они пытались измерить поведение ленинградских ученых. Сеяли клевету над еще свежими могилами погибших ради того, чтобы до зернышка была цела бесценная коллекция. С каким негодованием и возмущением читали лондонский журнал в Ленинграде!
Но ложь была слишком очевидной.
И «Природа» спустя некоторое время дала поправку. Всего несколько строк, без подписи. «Вносится поправка» – так и написано. Оказывается, ничего не съедено, – наоборот, много сотрудников института было убито или умерло от голода, охраняя коллекцию… Маленькая поправочка – ошиблись, ничего не поделаешь…
А все ли заметят эти несколько строк, после двух статей, содержащих две ступени лжи, – разве это важно?!
ПОДВИГ
Вот что было в Ленинграде.
Один из самых последних составов, пробившихся из Москвы к осажденному городу, был эшелон моряков. С этим эшелоном приехал в Ленинград уполномоченный Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина профессор И. И. Презент, нынешний академик.
Больше в Ленинград не приходило поездов.
Легко понять, что тогда, в августе 1941 года, означал каждый вагон, который еще мог быть отправлен из Ленинграда. Но чуть явилась надежда, что проскочит, пробьется еще состав, еще один единственный поезд, как в нем отвели вагоны для Всесоюзного института растениеводства и его коллекций.
Поезд тронулся и стал. Объявили: можно пока расходиться по домам. Из теплушки вышел Эйхфельд, отказавшийся от привилегии ехать в «классном». Институтское имущество было погружено в открытые вагоны – их прозвали шаландами. Все ежедневно возвращались к эшелону. Мужчины поочередно дежурили у шаланд. Дальше Рыбацкого – станции под Ленинградом – состав не ушел.
Были уже черные ночи осени с ранними холодами. Враг рвался к Тихвину. Начинался голод в огромном отрезанном городе. На крыши института сыпались зажигалки. Заслышав сирены, лаборанты и доктора наук взбирались по крутой чердачной лестнице защищать здание.
Народу в институте прибавилось. Тут были и работники Пушкинской станции. Пальмова ушла из Пушкина в летнем платье, но с мешочками образцов своих опытных посевов. А. Я. Камераз на своих плечах спасал коллекционный картофель.
Коллективы обоих институтов-соседей – ВИРа и ВИЗРа (Всесоюзного института защиты растений) жили общей жизнью.
В тяжелом, грузном каменном здании был холод погреба. Ученые обмороженными пальцами перебирали в пакетиках зерна из мировой коллекции, чтобы рассредоточить каждый образец.
Лихвонен, заведующий отделом снабжения, получив свою тарелку «супа» – воды с несколькими листьями и корешками, сливал ее в баночку и с бесконечной осторожностью, держа вытянутыми руками, уносил пешком на Петроградскую сторону. Там жила его семья. Он возвращался горбясь.
Однажды он не пришел вовсе.
На улицах, на дне некоторых воронок от бомб сочилась вода из перебитых жил водопровода. Окрестные жители черпали ее ведрами. Потом она замерзала.
В конце 1941 года у бухгалтера Е. Ф. Арнольд, тридцать лет работавшей в институте, украли карточки. Когда она пришла на службу, на ней не было лица.
– Что с вами? – спросил ее Эйхфельд. Женщина, закутанная в платки, всхлипнула. – Что такое, ну что такое?
Она плакала молча.
– Ерунда! – сказал Эйхфельд. Он встал. Одежда, аккуратно выглаженная, висела на нем мешком. – Карточка? Я достану вам карточку. Мне дадут для вас… – Он рассердился. – Чепуха! Как можно… Успокойтесь. Успокойтесь же!
Он достал. Это была его собственная карточка. Себе он оставил пропуск в Дом ученых на набережной Невы, где подкармливали научных работников лилипутски-крошечными обезжиренными порциями, называя их «обедами».
Еще не существовало ледовой трассы через Ладожское озеро, «Дороги жизни». Воздух был единственным путем из Ленинграда на Большую землю. Воздух был единственной связью со страной города-гиганта и Ленинградского фронта, сдерживавшего бешеный натиск врага.
Тысячу требований, неотложных нужд, просьб, претензий должен был удовлетворить каждый самолет, отправлявшийся в свой очень нелегкий тогда путь.
И все же два самолета были предоставлены институту для вывоза самого ценного. Почти насильно пытались усадить в самолет Эйхфельда; щёки его, всегда тщательно выбритые, были неестественно-мертвенного, невозможного для живого человека цвета.
Он наотрез отказался улететь.
25 декабря вылетели, сопровождая отобранное из коллекций, профессор Букасов, знаменитый знаток картофеля, К. М. Минбаев, специалист по каучуконосам, и сотрудница института В. А. Королева-Павлова.
Слово, которое два месяца назад знали только медики, стало домашним гостем у всех оставшихся. Дистрофия означала страшную, с холодным пόтом слабость при любом непривычном усилии, свинцовую скованность рук и ног. Вваливались щеки и виски, так что выступали кости черепа; затем тело и лицо начинали опухать. Голодные поносы изнуряли людей. У глаз, которые казались огромными в глазницах, бывал лихорадочный блеск; чаще их задергивала тусклая пелена, они померкали. Иной раз, начав речь, человек обрывал фразу, как бы в задумчивости…
Пустота ощутилась сразу, когда умер Дмитрий Сергеевич Иванов, специалист по рису. Его мощная фигура наполняла любую комнату, куда он входил. Трудно было вообразить силу, которая изгонит жизнь из этого крупного, мощного, легко и весело двигавшегося тела.
Пустота особенно ощутилась, быть может, еще и потому, что это была одна из первых жертв.
В отделе масличных культур работал старый научный работник Александр Гаврилович Щукин. Тихий, очень незаметный. В его распоряжении был арахис, полный белком и маслом, был лен, подсолнечник. Всего этого были пуды. Пуды жиров, стоивших дороже золота, фактически в бесконтрольном распоряжении! Он таял на глазах – такой же тихий, ровно вежливый, обязательный, корректный. Он умер от голода, даже не подозревая, что для его поведения есть имя – героизм.
Бомба зажгла дом, где жил старший научный сотрудник отдела агрометеорологии Александр Яковлевич Малибога; он сгорел заживо.
Осколком снаряда был убит проходивший возле Мальцевского рынка известный знаток географии растений – профессор Евгений Владимирович Вульф.
Умерли от голода профессор Георгий Карлович Крейер, заведующий отделом лекарственных растений, и директор библиотеки, библиограф и автор новой системы научной каталогизации Георгий Владимирович Гейнц. Это ему еще полгода назад сотни научных институтов и обществ слали со всех частей света книги, выпуски трудов, журналы, чтобы получить в обмен издания ВИРа.
Ночью каменная тишина придавливала улицы. Вдруг доносился рокот канонады, усиливался, ослабевал. Возникал один, другой, третий луч прожектора, копья лучей начинали обшаривать небо, скрещивались. Как обвал, врывалась близкая оглушительная очередь зенитного пулемета…
Шаги скрипят по снегу; проходит патруль моряков…
Выглядывала луна, миллионы холодных алмазов загорались на земле, на мертвых проводах, на уборе деревьев. Жег мороз. Черно зияли провалы окон. В пуховых сугробах стояли, с толстыми белыми подушками на крышах, трамваи, троллейбусы.
Двое ученых из ВИРа брели домой. Один сказал:
– Я считаю, что нам выдадут медали. Всем ленинградцам, как челюскинцам. Что вы думаете, а?
Другой хотел ответить, сдвинул со рта платок, выдохнул пар и шатнулся. Потом ответил шуткой:
– А что ж? Вот трамвай, на котором я всегда ездил. Он стоит совсем, как вмерзший корабль.
Эти люди не хныкали, а делая свое дело, часто шутили в самые тяжелые времена.
…Научный сотрудник отдела интродукции Вера Андреевна Федорова упала лицом на стол, на свой рабочий стол в институте, и больше не подняла лица.
Погибли от голода специалист по помидорам Серафима Арсеньевна Щавинская и агроном Михаил Андреевич Щеглов.
Умер Самуил Абрамович Эгиз, доктор биологических наук, заведующий отделом табака.
Между тем уже совершалось одно из самых изумительных и славных дел войны. Прокладывалась ледяная трасса через Ладожское озеро к городу-герою. Но еще никто ничего толком не знал про нее. В институте разнесся слух, что придется итти 170 километров пешком. «Как Седов к полюсу».
Эвакуацию сотрудников Всесоюзного института растениеводства и сбереженной ими мировой коллекции назначили на середину января. Это была первая гражданская партия, которой вообще предстояло покинуть Ленинград. Работникам института была дана льгота, беспримерная, невероятная в ленинградских условиях: право взять продукты на три дня вперед.
Профессор И. И. Презент, как уполномоченный Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, издал приказ. В нем определялось, что мог и что должен был брать с собой каждый. Столько-то килограммов личного груза. Обязательно санки. Для подушек и одеял места не оставалось. Но предписывалось сшить двойной комбинезон с прокладкой из пуха и перьев.
Выпущенные из подушек перья лезли сквозь материю комбинезонов. Якубцинер окрестил эти странные одеяния в перьях: «костюм шантеклер».
Поезд отошел 17 января. Он полз бесконечно долго до озера. Пять-десять километров казались дорогой на луну.
Но вот конец стального пути. Дальше лед.
22 января во мгле зимней Ладоги скрылся «каравай» Грузовиков, уходящих на Большую землю.
В этой партии эвакуированных умерли в переполненных теплушках Г. А. Рубцов, лучший в мире специалист по грушам, ребенок Т. Я. Зарубайло (сам он был в армии) и жена плодовода П. Н. Богушевского; он не надолго пережил ее.
Якубцинера вынесли из эшелона на Званке. Его сочли мертвым. Он пролежал три месяца на Волховской гидростанции, потом еще три месяца в госпитале в Ярославле.
…А когда унеслась по ладожскому льду последняя машина и прощальное «Увидимся!» долетело на берег, доктор биологических наук Презент поплелся обратно к теплушке. Полулежа в ней, он видел сквозь дремоту блеск инея в темных сотрясавшихся углах, снежную пелену снаружи; поезд тянулся в Ленинград. Ведь следом должна была быть отправлена вторая группа сотрудников со второй частью коллекций.
Это отправление ожидалось со дня на день. Но уполномоченный Академии сельскохозяйственных наук уже не мог выйти из своей квартиры на улице Желябова. Иногда бредовые видения заменяли для него действительность. Г. Н. Рейтер, секретарь парторганизации и начальник МПВО института, вбежал к нему.
– Есть эшелон!
– Сейчас… я сейчас, – ответил Презент.
Шесть часов он добирался до Смольного. Он не может вспомнить, как он все же прошел эти несколько километров. Когда он стал ясно понимать окружающее, он увидел себя в кабинете секретаря горкома партии. Рядом был врач. В рот вливали что-то горячее.
– Дадим вагоны. Обязательно, – сказал секретарь.
Вторая партия отправилась 2 февраля. С ней уехал Эйхфельд. Всего – с тем, что увезли на самолетах, – эвакуировали 8 тонн из коллекций. Это было только ядро. Только самое невозобновимое в ней. Прочее осталось, его надо было охранять.
Остались Н. Р. Иванов – крупнейший наш «бобовик», Рейтер, кандидат наук В. С. Лехнович, старший научный сотрудник О. А. Воскресенская, замечательный знаток яблок Р. Я. Кардон, младшие научные сотрудники П. Н. Петрова и Е. С. Кильп, лаборант Н. К. Каткова, уполномоченный дирекции К. А. Пантелеева, комендант здания М. С. Беляева, дворник А. П. Андреева и обслуживающие работники М. Бирюкова, Е. Голенищева, А. Лебедева и А. Романова.
Зима, жестокая зима 1941/42 года еще не хотела уступить весне. В здании у Синего моста люди с серыми лицами и вздутыми, кровоточащими пальцами по трое входили в комнаты, где стояли ящики и коробки, как в банковский сейф. Таков был порядок, установленный ими для самих себя. В одиночку никто не мог войти сюда. Суровый Кардон отпирал тяжелыми ключами двери; ледяным дыханием тянуло из тьмы, шатнув на пороге пламя коптилки.
Шарахались табуны крыс. В сумраке крысы казались огромными, черными, тощими. Крысы хитро откупоривали металлические коробки, сбрасывали их на пол. Сами плюхались с полок, почти не боясь людей. А люди собирали рассыпанные зернышки, подымали коробки, обвязывали проволокой, закладывали досками. Крыс становилось все больше. Очевидно, только одним им известными путями сюда сбегались новые – из соседних дворов по улице Герцена, из домов по проспекту Майорова, по улице Гоголя, Красной улице и даже с набережной. Они пробирались в комнаты, где, как они чуяли, лежали тонны зерна. Изо дня в день, из месяца в месяц в полумраке (окна давно были забиты фанерой) длилось единоборство людей с грызунами, полчищами остервенелых голодных крыс блокады.
Люди победили. Победили холод, голод, грызунов. Так же как товарищи этих людей-героев, воины Ленинградского фронта (среди которых были тоже ученые, тоже сотрудники ВИРа, пошедшие добровольцами) отбили все бешеные атаки гитлеровцев на Ленинград.
Настало время, когда мощный удар Советской Армии, руководимой своим великим вождем, разорвал кольцо блокады.
Кончилась война. Армия-победительница была в Берлине.
Снова вернулась в город Ленина, в здание у Синего моста, вся бесценная мировая коллекция. Ее сберегли до зернышка – и ту часть, что увозили, и ту, что оставалась.
Но не должны быть забыты имена тех, кто отдал жизнь, и тех, кто каждый день готов был ее отдать, чтобы уберечь одно из величайших сокровищ человеческой науки, чтобы продолжало оно служить для счастья сотням миллионов людей!









