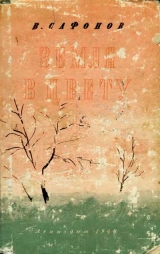
Текст книги "Земля в цвету"
Автор книги: Вадим Сафонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Обнаженный костяк Земли, высится могучий утес. Время летит над ним. Днем его накаляет зной, студит ночь. Сеть тонких трещин-морщинок пробегает по нему. И странный, не то шелестящий, не то певучий звук рождается в его каменной груди в те часы, когда ночь переходит в день и день в ночь.
Ветер бьет по утесу. Бури секут его колючей пылью. Они выбивают в нем подобие пчелиных сотов. Дожди смывают долой измельченную труху его слабеющего, некогда литого тела. В холодные зимние ночи в трещинах замерзает вода. И, как распорка, раскалывает глыбы.
И вот рушится член за членом гигант, источенный, истертый временем. Грудой рухляка становится каменный костяк Земли…
И всюду, где на поверхности появится рухляк – в морщинах ли скал, под выдутым ли песком, под растаявшим ли, отступившим ледником, – жизнь начинает на рухляке свое дело – созидание почвы.
Первичная пленка ее тончайшая. Она результат работы бактерий. «Пустынный загар», говорит об этой пленке ученый, не забывший, что об руку с его наукой о великом мире идет сестра ее – поэзия.
Огонек жизни затеплился в мертвой пустыне. И манит он к себе путников, странников живого мира.
Первой приходит водоросль. Вильямс знает ее имя. Черная маленькая водоросль – «дерматокаулон ювеналис». Она умножается. «Загара» уже не видно под плотным черным слоем ее.
Приходят лишайники.
Начинается развитие лишайниковой тундры.
Это самая молодая почвенная зона Земли.
Где эта зона? На севере?
Но Вильямс находит окаменелые остатки тундровых лишайников на привезенных в Москву валунах из лёссов Средней Азии.
Значит, не зона это только – это стадия. Через нее прошли все зоны.
Надо освоиться с этим изумляющим выводом: «Почвенные зоны и типы почв, которые различаются в почвоведении, лишь статические моменты единого, колоссального по длительности и протяженности динамического процесса».
Будто мы рассматривали до этого разрозненные фотографии – и двинулись фигуры, сошлись, налились живой кровью, где был серый плоский фон, закипел сверкающий, гремящий мир. Он открылся нам – мы увидели медленно, как полипы, растущие, до туч громоздящиеся горы и чудовищных летунов над исполинской чащей; а когда сменились миллионы лет, остался только черный налет на ее месте, похожий на след пожарища. И еще сменились сроки. Взглянем: вот птица со странным, похожим на чешую оперением перенеслась, тяжело взмахивая короткими, словно обрубленными крыльями, через светлую реку, которая роется в лиловых берегах; глубоко под пластами земли уже похоронен древний угольный пласт… И опять перевернулась страница в книге жизни планеты. Нет и реки, только неоглядно раскинутый пестрый душистый травяной ковер. Ветер тронул траву, колыхнул медовый аромат, и, как вспугнутая, кинулась, пропала вдали быстрая стайка легких бегунов в полосатых шубках. Почва черна и жирна, она не пылит, на ней ясны отпечатки маленьких копытцев…
Земля и жизнь неразрывны.
Но нам надо вернуться к началу, к исходному пункту.
Перед нами еще только первопочва: лишайниковая тундра. Век за веком, тысячелетие за тысячелетием – всё тундра. Отмирают ржавые слоевища, подушечки моха, тоненькие корешки – «ризоиды» – в почве. И мало-помалу – точно полушка за полушкой в сундуке скупого – накапливается органическое вещество. Морошка начала расти в тундре, расстелилась карликовая ползучая ива. И они кидают в копилку полушку за полушкой. Вот и полна копилка.
Но все равно не зазеленеть тут привольному разнотравью. Угрюмый бор, завоеватель тундры, один может использовать угрюмое сокровище нищего скупца. Что происходит под сомкнутым лесным пологом? Недвижимо пронизывают сумрак колонны стволов; столетние темные великаны похожи на обомшелые утесы. И голо на сырой земле у подножья их. Только редкие папоротники, игольчатые мутовки хвощей да «мертвый покров»: бурая, опавшая хвоя, прелая, в массу слипшаяся листва, тронутая тлением древесина. Да «войлок» грибницы…
Тут идет «грибной» процесс размножения органического вещества. И накапливается та из перегнойных кислот, которая носит название креновой; это кислота грибного процесса.
Светловатая, тяжелая почва образуется под лесной подстилкой: подзол. Неживая, глухая почва – даже воздух не проходит сквозь нее, когда она напитана водой. И в глубине под ней работают не дышащие воздухом бактерии – анаэробы. Они медленно разлагают окиси железа, соли креновой кислоты. Рыжая земля возникает под подзолом, а еще ниже – серый глей.
Но проходят годы. Отмирают дуплистые, похожие на изъеденные временем скалы, великаны. Размыкается зеленый полог. Наступает семенной год леса: густая поросль сеянцев выходит из земли. Вместе с ними впервые являются травы. Сеянцы подросли. Теперь лес двухэтажный. Скоро он снова жестоко расправится с травами. Всё, будто как раньше.
Только что-то надломилось. Все чаще семенные годы. Зачастили! И каждый раз, вместе с древесными сеянцами, – веселый всплеск травяной волны. Да победимы ли эти пришельцы, дружная армия пигмеев, дерзко штурмующая гигантов?
И во многих местах, в тысячах мест гигантам уже не сладить с нею. Тут битва вчерашнего с завтрашним днем. Сейчас на земле – не царство первозданных боров. Готика мамонтовых деревьев, феодальные замки кедров – это то, что было, что отошло в прошлое.
На смену пришел дерновый период почвообразования. Один из самых важных в нашу эпоху на Земле. Не бор, а луг. Луг зеленеет до зимы, пока не замерзнет вода в почве. Веснами в земле, насыщенной влагой, принимаются за работу анаэробы – бактерии-«безвоздушники». И все накапливается органическое вещество. Оно влагоемко: уже труднее движется вода к глубинным слоям. Древний лес, если он еще дожил до этого, теперь обречен. Злаки – мятлики, тимофеевки, овсяницы, золототысячник, иван-чай, бобовые, с их замечательным свойством ловить азот и обогащать им почву – вот хозяева луга.
И впервые у почвы здесь появится то исключительного значения качество ее, без которого она еще не «настоящая» почва: она приобретает структуру. Она становится комковатой, делается прочной. Без этого свойства почвы люди не знали бы земледелия.
Что же такое эта прочность? Разве не прочна желто-красная, мертвая глина? Опустите глыбку ее в воду, говорит Вильямс, она расплывается облачком. Она обладает связностью, но прочности у нее нет никакой.
Однако как раз в это время судьба возникающей под луговым дерном, в одряхлевшем лесу, еще бедной почвы колеблется. Она – на распутье. Что будет с ней? Станет она почвой или…
Представим себе это непрестанное накопление в ней органических остатков. Мы знаем: это вещество, как губка впитывающее влагу. И вот: оно накапливается слишком изобильно, чрезмерно.
Почва закупорена. Воздух – только в верхнем тонком слое. Под ним водяная ванна. Теперь сменятся жильцы луга. Все растения со сколько-нибудь глубокими корнями уступят место поверхностно сидящим – трясунке, зубровке, луговой чине… Рыхлокустовых злаков не видно: одни плотные кустики мокрого луга. Земля чвакает под ногами. Середины кустиков давно отмерли. Они стоят, напитанные застойной водой. Возникают и растут кочки. Стока почти нет. Снова сменяется население. Пухлые дерновины мхов, кусты и кривые деревца, бедные ягоды под ними, плауны, осока и черная вода: перед нами болото.
Вильямс отлично понимает парадоксальность своего вывода. «Причина образования болот – недостаток в почве зольных элементов пищи растений, содержание же воды в болоте есть простое следствие большой влагоемкости органического вещества. Этот вывод противоположен очень старому взгляду… что образование болот есть результат скопления воды. Здесь налицо смешение причины со следствием…»
Но если вжиться в эту систему идей и выводов, то она покажется наиболее естественной, вполне стройной и понятной. Вещи и явления внешнего мира, которые выглядели случайными и требовали каждый раз особых объяснений, теперь с логической неизбежностью вытекут из общего процесса; самые неожиданные факты станут на свое место. Реки с их особенностями, с формой их долин, с поймами, грунтовые воды, глины и зыбучие пески; папирусное болото где-нибудь в Уганде; светлые осиновые перелески, молодые дубравы, и легкая почва сосновых рощ, и земля «инфузорная», так ценимая садовниками: мы узнаем во всем этом неизбежные результаты той или иной, строго определенной фазы или развилинки одного процесса, «природные проявления» дернового периода почвообразования.
Но разве нет последнего, все решающего в растительном мире довода – климата? Даже и на этот довод Вильямс смотрит скептически. Ему известно, какие поправки вносит лес в климат тундр и как пустыню делает не пустынный климат, а вырождение растительного покрова, вырождение почв; сама пустыня делает пустынный климат! Утверждали, что «зона чернозема» будто бы возникает только на месте «вечных степей», вечного «степного климата». Но чернозем попадается от Якутска до Индии, а в Северной Америке эта зона вытянута меридионально, вдоль цепи гор, на тысячи километров с севера на юг, поперек разных климатов.
Гораздо больше, чем климатические пояса, занимает Вильямса почвенный возраст. Когда для каждого данного места была нулевая точка, начало почвообразования, от которого следует отсчитывать «почвенное время»?
Вопрос может показаться почти излишним: да разве почва не стала образовываться повсюду примерно одинаково с того самого момента, как появились на суше первые растения, что-нибудь с силурийского или девонского периода?
Поверхностный и поспешный ответ!
Моря отступали и наступали. Волны поглощали сушу и обнажали дно. Разливались лавы. Вот как сложно, со многими перебоями, со многими началами протекал процесс почвообразования!
Но сейчас для нас важнее не эти древние перебои. Не они определяют «точку отсчета».
Великое оледенение еще совсем недавно, по геологическим часам, в эпоху, непосредственно предшествующую нашей, охватывало почти все пространство, где теперь наша страна. Ледник отступал долго. Это тянулось многие тысячелетия. Первыми освободились места, где жарче припекало солнце. Ледяная броня на севере стаяла последней. Древний материковый лед все еще мощной толщей покрывает Гренландию: там не закончился ледниковый период, и путешественник, поехавший на этот самый большой в мире остров, в сущности, совершает путешествие во времени.
Иногда обнажившаяся почва сберегала что-нибудь от своего доледникового возраста. По большей же части это была мертвая минеральная «поддонная» морена: силикаты, глины, истертые кварцы, мергели, мел…
И время здесь началось наново…
Но мало того, что на юге оно началось раньше, – оно там, на юге, и текло скорей, чем на севере. Тут о климате уже никак нельзя забыть: где теплее, там всегда быстрей идут все органические процессы. И вот перед нами «пояса»: тундр, лесотундр, тайги, лесостепи, степных черноземов. Причудливы границы этих поясов – не изотермами, линиями одинаковых температур, определяются они; это хорошо знал и Докучаев. Все эти пояса разного возраста и все в движении; и движение их тоже разной скорости.
В дерновом периоде почвообразования возникает великое сокровище – чернозем. Горовой чернозем, и долинный, и чернозем склонов, исследованные Докучаевым. А на востоке и юго-востоке – тучные глинистые черноземы лугов с раскиданными там и сям березовыми «колками»: это знаменитая «березовая степь». Один из типичных примеров ее – Бараба, или Барабинская степь, на юго-западе Сибири, на водоразделе между Обью и Иртышом.
На юге «почвенное время» быстрее бежит, чем на севере. И вот – рано ли, поздно ли – там, где на километры тянулись болота, их уже не найдешь. Они отмирают.
Чистой, осветленной водой полны их мшистые «окна». Потом «окна» сливаются. Местами болота высохли совсем. Местами родились синие степные озера.
Шумят на просторе все более быстрые весны. Овраги остаются там, где пронеслись вешние воды. Цепочкой «бочагов», прежних омутов пересыхают летом речки. Потом, на месте их, сухая балка; и сухие овраги – верхи, отвершки – впадают в нее.
Кончен дерновый период. Наступил степной.
Воды куда меньше, а ни лес, ни луг никогда так не размывало, как размывает степи.
В чем тут дело?
Ясно, во всяком случае, что здесь какой-то переломный момент в развитии почвенного покрова. Высшая точка достигнута в черноземах; дело идет к спаду.
Вильямс так представляет себе этот перелом.
В черноземах – идеальная комковатая структура. Между комочками глубоко проникает в почву вода; сколько ее ни выпадает, всю поглотит чернозем. Комочки всасывают ее капиллярным, волосным путем, когда она просачивается мимо них по свободным промежуткам. И где-то в глубине она питает грунтовые воды – никогда не упадет сильно уровень и в реках.
Все, что нужно растению, все дает черноземная почва; нет плодороднее ее.
А луг все откладывает и откладывает органическое вещество. И вот перейдена граница, за которой каждая прибавка перегноя уже не улучшает, а ухудшает почву. Теперь на этой стадии болоту не образоваться: болото может возникнуть в дочерноземной фазе, на «наследстве» подзола.
Теперь же получится вот что: перегноем заполнены все промежутки между комочками. И комочки склеиваются; структура исчезает; земля уже не поглощает, а все медленнее всасывает воду. Едва тридцать процентов талой и дождевой воды идет в почву, а семьдесят – стекает прочь.
И вода смывает самое дорогое – верхний плодородный слой. Овраги съедают землю. А скупого запаса воды в ней хватает едва до половины лета. Задолго до холодов степь уже высохла. Наступила засуха, хотя дождей, может быть, и не меньше, чем выпадало тут некогда, когда до самых зазимков зеленел и не просыхал мокрый луг. Грунтовые воды иссякают. И обмелели реки. От многих нет и помину.
Теперь нацело сменились луговые травы степными. Стоят они куда реже, видна земля; серебряные султаны стелет над ней ковыль.
Травы отмирают летом. Бактерии, дышащие воздухом (его вдоволь в сухой почве), – аэробы быстро разлагают их остатки.
Беднеет перегноем почва.
Но структуру ей не вернуть.
Да и весь климат в степи переменился.
Пятнами степь высаливается: белеют лысины солонцов, еле прикрытые карликовой полынью и ломкими, суставчатыми, красноватыми солянками.
И нетрудно вообразить переход к последнему периоду почвообразования – пустынному, с последней сменой на пустынное сообщество растений, пустынный ландшафт и пустынный климат.
Лес появляется не раз и после гибели древнего бора. Белые березы, осинники с их шелестящим шумом, светлые дубравы, в каких охотился некогда Ярослав Мудрый… И в пустыне есть свой, пустынный лес. Не все кончено с древесной формой на Земле! Но эти новые леса, менее массивные, менее «скалоподобные», более гибкие в борьбе с травянистой растительностью, – они и по облику, и по характеру, и по значению своему нечто совсем другое, чем исконный бор – тайга. И еще совсем другое – джунгли тропиков, перевитые лианами, с кипящим, клокочущим изобилием жизни и особыми почвами – красноземами, характерными для них. Тот, кто бывал возле Батуми, в Аджарии, самом тропическом уголке нашей страны, видел, быть может, «малиновые земли» на буйно заросших горных склонах. Тот, кто бывал в Закарпатье, мог увидеть в высоких буковых лесах буроземы.
Это все «развилинки» почвообразовательного процесса, и подробнее говорить о них нам здесь нет нужды.
Ведь в главных и общих чертах этот великий естественный процесс прошел перед нами.
Но из пятисот десяти миллионов квадратных километров земной поверхности на долю суши (о которой шла речь на этих страницах) приходится всего сто сорок девять миллионов.
А что же происходит в мировом океане, первой колыбели жизни и ныне величайшем вместилище ее?
Вильямс говорит и о нем. Исследователь расширяет поле своего исследования.
И вот он показывает нам глубокие связи, которые протягиваются от континентов к глубокому простору, откуда молчаливо катятся вал за валом, чтобы разбиться в жемчужной черте прибоя. Суша и вода, отрезанные друг от друга этой гремящей чертой, «враги», противостоящие друг другу и одинаково несущие на себе жизнь, – не одно ли они и то же? И что такое просторы океана?
Почва, отвечает Вильямс. Тоже почва! Все признаки почвы у них. Они плодородны; как и суша, они служат предметом человеческого труда (ведь человек ведет свое водное хозяйство и в естественных и в созданных им искусственных водоемах).
Больше того. «В сущности, если шире взглянуть на дело, то всемирным носителем плодородия представляется вода, гидросфера, океан». Чем была бы и суша без воды!
Откуда у океана плодородие? Мы уже знаем: всегда плодородие – способность порождать жизнь – есть само результат работы жизни. И это так же верно для «водной оболочки» Земли, как и для «каменной». «Причины плодородия Океана есть обитание его живыми организмами…»
Что известно нам о воде древних морей, о первоводе? Во всяком случае, то, что она была мертва. И мы столь же мало узнали бы в ней знакомую нам воду, как в безжизненной каменной пустыне ласковую землю.
То было нечто вроде дестиллированной воды аптекарей. Это Жизнь за миллионы лет своего существования насытила ее кислородом и углекислым газом, одарила ее способностью растворять множество веществ земной оболочки, обогатила ее солями. Тут шел также процесс почвообразования. И были у него, конечно, свои периоды. Не раз сменялись «живые формации» моря.
Вильямс включает в свое исследование эти поразительные смены. Они зависели и от изменений, происходивших на суше, от того, какие растворимые вещества главным образом поступали в море.
Он прослеживает «глубокую диалектическую взаимосвязь между двумя носителями одного общего качественного признака плодородия – почвой и Океаном». Он рассказывает о притоке кремневой кислоты и о сравнительно скудной жизни, какая была тогда: кремневые панцырьки микроскопических радиолярий, диатомовых водорослей; хрящевые рыбы без настоящих твердых костей, похожие на огромных мокриц трилобиты – в их скорлупе был хитин, как у наших насекомых.
Шли миллионы лет. На суше возникали новые почвы. Бактерии связывали азот. Явилась азотная кислота, растворитель сильнейший, стремительно ускорилось образование горных пород.
В ту пору уже пышная растительная жизнь взошла, как на дрожжах, на новом изобильном питании. Корни отнимали азотную пищу от почвенных химических соединений, в которые входил азот. Разлагали корни растений и кальциево-азотные соли. И частицы кальция, впервые в истории Земли обособленные и окисленные кислородом воздуха, соединялись с углекислотой. Так появилась углекислая известь. И это составило «геологическую эру».
Вода понесла известь в океан. «Скачком, как взрывом», говорит Вильямс, смогла развиться новая смена морских существ; гигантские раковины – подобные той, какая стоит вместо купели в «Соборе Парижской богоматери»; мир костистых рыб и колоссальных ящеров.
А сам океан «стал регулятором содержания углекислоты в атмосфере», и у атмосферы явилось новое качество: постоянство количества углекислоты в ней.
А углекислота напитала воды суши, и дожди, и росы, и стали эти воды могучими растворителями; быстро пошло химическое выветривание рухляков, и все опять стало меняться на континентах, а затем и в морях.
Грандиозна эта картина, нарисованная исследователем. Словно впервые открылась перед нами в самом сокровенном своем наша планета, и мы увидели, как подают друг другу руки моря и континенты, и вся Земля превращается в большой дом. Ход колоссального процесса живого созидания открылся перед нами, и Вильямс поясняет торжественным курсивом: «Единого, охватывающего и Сушу и Океан».
Не много во всей истории естествознания найдется научных построений такого величия, такой смелости, силы и широты созерцания мира!
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭРА
Еще ничего обо всем этом не знали и даже не подозревали люди, еще ходили на охоту и на войну со стрелами и копьями, а на поле – с мотыгами, а уже крепко вмешались люди в дела природы. Природа перестала быть одна, сама по себе: стали Природа и Человек; почва перестала быть продуктом Земли и Жизни: были с тех пор Земля, Жизнь и Человек.
Правда, очень долго человек только ощупью вмешивался в дела слепого силача – Природы.
И есть два смысла в словах «человеческая эра»: тот смысл, который сопутствовал доброму десятку тысяч лет предыдущей работы людей на Земле, и тот смысл, какой возникает теперь, на наших глазах, в нашей стране, – смысл, обращенный в будущее.
И этот второй, гордый смысл был главным предметом исследований Вильямса.
Но прежде чем говорить об этой важнейшей стороне работ Вильямса, надо сперва оглянуться назад: без первого смысла не поймешь и второго.
Был на памяти многих еще живущих стариков год, когда по-особенному пришлось задуматься о том, что значит хозяйствование человека на Земле.
Этот год был 1891-й. За ним осталось имя: «голодный год». Так он и вошел в историю.
Голод был частым гостем старой деревни. То там, то здесь крестьяне голодали постоянно. Это проходило незамеченным: дело обычное. Хлеб пополам с лебедой – полгоря. «Не то беда, что во ржи лебеда…» Только когда бедствие ширилось и охватывало губернию за губернией или становилось общенародным, тогда заговаривали о голоде. «Злее нет беды, когда ни ржи, ни лебеды…»
И такая беда повторялась частенько, если посчитать, – чуть не каждые пять лет.
Голодала не только русская деревня. Во время ирландского голода 1847 года вымер миллион человек. Голодовки посещали Германию, Англию. А про страны Востока и говорить нечего. В Индии из года в год голодает несколько десятков миллионов человек, а во время голода 1869–1870 годов Бенгалия потеряла треть населения. Четверть населения Персии погибла в засуху 1870–1872 годов.
В царствование Николая Первого было у нас до десятка голодовок, в шестидесятых годах – голод смоленский, в 1872 году – самарский, в 1880 году – в Нижнем Поволжье, в 1885 году – на юге Украины и в центральных губерниях.
Широко открывали ворота голоду деревенская нищета, чересполосица, никудышная обработка земли, не вспаханной, а всковыренной сохами. Даже и после урожайного лета крестьянское хозяйство еле дотягивало до следующей жатвы; запасов не бывало. Чуть недород – уже сразу кормиться нечем. Рядом у помещика прело зерно в амбарах, в нескольких часах езды по железной дороге были губернии, не тронутые бедой, – власти ничего не умели сделать, чтобы помочь голодным. Надеялись больше на частную благотворительность. И разоренные хозяйства не могли подняться, правильно отсеяться даже на следующую весну и осень. И на тучных русских черноземах все умножалось число «вымирающих деревень».
Так бывало в любой «обычный» голод. А голод 1891 года был необычным. Он охватил 29 губерний. Никто не помнил такого бедствия. Отяжелено оно было повторением засухи и недорода (хотя и в меньшей мере) и в 1892 году.
Напрасно попы ходили с хоругвями по буро-серым полям. Солнце жгло обнаженные головы толпы и младенцев на руках у матерей и оклады икон, поднятых на полотенцах, пыль набивалась во рты людям, нестройно поющим церковные песнопения, молящие небо о дожде. Знаменитая картина Репина «Крестный ход в Курской губернии» переносит нас в то далекое, уже многим поколениям незнакомое и непонятное время…
Передовые люди русского общества близко приняли к сердцу народное горе.
Известна кипучая, самоотверженная деятельность Льва Толстого в голодный год.
За четверть века до этого тяжкого года, когда еще молодой Толстой работал над «Войной и миром», беда также надвигалась на среднерусскую деревню. Тогда Толстой написал Фету сильные и тревожные строки: «… общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше… У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой чорт – голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле, и обдирает мозольные пятки мужиков и баб, и трескает копыта скотины, и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде достанется».
Теперь, в 1891-м, бедствие подошло огромное, грозное. И Толстой отложил другие дела. Самое важное было для него – помочь деревне. Он ездит по уездам Тульской, Орловской, Рязанской губерний, учреждает столовые, собирает пожертвования, переписывает дворы, добывает, распределяет по этим дворам хлеб. Обращается с воззваниями, пишет статьи – в них он сурово винит царско-помещичий строй. «Московские ведомости» усмотрели тогда в статье Льва Толстого «Почему голодают русские крестьяне» «открытую пропаганду к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя…»
«На голоде» работает Глеб Успенский. В Нижнем Новгороде живой «центр» помощи – Владимир Галактионович Короленко.
А русская наука объявила себя как бы прямо мобилизованной на борьбу с бедствием.
Что такое засуха? Откуда она? Вправду ли непобедима эта стихия? Что сейчас надо делать?
Тимирязев читает лекции, издает брошюру «Борьба растения с засухой», переводит книгу немецкого агрохимика Вагнера «Основы разумного удобрения».
В сознании всех тогда неотвратимо и настойчиво встал общий вопрос:
Что же случилось с нашими степями? Куда девалась их былая, исполинская производящая сила? Почему запустевают самые лучшие, самые драгоценные черноземные районы?
Было живо в памяти знаменитое гоголевское описание степей времени Тараса Бульбы:
«Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь Юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений, одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытаптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою; вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Чорт вас возьми, степи, как вы хороши!..»
Было ли когда-нибудь так? Да, русские исследователи знали, что не фантазия это только Гоголя. Миддендорф, Бекетов, Краснов, Коржинский, Танфильев воссоздали облик прежних травяных морей с раскиданными кустами шиповника, колючего, осыпанного цветами дерезняка – родственника желтой акация, бобовника – родича миндаля, степной вишни.
Еще недавно казалась неиссякаемой рождающая сила степей… В 1850 году на выставке в Лондоне как диковинку показывали «арнаутку», выросшую около Керчи: тяжелые зерна пшеницы, we видавшей за все время своего роста ни капли дождя. Была засуха – всегда случались засухи, – но почва сама тогда не только накормила, но и напоила поля.
О керченской «арнаутке» вспомнил А. В. Советов в своей докторской диссертации. Уже тогда, в шестидесятых годах, он озабоченно отмечал исчезновение «силы земли».
Красные хлеба, твердые яровые пшеницы утрачивают стекловидность; падает содержание в них азота. Почти всюду идут им на смену мягкие хлеба, мягкие пшеницы. А затем дело кончается серыми хлебами – озимой рожью, овсом, меленьким «рязанским», «тамбовским» просом. Где, опрашивал Советов, где теперь «бланжевое оренбургское» и «червонное» просо?
А в годы бедствия другой замечательный русский агроном А. А. Измаильский пишет книгу «Как высохла наша степь».
«Степь – обыкновенная наша степь… слишком слабо отеняется своей тощей растительностью… солнечные лучи совершенно беспрепятственно нагревают почву степи, а ветер на этой почти голой поверхности, ничем не стесняемый в своем движении, свободно уносит и те жалкие крохи дождя, которые успевают не надолго скрыться в верхнем слое почвы».
Какой разительный контраст со степью Тараса Бульбы! Измаильский предостерегал:
«Если мы будем продолжать так же беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности наших степей, а в связи с этим и на прогрессирующее иссушение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем наши степи превратятся в бесплодную пустыню».
Он напечатал разрядкой это предостережение. Пустыня! Страшное слово произнесено.
В чем же причина грозного зла?
Общий ответ был уже очевиден русским ученым.
Эта причина – в обломовском хозяйничании помещиков, в хищничестве разбогатевших, «садившихся» на землю, чтобы выжать из нее все соки, купчишек (вспомним Лопахина из «Вишневого сада»). И в трехполке да двухполке на лоскутках деревенской землицы.
Исследовательская мысль, однако, должна была найти точное естественнонаучное объяснение вредоносности хищнического, бескультурного хозяйничания. Что именно происходит с почвой, когда мы говорим: земля испорчена.
То объяснение, которое в течение нескольких десятилетий господствовало в науке, было прямолинейное объяснение немецкой агрохимической школы, возглавляемой знаменитым Юстусом Либихом (им кололи уже глаза студенту Докучаеву). Снимая жатву, утверждала эта школа, мы что-то забираем из почвы: ведь растения, убираемые нами, строили свое тело за счет почвенных веществ. Волшебных кошельков с неразменным рублем не бывает. Растрачивая, надо возмещать. Бесчисленные ученики Либиха видели три пути возмещения. Первый – исконный, с древности известный, еще при залежной системе, когда, выпахав до предела, до дна измотав участок земли, забрасывали его «в перелог» – отдыхать. Другой путь заключался в том, что надо менять растения: потребности у разных растений разные, и при плодосмене почва будет частично отдыхать. Чтобы поощрить плодосмен попестрее, во французских войсках ввели красные шаровары и синие шинели: пусть сеют марену и вайду (из которых добываются красная и синяя краски). В германских казармах кормили гороховой колбасой: пусть сеют горох. Когда выяснилось изумительное свойство бобовых обогащать землю азотом, ученые разбили все полевые растения на истощающие и улучшающие почву.








