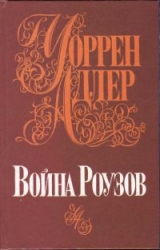
Текст книги "Война Роузов"
Автор книги: Уоррен Адлер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Мы нашли эту чертову штуковину в Миддлберге [40]40
Миддлберг Хайтс – город на севере штата Огайо, США.
[Закрыть], – он медленно выговаривал слова. Поначалу она смешалась от столь резкой перемены темы разговора. – Эта мебель вошла в моду после французской революции, в период консульства [41]41
Период консульства – имеются в виду события во Франции, когда после государственного переворота 18 брюмера VIII года (9—10 ноября 1799 г.) Наполеон Бонапарт возглавил буржуазное правительство, осуществляя свою власть в форме консульства, пока в мае 1804 года не был провозглашен императором Наполеоном I.
[Закрыть], сделана около 1810 года. Мы ее отреставрировали. Знаешь, если отреставрировать антикварную вещь, она потеряет в стоимости. Бред какой-то, верно? Но нам нравилась сама эта идея. Что за чудная фантазия была у людей в то время. Кровать в форме саней. Закрываешь глаза и соскальзываешь в спокойную дремоту.
– И все же это всего лишь вещи, Оливер.
– Когда-то и я так думал. Но теперь они стали снами, да – это сны, словно ты вступаешь в чью-то жизнь. Начинаешь гадать, сколько людей спали в этой кровати, о чем они думали, какой была их жизнь, – его взгляд обежал комнату. – Это больше, чем просто предметы. Думая о них, ты продлеваешь им жизнь. Может быть, жизнь – это сон.
– Я знаю, они очень красивы. Понимаю твои восторги. Но все равно они мертвые предметы, не могут чувствовать. Люди – вот с кем надо считаться в первую очередь.
Она повернулась, и он обнял ее. Она почувствовала его дыхание над своим ухом.
– И я люблю твоих детей, – продолжала она. – Привязалась к ним, готова многое для них сделать. Мне кажется, они должны обладать какой-то невероятной выдержкой, чтобы благополучно пройти через испытание. Вы жестоки к своим детям, они не простят вам.
– Я знаю, – шепнул он. Упоминание о детях, казалось, вернуло его к действительности. – И я не хочу делать им больно и дальше. К слову говоря, я решил отправить их на лето в лагерь. Лучше им побыть подальше отсюда, пока все не кончится.
На самом деле идея отправить детей пришла ему в голову только что. После их отъезда Энн тоже сможет уйти. Он надеялся, что она сама придет к такому выводу. Но тут возникала другая проблема. Они с Барбарой останутся вдвоем на целых два месяца. Одни. Он пожал плечами, в который раз недоумевая, как докатился до такого ада. С ним действительно что-то произошло, он признавал это. Возможно, потерял чувство собственного достоинства, мужскую гордость. Несомненно, утратил власть над ходом вещей. Он снова повернулся к Энн, ожидая одобрения его решения, желая получить ощущение утраченной силы. Он обнял ее, тут же почувствовав желание.
– Спаси меня, Энн, – умоляюще шепнул он.
– Хорошо, Оливер, – прошептала она в ответ, когда он начал снимать с нее одежду.
– Прости меня, – пробормотал он. – Чертов Гольдштейн.
– Гольдштейн?
– Он сказал, женщины, когда любят, обязательно делают глупости.
– Он сказал правду, – ответила она. Он сжал ее в объятиях, как утопающий человек хватается за брошенную ему веревку.
ГЛАВА 17
Джош с дедом настреляли две дюжины кроликов, и Барбара, упаковав тушки со льдом и не сняв шкурок, взяла их домой. Еще у отца она выпотрошила пятнадцать кроликов и также забрала домой. Тушки, словно казненные преступники, висели теперь на крюках для посуды над рабочим столом в ее кухне. Она снимала кроликов по одному, вспарывала каждому по всей длине брюхо, а затем отделяла шкурку. После этого вскрывала грудную клетку, удаляла внутренности, нарезала тонкими ломтиками мясо и складывала в большую миску.
Идея изготовить рагу из кроликов пришла к ней совсем недавно, и она уже начала обрабатывать французский рынок, подготавливая его к новому блюду. Она была рада работе, которая временно отвлекала от мыслей. Термонт позвонил ей в воскресенье. Все сорвалось. Детектив был расстроен и напуган, требовал немедленной уплаты, ссылаясь на то, что Оливер украл у него часть оборудования, остатки которого она уже заметила в баке для мусора.
Разумеется, она вовсе не в восторге от необходимости слежки за мужем, но, говорила она себе, у нее нет другого выбора. Если бы он только понял и убрался из дома раз и навсегда. Она удивлялась, что почувствовала укол ревности. Она понимала, какие опасности таит в себе воздержание для мужчины, и знала, что в определенных обстоятельствах Оливер непременно не устоит. Часто, вернувшись домой после продолжительных командировок, он налетал на нее словно похотливый зверь. Она, разумеется, покорно подчинялась, не столько ради радостей секса, сколько для поддержания статуса образцовой супруги. Все это входило в обыденную программу их отношений, что давало ей теперь дополнительный повод еще больше ненавидеть себя за свою прежнюю жизнь.
Отчасти она даже чувствовала облегчение, что не придется смотреть на собранные детективом доказательства. Но тут же собственная мягкотелость рассердила ее, и она принялась кромсать кроликов с таким жаром, словно перед ней была вражеская плоть. Кто ее настоящий враг? Она сама? Оливер? Энн? Ей хотелось извиниться перед Энн. Она действовала в каком-то угаре. Ее поступок просто уловка, часть ее тактики. На войне людям приходится переступать через собственное "я", подавлять в себе сочувствие, доброту, разум.
Термонт запретил ей даже обсуждать случившееся с кем бы то ни было.
– Забудьте. Мы промахнулись, – пролаял он по телефону и, чтобы предупредить распиравший ее протест, тут же повесил трубку на рычаг.
Остатки оборудования в мусорном баке свидетельствовали о ярости Оливера. В этом он тоже совершенно не походил на того человека, каким был прежде. Оливер всегда руководствовался логикой, никогда не проявлял признаков жестокости и вообще очень редко выходил из себя. Он никогда не терял головы. Хладнокровие было еще одной его чертой, за которую теперь она его презирала.
"Надо уметь владеть собой, не показывать слабые места", – когда-то он вложил этот урок в ее память, и теперь она старательно следовала его советам.
Ей удалось, подумала она, выстоять первую встречу с Энн с недюжинной актерской выдержкой. Они обменялись будничными фразами о погоде и о прошедших выходных. Барбара завела длинный монолог о своей поездке с детьми, как будто между ней и Энн ничего не произошло. Энн держалась заметно холодно, хотя небольшое подрагивание губ и нервные взгляды, которые она бросала время от времени на Барбару, выдавали установившееся между женщинами напряжение. Лишь когда Энн ушла в свой университет, в Барбаре поднялся гнев. Эта маленькая сучка трахнула Оливера под крышей ее дома, в комнате рядом со спальней дочери. Все внутри клокотало от ярости, отчего еще быстрее двигался нож, которым она разделывала кроликов.
Необычные обстоятельства этого утра нарушили привычный ход ее мыслей, и, лишь заложив кроличьи потроха и мясо в мясорубку, она сообразила, что еще не кормила и даже не видела этим утром Мерседес. Барбара поискала в обычных укромных местах вокруг кухни, затем прошлась по любимым логовищам кошки в саду и заглянула на балки гаража.
– Мерседес, – крикнула она, ласково подзывая кошку. Так и не дождавшись ее появления, она разочарованно вернулась на кухню. Может быть, Энн забыла о Мерседес, особенно если вспомнить, как была занята в эти дни, подумала Барбара с усмешкой.
Перемолов крольчатину вместе с телятиной и свининой и добавив к этой смеси лук и чеснок, Барбара позвонила в приемник для животных и тщательно описала служащему приметы Мерседес.
– Позвоните нашим выездным работникам. Возможно, ваша кошка ушла из дома.
Дозвониться до них оказалось нелегко, и, когда Барбара наконец продралась сквозь этот бюрократический кошмар, все оказалось впустую. Впрочем, она была довольна уже и тем, что о мертвых животных в эти дни сообщений также не поступало. Но Мерседес никогда раньше не пропадала из дома. Барбара взяла ее к себе еще котенком; Мерседес редко куда уходила даже в дневное время, порой надоедая своей хозяйке, без конца слоняясь по кухонным полкам. Надо будет спросить у Энн, когда та вернется. В конце концов, Мерседес поручили ее заботам. Ирония ситуации расстроила Барбару. Она больше сочувствовала пропавшей Мерседес, чем Оливеру. Вот если бы он пропал…
Она смешала вино, коньяк, соль, перец, тимьян, петрушку и масло в небольшой чашке, затем вылила эту смесь в миску с мясом, накрыла ее и поставила в холодильник. Холод и пряности отобьют душок. Прежде чем закрыть дверцу, она задержала взгляд на фарше и снова вспомнила о том, что случилось с выпечкой на Рождество.
– Ублюдок, – выкрикнула она.
Открыв дверь в сад, она снова позвала Мерседес. Оливер никогда не любил кошку, и Барбара всегда подозревала, что он завел Бенни, просто чтобы досадить ей. Равным образом он не понимал, как это женщина может иметь с кошкой особые отношения. Она была уверена, что из всех членов семьи только Мерседес по-настоящему ее понимала, и именно Мерседес она изливала свои потаенные думы. Мерседес была мудра и искренна, она была более чуткой и более тонкой, чем все остальные домочадцы. Барбара всегда могла рассчитывать на ее теплое отношение к себе.
Однажды Мерседес вспрыгнула Оливеру на голые ягодицы, когда они с Барбарой занимались любовью, расцарапав его до крови. Он настаивал на том, чтобы обстричь ей когти, но, поскольку Барбара в свое время уже согласилась на стерилизацию кошки, за когти она вступилась решительно.
– Как же можно лишить ее когтей? – упрекала она Оливера. – Ей же нечем будет драться.
– Или нападать на меня, – протестовал Оливер. Теперь ирония пришлась к месту. Мужчины просто не способны понять животных-самок.
Но Барбара равным образом страдала от Бенни, который в течение нескольких лет спал в их комнате, поднимал лай на каждый скрип или шорох, порой мастурбировал о ее ногу своей отвратительной надувшейся красной штукой. Дети не интересовались животными.
– А разве она не пришла домой? – ответ Энн на вопрос Барбары не был ни убедительным, ни ободряющим.
– Зачем бы я стала спрашивать? – вежливо спросила Барбара, избегая столкновения. Но Энн быстро отвернулась.
Барбара, разумеется, не успокоилась, а Мерседес так и не возвращалась. Промучившись в ту ночь от бессонницы, она рано оделась и спустилась в кухню, чтобы закончить свое рагу из кроликов. Снова вспомнив о пироге, она попробовала смесь на вкус – нельзя допустить еще раз оплошность. Воспоминание воспламенило ее злость, и она разбивала яйца с несвойственной ей силой, смешивая их с мукой. Приготовление обычно служило успокаивающей терапией, но на этот раз не помогло. Иногда, занятая каким-нибудь блюдом, она целиком погружалась в работу. Теперь же едва могла сконцентрировать внимание. С огромным трудом ей удалось обложить форму для выпечки хлеба ломтиками бекона, выложить приготовленный фарш. Она даже забыла выложить верх беконом, лавровым листом и стеблями петрушки – пришлось вынимать форму из плиты, чтобы завершить работу.
Затем Барбара вышла на улицу в поисках Мерседес, чувствуя, что все напрасно. Мог ли Оливер убить невинную Мерседес в отместку ей, Барбаре? Трудно было поверить, что он способен убить ее любимицу. Размышления о возможности такого поступка вывели ее из себя. Однако Мерседес по-прежнему не приходила. Барбара утратила чувство времени. Вернувшись четыре часа спустя, она по запаху паленого мяса определила, что забыла установить таймер на плите и испортила рагу. Это лишь усилило тревогу и раздражение.
Она набрала номер Термонта.
– Я думаю, он убил Мерседес, – выпалила она в трубку.
– Это машина?
– Нет, кошка.
– Вы уверены?
– С каждой минутой все больше. Кошка не возвращается вот уже два дня. Такого раньше никогда не было. Энн помазалась в мученицы, и говорить с ней невозможно. Но Мерседес – невинное животное. Не в силах поверить, что он мог сотворить с ней что-то чудовищное, – она почувствовала, как к горлу подкатились рыдания.
– Стоит ли из-за кошки поднимать шум?
– Вам, мужчинам, не понять, что может значить для женщины кошка. Это необычный магнетизм, особый род любви…
– У вас есть доказательства?
– Ну, Мерседес пропала. Этого достаточно. Я поручила ее Энн, когда уезжала. Думаю, Оливер в гневе убил ее. Вы бы посмотрели, что он сделал с оборудованием того, – ее губы начали дрожать, она не узнавала собственного голоса.
– Не делайте никаких глупостей, – сказал Термонт, но она не ответила и повесила трубку. Не в силах совладать с душившими ее рыданиями, она пошла наверх, приняла таблетку и заснула мертвым сном.
Она проснулась, когда большие часы в вестибюле пробили одиннадцать. Это смутило ее, но помогло восстановить чувство времени, вместе с которым вернулась грусть, вызванная исчезновением Мерседес. Она услыхала, как залаял Бенни и как Оливер пошел наверх к себе в комнату. Она выскочила в коридор, решив перехватить его.
– Что ты сделал с Мерседес? – закричала она. Из комнаты Евы доносилась музыка, там работала стереоустановка.
– Это звучит как обвинение, – ответил Оливер. У него был помятый и необычно усталый вид.
– Я требую объяснений, – орала она, чувствуя, как ярость захлестывает сознание. Вся ее нервная система, казалось, начинала вибрировать от ярости. – Я не думала, что ты способен на убийство.
– Итак, ты уже провела расследование и признала меня виновным.
– Она ни в чем не была виновата. Просто была моей кошкой. Поэтому ты и убил ее.
Он оглянулся, посмотрев, пуст ли коридор.
– Ну ладно. Пойдем в мастерскую, чтобы дети не услышали.
У нее дрожали колени, когда она шла за ним следом, разглядывая его затылок. Волосы, казалось, поседели еще больше. Она помнила, как он был расстроен, когда первые серебряные нити показались в его черной, как смоль, шевелюре. Ему исполнилось тогда всего двадцать восемь, и она часто дразнила его: "Мой старик". Теперь ты стареешь вместе со мной. Подожди, еще не то будет, говорила она. Комок поднялся у нее в горле, и она выбросила из головы все воспоминания. Она не позволит какой-то чувствительности поколебать решимость.
Он остановился на секунду, чтобы включить печку в сауне, затем прошел в угол мастерской и прислонился к верстаку, поигрывая рукояткой тисков. Она не решилась подойти ближе. А ведь когда-то они работали здесь бок о бок, он учил ее пользоваться инструментами, с большим терпением передавал мастерство. Теперь инструменты пугали. Он снял куртку и ослабил галстук.
– Твоя маленькая кошечка встретилась со своим создателем.
Эти слова, произнесенные совершенно неожиданно, приковали ее к месту, и она прикусила губы, чтобы они не дрожали.
– Тебе зачем-то понадобилось устраивать этот грандиозный спектакль, – продолжал он. – В моем собственном доме. С использованием комнаты моей дочери. Это отвратительно. По-варварски. Дико, – на мгновение его голос зазвенел, но затем он снова заговорил спокойно, подняв глаза и обращаясь к потолку: – Мне было бы стыдно даже намекнуть об этом моим детям. Бросить в меня Энн, словно кусок мяса.
– Но Мерседес… – начала она. – Мерседес ни в чем не была виновата.
– Равно как и Энн.
– Энн жива.
– Ну и Мерседес могла бы жить, если бы не этот твой дурацкий Шерлок Холмс, – он посмотрел на нее и покачал головой. – Я не убивал ее. Я вообще не убиваю животных. Ее раздавил твой детектив, когда удирал отсюда в своем фургоне.
Она пыталась справиться с шумом в голове.
– Это ты виноват, – сказала она, не в силах подавить панику. – Может быть, не прямо. Но виноват. И кажется, ты теперь радуешься. Ты всегда ненавидел Мерседес.
– Я никогда особо не любил кошек, особенно самок, – пробормотал он, принимаясь расстегивать рубашку.
– Я никогда не прощу тебе этого, Оливер. Никогда, – сердце громко колотилось, она чувствовала, что не может дать выход душившему ее гневу.
– Не простишь меня? Ты превратила в ад нашу жизнь и еще лепечешь здесь о каком-то прощении? Да о чем с тобой после этого говорить? – он потряс пальцем перед ее лицом. – Ты стала безумной, неуправляемой сукой. Все, что ты с нами натворила, не имеет ровным счетом никакого смысла. Так что забирай деньги и убирайся. И не замахивайся на все, словно меня здесь не существует, словно я не вложил в этот дом все мои силы и все мои деньги. Это же просто нелогично.
– Плевать мне на логику! А портить мой пирог было логично?
– А мои орхидеи? Это уж конечно верх логики! – он расстегнул рубашку и стал вытаскивать ее из брюк. Она вспомнила, как когда-то страстно жаждала его тела. "Мой прекрасный бог". Воспоминания вновь и вновь всплывали в ее голове, словно она навсегда заблудилась вместе с ними в какой-то пещере.
– Я никогда не отступлюсь, Оливер. Никогда.
– Это решит суд.
– Я подам апелляцию. Это будет длиться вечно.
– Ничто не длится вечно, – он отвернулся, снял брюки, нижнее белье, демонстрируя свою наготу. Она смотрела, как он прошел к сауне. Прежде чем открыть дверь, он обернулся.
– Поцелуй меня в задницу.
Затем вошел в сауну и закрыл за собой дверь. Она стояла, пригвожденная к месту, уже исчерпав пределы ярости, странно спокойная, чувствуя только холодную ненависть. Ее взгляд бродил по мастерской. Она сама удивилась, как четко работает ее мозг. Она увидела скобу, которая аккуратно прижимала к стене стамески разных размеров. Выбрав одну, она сняла висевшую рядом деревянную киянку и двинулась к сауне. Поместив заостренный конец стамески в щель между полотном тяжелой, красного дерева, двери в сауну и косяком, она с размаху ударила киянкой по деревянной рукоятке стамески, накрепко заклинив ее в этом положении.
– Приятно попариться, – пробормотала она и кинулась вон из мастерской.
ГЛАВА 18
Он услышал удар в дверь, но не придал этому значения. Конечно, она страдает по Мерседес. Столкновение было неизбежно, и он рад, что оно не состоялось. Но как она могла подумать, что это он убил Мерседес? Неужели она всерьез верит, что он способен на такое?
С самого начала нового этапа их отношений его приводила в замешательство ненависть, которую она выказывала к нему, но лишь теперь он понял всю глубину этого чувства. Он вовсе не отвергнутый супруг, с которым она провела много, как ему казалось, спокойных и счастливых лет; нет, он ее смертельный враг. Может быть, у нее что-то не в порядке с головой. Наверное, она нуждается в помощи специалиста.
Разумеется, он не обсуждал всерьез такую возможность с Гольдштейном. Как они докажут, что ей нужна медицинская помощь? Но и как отнесутся к нему судьи? Не исключено, что она помешалась, слетела с катушек. Он сделал ей вполне разумное предложение. Несомненно, Соломон бы решил дело в его пользу. Прилив оптимизма успокоил его. Он уверен, что в конце концов победит.
Проблема в том, что он начал поддаваться крайностям. Впредь надо тщательно следить за своими эмоциями и не выпускать их из-под контроля. Ему нужно переждать необходимый отрезок времени, набраться терпения, остаться самим собой. Ей же, напротив, предстоит более нелегкая задача: доказать, что она пожертвовала ради него своей карьерой, и теперь в качестве компенсации за такое жертвоприношение имеет реальные права на дом со всем его содержимым. Да судья должен быть просто сумасшедшим, чтобы удовлетворить такое безумное требование!
В сауне становилось все жарче, и он чувствовал, как открываются все поры его кожи, как из тела приятно истекает влага. Нет ничего лучше сауны, чтобы снять напряжение. Он чувствовал, как страдание и волнение покидают его тело.
Он установил регулятор на максимальный жар, решив загнать себя до потери памяти, так, чтобы холодный душ доставил ощущение изысканной расслабленности. Затем он вернется, повторит всю процедуру еще три раза, потом дотащится до постели и провалится в здоровый сон. В городе не осталось ни одного нового кинофильма, который бы он еще не посмотрел, и он допоздна сидел у себя в офисе, занимаясь разными делами, лишь бы убить время. По дороге домой он съел пиццу, которая осела где-то на полпути между горлом и желудком. Барбара, право же, выбрала не самое лучшее время для столкновения.
Термометр на стене показывал уже 200° [42]42
200° – по шкале Фаренгейта, приблизительно соответствует 93° по шкале Цельсия.
[Закрыть], но он продолжал лежать, лениво развалившись на полке из красного дерева, чувствуя, что тает от жары. Он знал, как быстро холодная вода восстановит его, впрыснет ему адреналина; вот тогда он погрузится в приятное изнеможение. Утром же проснется свежим и бодрым, готовым потягаться с тревогами нового дня.
Сауна, он давно это обнаружил, обладала способностью рассеивать депрессию, обновлять тело. Он следил за тем, как крохотные пузырьки пота сочились сквозь поры, и, протянув руку, размазал масляную жидкость по всему телу. Сауна изолировала его в маленькой комнатке из красного дерева, и он привык видеть в ней материнскую утробу, теплую и удобную. Волнения внешнего мира в сауну не допускались.
К тому времени, когда ртуть в термометре достигла опасной отметки в 220°, он затеял с самим собой игру: решил высидеть до максимально возможной степени нагрева тела, а затем быстро выскочить под душ. Резкая смена температуры накачает его адреналином, подзарядит, стирая всякое уныние и переживания. Тело нагревалось все сильнее, и, когда он сел, пот потоком хлынул по его спине и груди. Маслянистая жидкость сочилась по ягодицам, и он мягко скользил взад и вперед на полке, наслаждаясь прикосновением кожи к гладкой поверхности дерева. Он знал, что подвергает себя испытанию, превышая пределы с единственной целью – доказать твердость собственной воли.
Наконец он решил, что сдержал данное себе слово, соскользнул с высокой полки и толкнул дверь. Она не поддалась. Тогда он толкнул ее еще раз. По-прежнему никакого движения. Он налег на дверь плечом и услышал слабый треск, но она даже не пошевелилась. Сжав кулаки, он замолотил ими по обшивке двери, начал кричать. Звуки эхом разнеслись по парилке.
Он прислушался, но не услышал никакого ответа. Слабея, он опустился на колени и прижался щекой к деревянному полу, где воздух был холоднее, перекатился на спину и, чувствуя, что силы покидают его, начал колотить в дверь подошвами ног. Он чувствовал, что теряет сознание. До него дошло, что он все еще не выключил печку. Он поднялся, шатаясь от слабости, с трудом делая каждый вдох, ощущая, как горячий воздух обжигает легкие, и перевел терморегулятор в положение "ВЫКЛ".
Снова растянувшись на полу, он попытался собраться с мыслями. Жар, он знал это, будет выходить очень медленно. В свое время он специально позаботился, самолично намертво стянув все соединения. Лежа на спине, он снова попытался закричать.
– Помогите! – крикнул он, но силы уходили, сознание туманилось. Впрочем, он все равно не смог бы ни до кого докричаться, он понял это даже в нынешнем состоянии паники. Они все находились двумя этажами выше. Он вспомнил глухой звук, который услышал, когда вошел в сауну, – звук удара. Он думал, это ее кулак – следствие краткой вспышки ярости. Теперь он был уверен, что она заклинила чем-то дверную щель. У него больше не было сил шевелиться, грудь горела. Посмотрев наверх, он увидел, что температура понемногу начала спадать. Столбик ртути уже миновал красную черту и приближался к отметке в 200°.
Закрыв глаза, он стал ждать. Страх за свою жизнь был ему в диковинку. Если не считать того случая с ложным сердечным приступом, он никогда еще не чувствовал себя на краю неминуемой смерти. Он не мог заставить себя поверить, что ему дважды удастся выскользнуть из ее объятий, равным образом он не мог примириться с мыслью, что Барбара оказалась способной на такое. Что-то и в самом деле в ней переменилось. Словно повернулся какой-то выключатель. Если он переживет эту ночь, решил он, то тут же уедет из дома. Надо бежать от нее как можно скорее. Температура продолжала опускаться, и паника понемногу проходила. Он поднялся на колени, затем снова лег на спину, но пот уже начал охлаждать тело. Затем в голове помутилось, и он погрузился в глубокое забытье.
Когда он пришел в себя, то уже остыл и смог встать на ноги. Он постучал по двери основанием ладони, по звуку определив, в каком месте вбит клин. Он понял свою ошибку: не надо давить на центр двери. Собравшись с силами, уперевшись руками в толстый край, выступавший над полкой, он начал бить пяткой в точку чуть пониже того места, где, по всей видимости, держался клин.
Он почувствовал, как дверь со скрипом подается. Еще несколько ударов, и она распахнулась настежь, и тогда он услышал, как стамеска упала на пол. Все еще шатаясь, он подошел к душу и включил холодную воду.
Придя в себя под струями прохладной воды, он хотел броситься вверх по лестнице, выломать дверь в ее комнату и избить жену до полусмерти. Хуже того – ему хотелось ее убить. Искушение было так велико, что он все не решался подняться наверх.
Он уже не отдавал себе отчета в том, что делает. Обнаженный, он двинулся вверх по лестнице, сжимая в руке стамеску, словно кинжал. Он шел крадучись, как наемный убийца. Да, не было сомнений, он жаждет убийства, если не ее самой, то чего-нибудь, что принадлежало бы ей. Ей одной. Проходя по оранжерее, в эти минуты залитой светом полной луны, он почувствовал аромат растений – ее африканских фиалок, ее бостонских папоротников, и воспоминание о погубленных орхидеях тут же выкристаллизовалось в действие.
Острым концом стамески он срезал стебли, выдергивал их из горшков и складывал аккуратной стопкой рядом с краем ковра. Но и после этого он не почувствовал удовлетворения. Поэтому взял стебли в руки, держа их как мертвые тела, и принес на кухню, где положил рядом с раковиной мойки. Выбрав самую большую кастрюлю, которую смог найти, он сложил в нее стебли, затем наполнил кастрюлю водой и поставил на огонь; зарезать, утопить, сварить. Все это, он знал, совершенно бессмысленно. Безумие. Но ему стало легче. Он поднялся к себе и тут же заснул.
* * *
– Она пыталась убить меня, Гольдштейн. Это же ясно как божий день, – он все еще был слаб, и от слишком глубоких вдохов у него болели легкие. Утром пришлось взять такси, чтобы добраться до Коннектикут-авеню.
– Это похоже на историю из Агаты Кристи. Неужели она такая умная? – Гольдштейн побледнел от услышанной новости, выпуская клубы сигарного дыма.
– Я готов признать, что она очень умна, да еще при этом умеет обращаться с инструментами. Я сам научил ее тысяче разных вещей. Она вбила клин по всем правилам, – несмотря на гнев, он не мог подавить в себе странного восхищения Барбарой. Он сам породил этого монстра.
– Но ведь все обошлось? Должно быть, она знала – вы не дадите себя зажарить, – Гольдштейн разогнал перед собой дым, словно этим жестом мог прочистить себе также и мозги. – Я не стану смотреть на это сквозь пальцы, но, для того чтобы подать на нее обвинение в преднамеренном убийстве, ваши показания неубедительны.
– И это очень странно, Гольдштейн, – Оливер сжал кулаки и застучал по столу. – Все, что сейчас происходит, очень странно.
Вспышка ярости напугала Гольдштейна, и он спешно принял свою обычную позу всезнающего человека.
– Вы не должны поддаваться гневу, Роуз. Вы хотите, чтобы я заявил, будто она пыталась вас убить. Но для этого нужны веские доказательства, а не косвенные намеки. В полиции над вами просто рассмеются и скажут, что вы пытаетесь с их помощью решить свои мелкие житейские неурядицы.
– Это не смешно.
– Для вас – не смешно. Для меня – не смешно. А для полицейских – смешно. А все смешное становится одиозным. А одиозное привлекает к себе любопытство. Кроме всего, я не консультирую по уголовным делам.
Оливер вскочил на ноги и зашагал по комнате, но, почувствовав боль в легких, снова сел.
– Я знаю, что она пыталась убить меня. Что бы вы тут ни говорили, Гольдштейн, ничто не убедит меня в обратном. Она просто достигла нового порога ненависти.
– А вы? – в упор спросил Гольдштейн.
– Терпеть не могу, когда у вас такой… раввинский вид, такой надменный, словно вам известны все тайны человеческого сердца.
– Вы не ответили на мой вопрос, – сказал Гольдштейн, словно споря с Богом.
– Хорошо, да. Я тоже хотел убить ее. Да, такая мысль посетила меня, и я едва не поддался. К счастью, меня отвлекли цветы, и пришлось убить их вместо нее. Это звучит дико, но зато она получила предупреждение. Со своей стороны я могу добавить, что эти цветы спасли ей жизнь, – он проговорил эти слова медленно, расчетливо. Гольдштейн, казалось, застыл от такого признания, а затем умоляюще взмахнул руками.
– Все, что вы сейчас чувствуете, совершенно естественно… – начал он.
– Так вы еще и психиатр, Гольдштейн?
– Если бы я был психиатром, то выставил бы вам сразу два счета за свои услуги. Я всего лишь хочу вложить в вашу голову немного мудрости. Я не собираюсь давать никаких установок. В каждом человеке живет потенциальный убийца. Но чувства проходят. В противном случае мы все оказались бы в большой беде.
– Это и есть ваша мудрость?
– Нет, еще кое-что. На вашем месте я перестал бы реагировать на жену. Просто жил бы как в вакууме.
– Это нелегко.
– Кто говорит, что это легко?
– Иногда, Гольдштейн, – сказал Оливер, – я хочу бросить все к черту. Убраться из города. Начать все сначала. Если бы только я не был забубенным законником, встроенным в Федеральную торговую систему. Здесь слишком легко. Слишком прибыльно, – он почувствовал, как его захлестывает волна отчаяния. – Боже, как же легко нас портят вещи, – его передернуло, когда он услышал эту избитую фразу из собственных уст.
– Появилось новое выражение – "стиль жизни". Так вот, она не хочет менять свой стиль жизни. И – посмотрим правде в лицо – вы не хотите менять ваш. В конце концов, что еще символизирует собой дом? Убежище? Глупости. Дом – это символ престижа. Дом, Роуз, – это не просто место, где вы живете.
– Идите вы к черту с вашей дерьмовой мудростью.
Гольдштейн вздохнул, снова посмотрел на него и покачал головой.
– Еще несколько месяцев. Затем судья вынесет решение. Все судьи дураки, так что либо мы, либо наши оппоненты подадут на апелляцию.
– Я не позволю ей завладеть домом. Не позволю. Я уже дважды находился на волосок от смерти из-за него. По крайней мере, образно говоря. Я держусь за него вот уже семь месяцев. Продержусь и еще пять.
– Игнорируйте ее. Разве это так уж невозможно?
– Попытаюсь, – он посмотрел на Гольдштейна. – Мистер Мудрец, если вы будете игнорировать ангела Смерти, разве он уберется восвояси?
– Я не люблю разговоров о таких прискорбных вещах по утрам.








