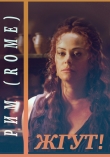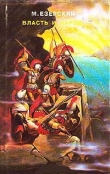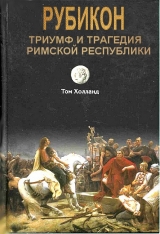
Текст книги "Рубикон. Триумф и трагедия Римской республики"
Автор книги: Том Холланд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
К оставшимся в живых сподвижникам Помпея он проявил свое прославленное милосердие. Из тех, кто принял его, никто не доставил Цезарю такой радости, как Марк Брут. После сражения Цезарь направил специальный отряд на поиски сына услады своего сердца, опасаясь за его жизнь. Но Брут был обретен целым и здоровым, и Цезарь пригласил его в круг своих ближайших советников. Решение это свидетельствовало не только о личной приязни, но и говорило о тонком расчете. Брут пользовался всеобщим уважением, и Цезарь надеялся, что привлечением его на свою сторону подтолкнет к примирению других, более упрямых соперников. И он не был разочарован. Цицерон, которого не было на Фарсальской равнине, поскольку он оставался с Катоном на Адриатическом побережье, среди прочих решил, что на этом войну можно считать оконченной. За это его едва не убили – лишь вмешательство Катона помешало возмущенным помпеянцам проткнуть оратора мечом. Сам Катон, безусловно, отказался даже думать о капитуляции. Погрузившись со своим отрядом на корабли, он отправился в Африку. Уже этот факт говорил о том, что война будет продолжаться. И в качестве свидетельства собственной непреклонности Катон объявил, что в знак скорби не только перестанет стричь волосы и бороду, но и никогда не возляжет за трапезой. Для римлянина это действительно было признаком воистину мрачной решимости.
Потом, конечно, нельзя было сбрасывать со счета и Помпея. Он также оставался на свободе. После поражения при Фарсалах он выехал на коне из задних ворот своего лагеря и поскакал к Эгейскому побережью, а оттуда, избегая наемных убийц, которые уже деловито жужжали за его спиной, переправился на корабле в Митилену. Там, в тени театра, послужившего образцом для его собственного и напоминавшего о более счастливых днях, он оставил Корнелию. Удрученный первым в его жизни поражением, Помпеи нуждался в том утешении, которое могла дать ему только жена. И она оправдала его ожидания. Корнелия, получив известие о Фарсальском сражении, в точности знала, что ей надлежит делать. Короткое беспамятство, вытертые с лица слезы, пробежка по улицам Митилены, – и она в объятиях мужа. «Представление» ободрило привычного к роли античного героя Помпея настолько, что он тут же ответил на него собственным действом, прочитав жене строгую лекцию о том, как важно никогда не оставлять надежду. Возможно, он и сам верил собственным словам. Да, битва была проиграна, но не Восток и не вся война. Действительно, многие из обязанных Помпею своими престолами царей были при Фарсалах и погибли там или сдались, но не все. Особо заметным было отсутствие одного из них, правившего самым богатым деньгами, провиантом и кораблями царством во всем Средиземноморье. Более того, он еще не вышел из детского возраста, и сестра его, добивавшаяся трона для себя самой, открыто бунтовала против брата, что делало их страну легкой добычей для владыки всего Востока. Во всяком случае, на это надеялся Помпеи. Прозвучал соответствующий приказ, и небольшой флот его отправился на юг. Через какой-то месяц после фарсальского поражения Помпеи оказался возле равнинных берегов Египта.
К царю послали гонцов. И через несколько дней ожидания на якоре возле песчаных мелей, 28 сентября 48 года до Р.Х., Помпеи увидел небольшую рыбацкую лодочку, на веслах продвигавшуюся к кораблю. Его приветствовали сперва на латыни, а потом на греческом языке и пригласили спуститься в лодку. Помпеи так и поступил, предварительно обняв и расцеловав на прощание Корнелию. По пути к берегу он попытался занять своих спутников разговором, однако никто ему не ответил. Встревоженный Помпеи поглядел в сторону берега. Там его ожидал царь Птолемей XIII, мальчик в пурпурной мантии и диадеме. Помпеи успокоился. Когда киль лодки заскрипел по песку, он поднялся на ноги. И тогда некий римский изменник обнажил меч и нанес ему удар в спину. Замелькали другие клинки. Под градом ударов «Помпеи обеими руками прикрыл свое лицо тогой и вынес их, не произнеся ни единого недостойного слова, не произведя ни единого недостойного действия, и только испустив слабый стон». [247]247
Плутарх. Помпеи, 79.
[Закрыть]Так погиб Помпеи Великий. Застывшая на палубе триремы Корнелия видела все. Однако ни она, ни экипаж триремы не могли ничего сделать, даже когда египтяне на их глазах отсекли голову еще недавно самому великому человеку Римской Республики и оставили его тело на берегу. Сторонникам его пришлось развернуть судно и бежать в открытое море, оставив лишь одного из вольноотпущенников Помпея, следом за своим господином спустившегося в ту самую рыбацкую лодку, готовить погребальный костер. Согласно повествованию Плутарха, к нему присоединился старый солдат, ветеран первых походов Помпея; и оба они вместе завершили благочестивое дело. Над местом погребения была набросана в качестве знака груда камней, однако дюны скоро поглотили ее, изгладив всякую память. Рядом не осталось никакого ориентира. И только бесконечная и нагая песчаная равнина разбегалась во все стороны.
Царица космополиса
Береговая линия дельты Нила всегда являлась местом коварным. Низменная и лишенная ориентиров она никоим образом не могла помочь моряку отыскать дорогу. Тем не менее посещавшие Египет мореходы не были все же полностью лишены путеводной звезды. По ночам корабелы еще издали могли заметить звездочку, мерцавшую над самым горизонтом, над берегом Африки. Днем можно было видеть, что на самом деле огонек этот был не звездой, а огромным фонарем, поставленным на огромной башне. Это был Фарос, не только самое высокое из сооруженных греками зданий, но и наиболее известное среди них благодаря воспроизведению на множестве «туристических сувениров». Являвший собой триумф пытливой и изобретательной научной мысли великий маяк служил идеальным символом города, его рекламой – не просто города, а мегалополиса, самого потрясающего на всей земле.
Даже гости из Рима вынуждены были признавать, что Александрия – это нечто особенное. Когда Цезарь через три дня после убийства Помпея проплывал мимо острова, на котором располагался Фаросский маяк, он приближался к городу более крупному, [248]248
Во всяком случае, согласно свидетельству Диодора Сицилийского (17.52), посещавшего и Александрию и Рим: «Населением своим Александрия превосходит все прочие города».
[Закрыть]более космополитическому и, безусловно, более прекрасному, чем его собственный. Если Рим, корявый и похожий на запутанный лабиринт, являлся свидетельством неотесанных добродетелей деревенской Республики, то Александрия всем видом своим говорила о том, чего может достигнуть царь. И притом не всякий царь. Гробница Александра Великого по-прежнему оставалась талисманом основанного им города, а план его улиц – сетка, обрамленная сверкающими белизной колоннадами, оставалась такой же, какой увидел ее три века назад победоносный македонец, вслушиваясь в шум волн у пустынного побережья. И теперь на том месте, где прежде не было ничего, кроме песка и круживших над ним чаек, простирался роскошный городской ансамбль. В этом городе впервые появилась нумерация домов. Банки его питала торговля с востоком и западом, пристани заполняли привезенные со всего мира товары. Прославленная библиотека могла похвалиться семью сотнями тысяч свитков и была построена во исполнение высокого замысла: все написанные когда-либо книги должны оказаться собранными в одном месте. В граде этом даже существовали жетонные автоматы и механические двери. Все в Александрии было достойным в превосходной степени. Неудивительно, что Цицерон, считавший все, что находилось за пределами Рима, «нищим захолустьем», [249]249
Цицерон, Друзьям, 2.12.
[Закрыть]вынужден был сделать исключение для города, соперничавшего с его собственным в претензии на звание центра мира. «Да, – признавался он, – я мечтаю, и давно мечтал увидеть Александрию». [250]250
Цицерон, Аттику, 2.5.
[Закрыть]
Он не был единственным среди римлян, кого звал к себе этот город. Земля Египта обладала несравненным плодородием, и покоривший Александрию проконсул получил бы в свои руки житницу всего Средиземноморья. Подобная перспектива давно отравляла и без того ядовитый водоворот римской политики, питая бесконечные интриги и скандалы по поводу взяточничества, однако, никто, ни Красе, ни даже Помпей, не сумел добиться египетского главнокомандования. Согласно неписаному соглашению столь ослепительный приз оставался недоступным. С точки зрения большинства сограждан было проще и выгоднее предоставить правящей династии оплачивать издержки по управлению страной. Сменяли друг друга монархи, и каждый из них идеально справлялся с ролью карманной собачки Республики, обладая достаточной силой, чтобы досуха выжимать своих подданных в пользу римских патронов, и тем не менее оставаясь слабыми в той мере, чтобы не представлять для Рима какой-либо угрозы. На столь унизительных основаниях позволено было влачить свое существование последнему из независимых греческих царств, некогда основанному полководцем Александра и представлявшему величайшую силу на Востоке.
Однако самих царей Египта следовало считать победителями в борьбе за существование. Тот Птолемей, на глазах которого посреди волн прибоя зарезали Помпея, являлся тезкой длинного ряда монархов, всегда готовых проглотить любое бесчестье и оскорбление, чтобы сохранить свою власть. К жадности, злобе и чувственности, характерным для всех греческих династий Востока, Птолемеи добавили собственный грех, унаследованный от бывших фараонов Египта: систематический инцест. Результатом инбридинга стал не только убийственный характер местных дворцовых интриг, но и вырождение, чрезвычайное даже по меркам современных им династий. Римляне открыто считали Птолемеев чудовищами, и как граждане Республики считали своим долгом при любой возможности дать им как следует прочувствовать это. Если царь был тучен и изнежен, то гостящий в Египте проконсул мог заставить его хорошенько промяться по улицам Александрии, и тот пытался угнаться во взмокших, хотя и прозрачных, одеждах за сухощавым римлянином. Граждане Римской Республики находили и более яркие способы выражения своего презрения. Катон, которого Птолемей посетил во время пребывания его на Кипре, приветствовал царя Египетского во время эффектов воздействия слабительного и всю аудиенцию просидел на горшке.
Так случилось, что Цезарь, попавший в самую гущу свирепой династической борьбы со своими четырьмя тысячами легионеров, более чем восполнил свой недостаток в войсках – за счет предрассудков соперничавших сторон. Свой подлый характер Птолемеи подтвердили в тот самый миг, когда он ступил на берег. В качестве приветственного дара ему поднесли засоленную голову Помпея. Цезарь прослезился: пускай в сердце своем он, может быть, и обрадовался кончине соперника, однако смерть зятя расстроила его, тем более когда он узнал обо всех обстоятельствах, отягчающих это преступление. Получалось, что Помпеи Великий пал жертвой злодейского подковерного заговора, организованного главными министрами Птолемея: евнухом, наемником и ученым. С точки зрения Цезаря, ничего более оскорбительного и неримского просто не могло быть. Тем не менее основной организатор преступления, евнух Потин, рассчитывал на благодарность и поддержку Цезаря в войне против сестры царя. Однако застрявший в Александрии из-за отсутствия попутного ветра Цезарь немедленно начал действовать так, как если бы сам был здесь царем. Нуждаясь в каком-либо крове, он, конечно, выбрал царский дворец, просторный комплекс укрепленных строений, распространявшийся вширь от века к веку, пока, наконец, не стал занимать едва ли не треть города, являя еще один пример превосходных достоинств Александрии. Окопавшись в этой твердыне, Цезарь выдвинул непомерные экономические требования и милостиво заявил, что готов уладить усобицу между сестрой и братом – не в качестве сторонника Птолемея, но как арбитр. Он приказал обоим молодым людям распустить свои армии и явиться к нему в Александрию. Птолемей, не отпустивший от себя ни единого солдата, подчинившись уговорам Потина, возвратился во дворец. Сестра его Клеопатра, не имея свободного прохода в столицу, осталась за линией войск Птолемея.
Но потом, однажды вечером, под покровом сгущавшихся Александрийских сумерек, к пристани возле дворца прошмыгнула лодчонка. Из нее выбрался некий сицилийский торговец, перекинувший через плечо запакованный в мешок ковер. Принесенный Цезарю ковер этот самым любопытным и восхитительным образом оказался Клеопатрой. Цезарь, как и рассчитывала молодая царица, был восхищен этим соир de theatre. Она всегда умела создавать нужное ей впечатление. И если Клеопатра и не была той легендарной красавицей, какой ее представляет предание – во всяком случае, если судить по ее изображениям на монетах, женщина эта была чрезмерно длинноносой и костлявой, – в умении обольщать ей отказать было трудно. «Ее женственная привлекательность, совместно с умением обаять собеседника разговором и харизмой, проявлявшейся во всем, что она делала и говорила, делала ее, попросту говоря, неотразимой», [251]251
Плутарх, Антоний, 27.»
[Закрыть]писал Плутарх. И кто сможет усомниться в этом, просматривая ее «послужной список»? Нельзя сказать, чтобы Клеопатра была готова улечься с кем придется. Напротив, милости ее были самым дорогим товаром в мире. Одна только власть служила ей подлинным афродизиаком. Женщины рода Птолемеев всегда были намного опаснее мужчин: умные, беспощадные, честолюбивые, наделенные сильной волей. И теперь все эти жесткие качества сконцентрировались – в Клеопатре. И именно такая, она идеально отвечала потребностям Цезаря: после более чем десяти лет «солдатчины» общество умной женщины должно было показаться ему редкостным удовольствием. Делу помогало и то обстоятельство, что Клеопатре исполнился всего лишь двадцать один год. Цезарь переспал с ней в ту же самую ночь.
Узнав о победе своей сестрицы, Птолемей впал в бешенство. Выбежав на улицу, он бросил свою царскую диадему в пыль и принялся призывать граждан выступить на его защиту. Жители Александрии и без того были склонны к мятежам и возмущениям, а крутые финансовые запросы Цезаря не добавляли чужеземцу популярности. И теперь, когда Птолемей попросил толпу напасть на римлян, она с восторгом повиновалась. Ненавистных чужеземцев осадили во дворце, и положение Цезаря оказалось настолько опасным, что ему пришлось не только признать Птолемея соправителем Клеопатры, но и вернуть обоим египетским властителям Кипр. Но даже такие уступки не смогли выручить его. Через несколько недель к осаждавшим римлян бунтовщикам присоединилось все египетское войско, примерно двадцать тысяч человек. Цезарь понял, что ситуация из просто скверной превращается в отчаянную. Он оказался запертым в душной теплице египетского дворца, в окружении коварных евнухов и пораженных инцестом царственных особ, полностью отрезанным от внешнего мира. Остававшаяся далеко за светильником Фаросского маяка Республика по-прежнему воевала с собой – однако Цезарь не мог переправить в Рим даже письмо.
Последовавшие за этим жуткие события превратили былые подвиги Цезаря в фарс. Сжигая египетский флот в гавани, библиофил Цезарь случайно спалил складские помещения, забитые бесценными книгами; [252]252
А может быть, и всю Александрийскую библиотеку, в коем «достижении» обвиняли также христиан и мусульман.
[Закрыть]пытаясь захватить Фарос, он был вынужден перепрыгнуть на корабль, оставив свой командирский плащ врагу. Однако, вопреки всем недоразумениям, Цезарю удалось не только удержать за собой контроль над дворцом и гаванью, но и закрепить свою власть другими способами. Он отправил на смерть злокозненного Потина, оплодотворил Клеопатру, побив таким образом все рекорды Помпея в области создания царей. К марту 47 года до Р.Х., когда в Египет, наконец, прибыли подкрепления, округлившаяся талия царицы являла миру свидетельство благосклонности Цезаря. Птолемей в панике бежал из Александрии и, отягощенный весом золоченого панциря, утонул в Ниле – самым удобным образом освободив для Клеопатры место на троне. Цезарь вновь поддержал победителя.
Но какой ценой? Весьма дорогой, как могло показаться. Когда коммуникации были восстановлены и Цезарь вновь вошел в соприкосновение со своими агентами, они завалили его самыми неприятными новостями. Александрийская эскапада обошлась Цезарю в потерю существенной части преимуществ, завоеванных на Фарсальской равнине. Наместничество Антония вызывало в Италии широкое недовольство; в Азии царь Фарнак, сын Митридата, доказал, что яблоко от яблони недалеко падает, захватив Понт; в Африке Метелл Сципион и Катон собирали свежую и внушительную армию; в Испании помпеянцы начали поднимать волнения. Война шла по всему миру – на севере, востоке, юге и западе. Трудно было найти такое место, где не было бы необходимо срочное появление Цезаря. Однако он задержался в Египте еще на два месяца. Раздиравший Республику раскол повергал в анархию всю империю римского народа, а Цезарь, беспокойным честолюбием своим развязавший гражданскую войну, находился возле своей любовницы.
Не стоит удивляться тому, что многие римляне усмотрели в женственном обаянии Клеопатры нечто демоническое. Превратить столь известного своей энергией гражданина в праздного бездельника, отвлечь его от предписываемого долгом пути, удержать вдалеке от Рима и судьбы, которая во все большей степени казалась назначенной богами, – тема эта была достойна великого и мрачного поэтического произведения. И непристойных выкриков. Темперамент Цезаря давно было источником веселых насмешек среди его подчиненных: «Запирайте своих жен, – пели они, – наш командир не подарок. Пусть он лыс, однако трахает все, что движется». [253]253
Светоний, Божественный Юлий, 51.
[Закрыть]Прочие шутки неизбежно напоминали о старинной истории с Никомедом. Даже тем людям, которые прошли со своим полководцем немыслимые трудности, его сексуальные способности казались в какой-то степени женственными. Цезарь уже продемонстрировал величие и стальную закалку тела и ума, но моральный кодекс Республики не знал пощады. Гражданин не имел права поскользнуться – на его тоге навсегда оставались пятна грязи.
Именно страх перед подобными насмешками помогал римлянам оставаться мужественными. Величайший ученый времен Цезаря писал, что обычай представляет собой «образ мыслей, преобразуясь, становящийся постоянным примером [254]254
Варрон, еще один из учеников Посидония. Он был сторонником Помпея и вместе с двумя другими полководцами был разбит Цезарем во время его первой испанской кампании. Считается величайшим эрудитом Рима. Цитата взята из его трактата «Об обычаях», процитированного Макробием, 3.8.9.
[Закрыть]»: разделенный и принятый всеми гражданами Республики, он создал Риму самое надежное основание его величия. Насколько иначе жила Александрия! Заново построенный на песчаных берегах город не имел глубоких корней. Нечего удивляться тому, что в глазах римлян он имел репутацию распутного. Без обычая не может быть стыда, а когда нет стыда, становится возможным все. Народ, утративший свои традиции, становится жертвой самых отвратительных и низменных привычек. И кто мог лучше иллюстрировать это положение, чем сами Птолемеи? Едва похоронив одного брата, Клеопатра вышла за другого. Вид находящейся на сносях царицы, берущей в мужья своего десятилетнего брата, способен был посрамить все подвиги Клодии. Имевшая греческое происхождение, принадлежавшая к культуре, которая составила нерушимую основу римского образования, Клеопатра была в то же время фантастически, невероятно чужой в глазах римлянина. И Цезарь как человек, наделенный необыкновенным темпераментом и склонностью к нарушению запретов, воспринимал такую комбинацию как нечто интригующее.
И все же, хотя Клеопатра предоставила ему восхитительную эротическую интерлюдию, возможность на пару месяцев отвлечься мыслью от суровых требований, предъявлявшихся к римскому магистрату, Цезарь был не из тех людей, которые способны забыть о собственном будущем, о будущем Рима. Должно быть, пребывание в Александрии дало ему богатую пищу для размышлений на эти темы. Подобно своей царице, город представлял собой смешение знакомого с необычным. Библиотека и храмы делали его совершенно греческим – более того, столицей греческого мира. Иногда, впрочем, когда менялось направление ветра, более не веявшего на его улицах морской свежестью, на Александрию ложилось облако песка, принесенного из раскаленных южных пустынь. Исконные земли Египта были слишком обширными и древними, чтобы их влияние можно было проигнорировать. Они превращали свою столицу в странное сновидение, в сложное слияние культур. Широкие улицы Александрии украшали не только точеные изваяния работы греческих скульпторов, но и скульптуры, привезенные с берегов Нила: сфинксы, боги с головами животных, фараоны с загадочными улыбками на устах. Столь же удивительными – и на взгляд римлянина, неестественными – казались некоторые городские кварталы, в которых нельзя было найти ни одного изображения богов. Александрия являлась родным домом не только греков и египтян, но и многих евреев; можно не сомневаться, что их там насчитывалось больше, чем в самом Иерусалиме. Они полностью доминировали в одном из пяти административных районов города, и хотя им приходилось полагаться на греческий перевод Торы, во многом оставались демонстративно не ассимилированными. Евреи посещали свою синагогу, сирийцы толпились у подножия статуи Зевеса, на тех и других бросал свою тень вывезенный из исконных египетских земель обелиск – так выглядел этот космополитический город.
Неужели и Риму предстоит подобная участь? Бесспорно, многие из граждан страшились этого. Перспектива растворения в болоте варварских культур всегда служила для римлян причиной паранойи. С особенным недоверием относились к иноземным влияниям правящие классы, так как боялись ослабления Республики. Господин мира – да; мировой центр – нет: таким по своей сути был всегдашний «приговор» Сената в отношении Рима. Потому-то евреев и вавилонских астрологов постоянно выставляли из города. Как и египетских богов. Даже в те отчаянные месяцы, которые предшествовали переходу Цезаря через Рубикон, один из консулов нашел время, чтобы с топором в руке начать уничтожение храма Исиды. Однако евреи и астрологи всегда находили способ вернуться, а великой богине Исиде, божественной матери и царице небесной, не стоило никакого труда поддержать своих сторонников в городе. Консул был вынужден занести на богиню топор лишь потому, что желающих исполнить эту работу в городе не находилось. Рим менялся, волны иммигрантов захлестывали его, и Сенат мало чем мог изменить ситуацию. Новые языки, новые обряды, новые религии: таковы были плоды собственного величия Республики. Отнюдь не случайно все дороги теперь вели в Рим.
Цезарь, никогда не страшившийся неизведанного и давно являвшийся практически чужаком в собственном городе, видел все это с ясностью, недоступной многим его современникам. Быть может, он всегда понимал это. В конце концов, евреи соседствовали с ним еще с детства, и он предлагал им покровительство собственного семейства. Его не тревожило присутствие иммигрантов в Риме – лишь укрепляло его самомнение. Теперь, как победитель в Фарсальской битве, он мог позволить себе оказывать покровительство целым народам. По всему Востоку каменосечцы деловито стесывали из надписей имя Помпея и заменяли его именем Цезаря – о Республике, естественно, нигде не упоминалось. Город за городом провозглашал потомка Венеры живым богом, а в Эфесе его нарекли никак не меньше, чем спасителем человечества. Головокружительная перспектива даже для человека, наделенного безжалостным интеллектом Цезаря. Ему незачем было проглатывать подобную лесть целиком, чтобы определить, какова она на вкус. Однако роль спасителя человечества плохо согласовывалась с конституционным устроением Республики. И если Цезарь стремился найти источник вдохновения, ему следовало оглядеться по сторонам. И неудивительно, что, задерживаясь в Александрии, он так внимательно присматривался к Клеопатре. В образе молодой египетской царицы он угадывал искаженное и неясное отражение собственного будущего.
В конце весны 47 года до Р.Х. счастливая пара отправилась в путешествие вверх по Нилу. Это было странствие из одного мира в другой. В конце концов, сколь удивительной ни казалась бы Александрия римским гостям, полностью чужой назвать ее они не могли. Граждане Александрии, как и сами римляне, гордились собственной свободой. Кроме того, Александрия оставалась вольным городом, и отношение ее монарха к греческим соотечественникам определялось понятием первый среди равных. Здесь еще почитали унаследованные от классической Греции традиции гражданственности, и сколь бы туманные очертания ни обрели эти предания, Клеопатра не могла позволить себе полностью игнорировать их. Однако за пределами своей столицы, на лодке, скользившей мимо пирамид или великих пилонов Карнака, она становилась совершенно иной. Роль фараона принадлежала к числу тех, которые Клеопатра исполняла с предельной серьезностью. Среди представителей своей греческой династии она первой овладела египетским языком. Во время войны с братом она обратилась за поддержкой не к Александрии, а к своим подданным, в провинцию. Она была не только почитательницей древних богов, но и одной из них – обретшим плоть божеством, воплощением самой небесной царицы.
Клеопатра сразу была и первой гражданкой Александрии, и новой Исидой. И тогда, когда Цезарь брал богиню на свое ложе, заботы по устроению далекой Республики, возможно, казались ему мелочными и приобретали еще более провинциальный масштаб, чем прежде. Поговаривали, что если бы не воспротивились его солдаты, он доплыл бы со своей любовницей до самой Эфиопии. Эта сплетня касалась не только пикантных подробностей взаимоотношений любовников – она намекала на опасную и понятную игру. Цезарь действительно начал свое путешествие в края еще не отмеченные на карте. Но сначала, однако, следовало победить в гражданской войне, и чтобы приступить к делу, Цезарь в конце мая завершил свое путешествие по Нилу и отправился вместе со своими легионами к новым подвигам и сражениям. Но что делать после победы? Проведенное с Клеопатрой время предоставило Цезарю возможность для размышлений. От плодов их зависело слишком многое: не только его собственное будущее, но и будущее Рима – и всего мира, простирающегося за пределами Республики.