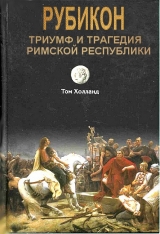
Текст книги "Рубикон. Триумф и трагедия Римской республики"
Автор книги: Том Холланд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Все достается победителю
Через год после учреждения триумвирата последние надежды на восстановление свободной Республики погибли под македонским городом Филиппы. Загнанная в угол Балканской равнины и едва не умирающая от голода армия цезарианцев вновь сумела спровоцировать врагов на сражение, имевшее фатальный исход. Брут и Кассий лишили Восток легионов, захватили власть над морем и заняли неприступную позицию; подобно Помпею на Фарсальской равнине, они могли спокойно дожидаться более выгодной для себя ситуации. И тем не менее оба они предпочли сражение. После двух невиданных по масштабу в римской истории битв сперва Кассий, а потом Брут пали на собственные мечи. В побоище погибли и другие знаменитые люди: Лукулл, Гортензий, Катон. Последний, сняв с головы шлем, устремился вглубь цезарианского войска, вслед за своим отцом предпочтя смерть позору рабства. Так поступила и его сестра. Остававшаяся в Риме суровая и добродетельная Порция ждала вестей из Филипп. Получив их и узнав, что и брат ее, и муж Брут погибли, она вырвалась из рук подружек, опасавшихся, как бы она чего не натворила, подбежала к жаровне и проглотила горячие угли. Эта женщина, в конце концов, также была римлянкой.
Быть римлянином. Но что это значило в государстве, лишенном свобод? Конечно, прежде по определению считалось, что свободу надлежит чтить превыше всего, даже больше жизни. А теперь даже героический (хотя и «неаппетитный») поступок Порции не нашел большого числа подражателей. Те, кто хранил верность идеалам Республики, теперь, когда тишина вновь воцарилась над Филиппами, по большей части пребывали в числе убитых. Утрату таких граждан невозможно было восполнить, и прежде всего из-за огромных потерь среди представителей высшей знати. По мнению римского народа, в жилах наследников знаменитых родов текла сама история города. Вот почему пресечение существования знатных семейств всегда считалось поводом для общей скорби – и именно поэтому гибель целого поколения знати, выкошенного или руками палачей, или мечами солдат в пыльной и обильной мухами Македонии, стала сокрушительным ударом для Республики. Пролита была не только кровь – утрачено нечто большее…
Среди победоносных триумвиров с наибольшей ясностью это ощущал Антоний. Он стал взрослым в ту пору, когда слово «свобода» было еще чем-то большим, чем простой лозунг, и поэтому вполне мог оплакивать ее смерть. Разыскав на поле брани при Филиппах труп Брута, Антоний почтительно прикрыл его плащом, приказал кремировать, а прах отослал Сервилии. Теперь, добившись власти, он не стремился ставить ее под сомнение новыми кровопролитиями. И чтобы не возвращаться в пораженную горем Италию как старший партнер в триумвирате, он предпочел оставаться на Востоке и исполнять роль Помпея Великого. Путешествуя по Греции и Азии, он предавался традиционным среди проконсулов Республики развлечениям: изображая поклонника греческой культуры, грабил греков, оказывал покровительство местным князькам, сражался с парфянами. Твердокаменные республиканцы воспринимали такого рода деятельность как вполне знакомую и обнадеживающую, и в месяцы и годы, последовавшие за Филиппами, остатки разбитой армии Брута постепенно стянулись к Антонию. С ним, пребывавшим на Востоке, отождествляли себя сторонники легитимности.
Только в Риме можно было надеяться восстановить свободную Республику – а Рим находился в руках человека, казавшегося главным ее врагом. Холодный и мстительный Октавиан был тем самым человеком, которого потерпевшие поражение у Филипп считали главным убийцей свободы. Уходя в цепях с поля битвы мимо своих победителей, плененные республиканцы приветствовали Антония, но проклинали и осмеивали молодого Цезаря. Репутация Октавиана не стала менее зловещей и по прошествии нескольких лет после поражения при Филиппах. После того как Лепид был отправлен своими двумя коллегами в Африку, а Антоний перебрался владычествовать на Восток, на долю младшего из членов триумвирата выпала самая хлопотная обязанность: предоставление земли вернувшимся с войны ветеранам. Поскольку земельных участков ожидали триста тысяч закаленных в сражениях бойцов, Октавиану нельзя было медлить с выполнением программы; однако активность его действий не могла не вызвать в сельских краях бедствий, подобных настоящей социальной революции. Уважение к частной собственности всегда являлось одним из краеугольных камней Республики, однако теперь, после ее кончины, частную собственность можно было секвестрировать по прихоти комиссара. Крестьяне, без компенсации изгнанные с собственных земель из-за отсутствия прочих средств к существованию, могли оказаться в отведенных рабам бараках или попасть в разбойники. Как и во времена Спартака, они буквально наводнили Италию. Вооруженные банды совершали налеты даже на маленькие города; в селениях вспыхивали восстания, порожденные бессильными вспышками страдания и отчаяния. Неспокойная обстановка не способствовала развитию сельского хозяйства. Гибли урожаи. Село погружалось в анархию, и Рим начинал голодать.
Голоду способствовало уже знакомое «заболевание». Более двадцати лет назад Помпеи очистил море от пиратов, но теперь они вернулись – и на сей раз главой их стал собственный сын Помпея. Секст Помпеи, сумевший избежать мести Цезаря в Испании, воспользовался всеобщим смятением для того, чтобы утвердиться в качестве владыки Сицилии и командующего двумястами пятьюдесятью кораблями. Перерезав транспортные артерии, он скоро взял Рим за горло. Граждане тощали от голода, плоть города распадалась: лавки заколачивались, храмы приходили в запустение, памятники лишались позолоты. Повсюду то, что еще недавно служило признаком роскоши, обращалось на военные нужды. Даже в Байях, веселых и блестящих Байях, раздавался стук молотков строителей Октавиана. На соседнем Лукринском озере строилась военная верфь, как раз над сказочно знаменитыми устричными отмелями – достойное этого времени надругательство. Скукожилась сама история; а эпос, твердящий знакомые строчки, съежился до пародии. Помпеи снова вступил в сражение с Цезарем, однако рядом с величественными отцами оба они казались сцепившимися мелкими жуликами. Пират и гангстер: два полководца, вполне соответствующие лишившемуся свободы городу.
И все же, хотя Секст и представлял собой постоянную угрозу и вполне мог причинить своей стране значительные неприятности, он никогда не достигал такого уровня, чтобы стать смертельной опасностью для цезариан. Куда большую угрозу, бросавшую свою тень на весь мир, представляло распадение триумвирата – чем закончился первый триумвират, тем же мог завершиться и второй. В 41 году до Р.Х., всего через несколько месяцев после возвращения Октавиана из-под Филипп, опасность эта стала вполне реальной. Пока Антоний отсутствовал на Востоке, жена его, сварливая Фульвия, подняла восстание в Италии. Октавиан, отреагировавший с быстрой и расчетливой свирепостью, едва сумел подавить его. Месть его самой Фульвии, однако, ограничилась оскорбительными стихами на тему ее нимфомании. Власть Октавиана в Италии оставалась непрочной, и он не мог рисковать, конфликтуя с Антонием. Фульвии было позволено отправиться на Восток, к мужу.
Впрочем, женщина благополучно скончалась в пути. И в сентябре 40 года до Р.Х. агенты Антония и Октавиана встретились на переговорах в Брундизии. После взаимных препирательств и торга пакт между обоими был подтвержден. И чтобы закрепить его, Октавиан отдал вдовцу руку своей любимой сестры Октавии. Римская империя явно и аккуратно распадалась на две части. Разделению этому препятствовали только Секст и Лепид – и их скоро сбросили с игральной доски.
В сентябре 36 года до Р.Х. Октавиан, наконец, сумел уничтожить флот Секста, бежавшего на восток и принявшего смерть от рук людей Антония. В то же самое время Лепид стал возражать против того, что его так долго держат на заднем плане, и тогда его официально лишили полномочий триумвира; причем унизительная операция эта была проведена Октавианом без каких-либо консультаций с третьим членом триумвирата. Младший Цезарь, теперь утвердившийся в Риме прочней, чем когда-либо удавалось его приемному отцу, уже мог позволить себе пренебречь неизбежными в таком случае протестами Антония. В свои двадцать семь лет он успел многого достигнуть. Не только Рим, не только Италия, – целых полмира признавали его власть.
Тем не менее власть его – как и власть Антония – оставалась властью деспота. Поспешное возобновление триумвирата в 37 году (после упразднения его в предыдущем), не было вызвано необходимостью, а становилось объяснимым лишь благодаря усталости и горестям римского народа. Чувство безысходности, которое Республика всегда возбуждала в других народах, теперь обратилось против нее самой. Еще в 44 году до Р.Х., после убийства Цезаря, один из его друзей писал, что проблемы Рима являются неразрешимыми – «ибо если наделенный подобным гением человек не сумел найти выхода из них, то кто же отыщет его теперь?». [288]288
Цицерон, Письма Аттику, 14.1.
[Закрыть]С той поры римскому народу пришлось испытать еще большее количество бурь, еще большую беспомощность. Исчезли путеводные звезды обычая, и ничто не могло заменить их.
Неудивительно, что отчаяние и растерянность начинали порождать в гражданах Республики странные фантазии:
Вот, воцаряется век последний из песни Сивиллы;
Наново нам сочтена череда несравненных столетий.
Время пришествию Девы, возврату царства Сатурна;
Ныне иное с небес нисходит к нам поколенье.
Ты одна, Лукина, рожденью младенца, с которым
Канет железный век, и племя взойдет золотое. [289]289
Вергилий, Эклоги, 4.4–9.
[Закрыть]
(Пер. Алексея Лукина)
Строки эти были написаны в 40 году до Р.Х., в самый разгар страданий Италии. Автор их, Публий Вергилий Марон или просто Вергилий, был родом из плодородной долины реки По, местности, в которой земельные комиссары действовали особенно активно. В своих поэмах Вергилий упрямо описывал горести обездоленных, и его собственное представление об Утопии было рождено не меньшим отчаянием. Масштаб катастрофы, обрушившейся на римский народ, оказался настолько огромным, что неопределенные пророческие упования, подобные тем, что давно были популярны среди греков и евреев, стали единственным доступным римлянам утешением. «Песни Сивиллы» были вовсе не теми песнями, которые хранились в Капитолии. В них не содержалось наставлений по поводу того, чем можно смягчить гнев богов, не было никакой программы действий по восстановлению мира в Республике, – всего лишь пустые мечтания и ничего более.
Тем не менее самовластцы могли обратить в свою пользу и видения. Чтобы там ни говорил Вергилий по поводу посланных небом младенцев-мессий, в действительности на роль спасителя были лишь два кандидата – и если выбирать из них двоих, именно Антоний, а не Октавиан, обладал наиболее надежной опорой в традиции. Восток, добела обескровленный последовательно сменявшими друг друга сторонами в гражданских войнах Рима, жаждал нового начала еще более пылко, чем Италия. Апокалипсические видения наполняли воображение греков и египтян, сирийцев и евреев. Митридат уже показал, каким образом честолюбивый военный предводитель может использовать подобные чаяния; но всякий, кто поступал подобным образом до сих пор, неизбежно становился врагом Рима. Представить себя в качестве бога-спасителя, давно предсказанного восточными оракулами, – более чудовищного преступления гражданин Республики просто не мог и вообразить. Теперь уже более столетия проконсулы, разъезжая по Востоку, слышали, как их называют божественными, и, подражая Александру, раздавали короны – и всегда опасались пройти этим путем до конца. Сенат не позволил бы этого; римский народ запретил бы подобное. Но теперь Республика умерла, и Антоний как триумвир не был ничем обязан ни Сенату, ни римскому народу. И искушение явилось к нему в облике великой и чарующей царицы.
Клеопатра, завоевавшая сердце Цезаря тем, что спряталась в ковре, завоевала Антония пышным спектаклем. Она давно знала этого триумвира – его любовь к пышности, удовольствиям, переодеваниям в Диониса – и точно рассчитала, чем сможет завоевать его сердце. В 41 году до Р.Х., во время путешествия Антония по Востоку, она направилась навстречу ему из Египта, причем весла ее корабля были сделаны из серебра, корма крыта золотом, пажи одеты купидонами, служанки – морскими нимфами, а сама она – Афродитой, богиней любви. Антоний самым бессовестным образом унизил ее, приказав явиться к нему. Однако Клеопатра, впорхнув через порог ставки Антония под изумленными взглядами его ошеломленных подручных самым чудесным образом переменила ход представления. Она была не настолько глупа, чтобы слишком долго привлекать внимание только к себе самой, и потому немедленно предоставила Антонию собственную роль в спектакле. «И прошло повсюду слово о том, что Афродита явилась, чтобы пировать с Дионисом ради общего блага всей Азии». Никакая другая роль не могла бы в такой мере раззадорить фантазию Антония и другая партнерша в постели – тоже. Антоний, как он и намеревался, немедленно сделал Клеопатру своей любовницей и провел с ней в Александрии восхитительную зиму. Римские матроны могли славить египетские методы контроля за рождаемостью, но Клеопатре – во всяком случае, когда она ложилась с повелителями мира, – было не до крокодильего помета. Так что скоро она забеременела и от Антония. Когда-то наделившая Цезаря сыном, Клеопатра на этот раз проявила, большую щедрость. Афродита подарила Дионису близнецов.
Здесь перед отцом их встало блистательное, но и опасное искушение – основать или нет царскую династию? Подобный поступок находился под строжайшим, даже смертельным запретом. И не стоит удивляться тому, что Антоний отверг его. Четыре года – вопреки слухам, утверждавшим, что он опьянен Клеопатрой, – Антоний избегал общества своей любовницы. Октавия, прекрасная, умная и верная, обеспечила его соответствующей компенсацией, и Антоний, на время переселившийся в Афины и посещавший там лекции вместе со своей интеллектуальной супругой, превратился в образец идеального мужа. Однако даже рядом с Октавией он не мог забыть о тех, куда более блестящих перспективах, которые открывала перед ним Клеопатра. Начали ходить скандальные истории: рассказывали, что Антоний устраивал оргии в театре Диониса, одетый подобно богу – в шкуру пантеры; что он возглавлял факельные шествия к Парфенону; что он с пьяных глаз досаждал богине Афине брачными предложениями. Все это в высшей степени компрометировало римлянина – и передача подобных сплетен из уст в уста несомненно не улучшала их содержания. Тем не менее это не приводило к крупному скандалу в Афинах или среди подданных Антония, скорее, напротив: на Востоке в первую очередь ожидали, что правитель должен быть богом.
К 36 году до Р.Х., когда Антоний и Октавиан стали двумя владыками римского мира, не имеющими других соперников, характер их власти в большей степени определялся различными традициями ее основ. Перед обоими стоял один и тот же вызов, требовавший утвердить легитимность своей власти не только мечом. И тут Октавиан как правитель Запада обладал важнейшим преимуществом. Они с Антонием оба были римлянами, но только Октавиан владел Римом. Когда Октавиан возвратился в столицу после победы над Секстом, его впервые приветствовали с подлинным энтузиазмом. Консерватизм, внутренне присущий его согражданам, пережил утрату ими свободы, и теперь, испытывая благодарность к Октавиану, принесшему им мир, они выразили его на языке своих старинных прав: предложили завоевателю священную привилегию – неприкосновенность трибуна. Она могла иметь какой-либо смысл только в возрожденной Республике, и Октавиан, принимая ее, намекнул на возможность подобной перспективы. Это не давало какой-либо гарантии – к этому времени римляне научились не доверять пышной риторике. Однако, потопив флот Секста и отправив Лепида в бесславное изгнание, Октавиан мог, наконец, приступить к реализации своих претензий на то, что действует в интересах мира. Были отменены налоги, возобновлены поставки зерна, в сельские края отправили комиссаров – восстанавливать там порядок. Демонстративно были сожжены все документы, связанные с гражданской войной. Ежегодные магистраты начали возвращаться к исполнению своих обязанностей. Поистине – назад в будущее.
Безусловно – пока что – не до конца. Октавиан не имел намерения отказываться от власти триумвира, пока Антоний сохранял за собой подобные полномочия, а для Антония, обретавшегося вдали от родного города, реставрация Республики едва ли являлась первостепенным делом. Честолюбие его, напротив, обратилось в совершенно другом направлении. Триста лет, прошедших со времени Александра, мечты об универсальной империи бродили в воображении греков и в конце концов были унаследованы Республикой. Однако она сохраняла к ним подозрительное отношение, и даже величайшие среди ее граждан – Помпеи и сам Цезарь – опасались следовать им до конца. Так поступил и Антоний, бежавший от искушений македонской царицы, чтобы стать мужем скромной римской матроны. Однако прошло четыре года, наполненные такой властью, какой гражданин никогда не получал на Востоке, а искушения так и не оставляли его. И в итоге Антоний оказался слишком самонадеянным, слишком увлеченным собственными амбициями, чтобы противостоять им. Октавия – оставшаяся до конца верной памяти своего мужа, – была отослана в Рим, а Афродита – вновь призвана к новому Дионису.
На сей раз пути назад уже не оставалось. В Риме разразился скандал. С тех пор как Республика начала принимать участие в делах Востока, ничто не считалось более ужасным нарушением ее нравственного кодекса, чем гражданин, превращающийся в туземца, а Антоний, если верить свидетельствам, проделывал этот путь с ужасающей быстротой. Ужасное моральное падение его не имело предела: он пользовался золотым ночным горшком, укрывался от мошек москитной сеткой и даже массировал ноги своей любовницы! Экстравагантность, женственность, услужливость – список обвинений был знаком каждому римскому политикану. Антоний, изображавший пренебрежение ко всему миру, предпочел с презрением отвергнуть их. «Ну и что из того, что я сплю с царицей? – жаловался он Октавиану. – Какая разница в том, куда ты суешь свой хрен?» [290]290
Cветоний, Божественный Август, 69.
[Закрыть]
Преступления Антония не ограничивались сексуальной сферой. И обвинения не следовало отвергать только по этой причине, хотя слухи, клеймившие Клеопатру званием шлюхи, относились к области римской нелюбви к женщинам. Враги по праву опасались этой женщины и не доверяли ее неотразимым чарам. Речь шла не о предоставляемых ее телом наслаждениях, как утверждали наиболее примитивные пропагандисты, а о чарах, куда более таинственных и опасных. Из тех слов, что Клеопатра нашептывала на ухо Антонию, самыми сладостными были не слова плотских удовольствий, а обещания обетования будущего божественного достоинства и универсальной империи.
И Антоний, сокрушенный такими мечтами, вступил на тропу, которой побоялся даже сам Цезарь. Недавно отвергнувший династические амбиции, он начал открыто демонстрировать их. Для начала он признал своих детей от Клеопатры. А потом дал им «провокационные», даже «поджигательские» титулы: Александр Гелиос, «Солнце», и Клеопатра Селена, «Луна». Имена эти, в которых божественное смешивалось с династическим, вполне соответствовали духу Александрии, однако в Риме они могли вызвать только свирепое рычание. Что ощущал при этом Антоний? Сограждане, наблюдавшие за тем, как он расцветает под приветствиями услужливых греков и прочих восточных людей, негодовали и хмурились. А когда казалось, что ничего более возмутительного придумать уже невозможно, последовал его – и Клеопатры – самый явный «прокол».
В 34 году до Р.Х. народ Александрии был приглашен присутствовать при рождении ослепительного нового мирового порядка. На церемонии председательствовал Антоний, римский триумвир и новый Дионис. Возле него восседала Клеопатра, македонская царица и египетский фараон, облаченная в великолепный наряд новой Изиды, царицы небес. Перед ними в столь же экзотических национальных одеждах стояли дети Клеопатры от Цезаря и Антония. Этих принцев и принцесс представили александрийцам в качестве богов-спасителей, наследников зарождающейся универсальной гармонии, давно обещанной, и, наконец, наступающей. Юному Александру, одетому как персидский царь царей, была обещана Парфия и все страны за нею. Другие дети получили более скромные дары – земли, уже находившиеся под властью Антония. Тот факт, что некоторые из них являлись доверенными полководцу провинциями Республики, не смог ограничить его щедрость. Отчасти это было следствием того, что на самом деле никакой щедрости Антоний проявлять не собирался и не имел ни малейшего намерения передавать управление римскими провинциями собственным детям, и в этом смысле церемония представляла собой всего лишь спектакль и ничего более. Однако шоу это имело свой смысл – и то, что хотел сказать им Антоний, можно было видеть также на его серебряных монетах, звякавших в кошельках по всему Востоку. Его профиль был отчеканен на одной стороне монеты, а профиль Клеопатры – на другой: римлянина и гречанки; триумвира и царицы. Брезжила заря нового века, в котором правление римлян обретет предсказанный Сивиллой характер: божественно предопределенный синтез Востока и Запада, при ликвидации всех различий под властью всемирных императора и императрицы.
Однако что в Александрии – мясо, то в Республике – отрава. Остававшиеся в Риме друзья Антония – которых было еще довольно много, – пришли в ужас. Сам Антоний, осознав масштаб общественной катастрофы, поспешно отправил письмо Сенату, в котором с величественной снисходительностью, но несколько неопределенно высказывал свою готовность сложить полномочия триумвира – и восстановить Республику. Увы, слишком поздно. По сверкающей белизной тоге сторонника конституции уже расплывалось грязное пятно. Увлекшись своими грандиозными восточными мечтаниями, Антоний обратил свой взгляд к Риму, чтобы обнаружить там самое неприятное зрелище: наследника Цезаря, авантюриста и террориста, в величественной позе защитника Республики, поборника ее традиций и древних прав народа, причем не только принимающего эту позу, но и с блеском исполняющего эту роль.
Впрочем, манера исполнения молодым Цезарем роли конституционалиста могла убедить далеко не каждого – да и маска подчас спадала с лица. В 32 году до Р.Х., решив навести страх на консулов, являвшихся сторонниками Антония, Октавиан вошел в дом Сената с вооруженной охраной, которую поставил за креслами первых лиц государства. Демонстрация силы возымела желаемый эффект: противники режима Октавиана немедленно ударились в бегство. Оба консула устремились к Антонию на Восток, а с ними – почти треть Сената, примерно триста сенаторских душ. Многие из них были ставленниками Антония, однако некоторые, наследники потерпевшего поражение дела, занимали более принципиальную позицию, не позволявшую им воспринимать Цезаря как паладина Республики. Например, одним из двоих бежавших к Антонию консулов был Домиций Агенобарб, сын старого врага Юлия Цезаря. Также в лагере Антония – что вполне понятно – оказался и внук Катона.
Октавиан осмеивал сделанный ими выбор. Такие-то люди закончат свой жизненный путь в качестве придворных царицы! На самом деле Домиций взял за правило при любой возможности проявлять высокомерие по отношению к Клеопатре и постоянно убеждал Антония отправить ее со всем багажом в Египет… Однако всегда умел мастерски наносить удары ниже пояса Октавиан. Летом 32 года до Р.Х., по навету изменника, он даже предпринял в высшей степени святотатственный налет на храм Весты, в котором Антоний хранил свое завещание, и забрал этот документ из рук дев-весталок. Содержание его, подвергнутое тщательному анализу, как и предполагал Октавиан, имело подрывной характер. С суровым лицом цензора он довел его основные пункты до сведения Сената. Признать законным сыном Цезариона; наградить детей Клеопатры крупными состояниями; похоронить самого Антония рядом с Клеопатрой. Все это шокировало – и было подозрительным.
И все же, если в пропаганде Октавиана и допускались какие-то выдумки, то были для нее и серьезные основания. Связь Антония с Клеопатрой, ставшая официальной в 32 году, после его развода с Октавией, была понята большинством римлян именно как то, чем она являлась на самом деле, – изменой глубочайшим принципам и ценностям Республики. Республика была уже мертва, однако присущие ей предрассудки не лишились свойственной им свирепости. Подчиниться тому, что недостойно гражданина, – именно этого всегда и больше всего опасались римляне. И поэтому утративший свободу народ находил лестным для себя позорить Антония, называя его обабившимся рабом чужеземной царицы. В последний раз римский народ мог опоясать себя мечом, считая, что и Республика, и его честь, в конце концов, еще не полностью умерли.
По прошествии многих лет Октавиан будет хвастать: «Вся Италия, без понуждения, присягнула на верность мне, и потребовала, чтобы я повел ее на войну. Провинции Галлия, Испания, Африка, Сицилия и Сардиния также дали подобную клятву». [291]291
Свершения Божественного Августа, 25.2.
[Закрыть]Здесь в облике плебисцита, охватившего половину мира, проступало нечто вовсе не имевшее прецедента: проявление универсализма, сознательно рассчитанного на то, чтобы отодвинуть в тень Антония и Клеопатру, и опиравшегося на традиции не Востока, а самой Римской Республики. Неоспоримый самодержец и поборник самых древних идеалов своего города – в таких двух качествах Октавиан отправился на войну. Сочетание это оказалось удачным. И когда в третий раз за менее чем двадцать лет две римские армии опять встретились лицом к лицу на Балканах, торжество снова выпало на долю Цезаря. Летом 31 года до Р.Х., когда флот Антония гнил на мелководье, а войско страдало от какой-то болезни, он был заблокирован на восточном побережье Греции. Стан его начал пустеть – самым позорным образом среди дезертиров оказался даже Домиций. Наконец, не имея более сил переносить сгущавшийся запах неотвратимого поражения, Антоний решил сделать отчаянный последний бросок. 2 сентября он приказал своему флоту попытаться прорваться мимо мыса Актий в открытое море. Большую часть дня оба огромных флота неподвижно стояли друг против друга в тихих кристально чистых водах залива. После полудня началось движение: эскадра Клеопатры рванулась вперед и, прорвав рубеж Октавиана, выскользнула на свободу. Антоний, сменивший свой огромный флагманский корабль на более быстрый, последовал за ней, однако большая часть его флота осталась позади – вместе с легионами. Они сдались быстро. В этой короткой и бесславной баталии погибли все мечты Антония и все надежды новой Изиды. Не один день после этого волны выбрасывали на берег золото и пурпур.
Целый год после победы при Актии Октавиан готовился к последнему броску. И в июле 30 года до Р.Х. его легионы появились под Александрией. На следующую ночь, когда сумерки, сгустившись, приближались к полуночи, звуки незримой процессии музыкантов прошествовали по городу, а потом поднялись к звездам. «И когда люди принялись размышлять об этой тайне, они поняли, что Дионис, бог, которому всегда стремился подражать Антоний, покинул своего любимца». [292]292
Плутарх, Антоний, 75.
[Закрыть]На следующий день Александрия пала. Антоний, совершивший самоубийство на манер Катона, умер на руках своей любовницы. Клеопатра последовала за ним через девять дней, узнав о том, что Октавиан намеревается провести ее в цепях во время своего триумфа. Как подобает фараону, она умерла от укуса кобры, яд которой, по мнению египтян, дарует бессмертие.
Тот испуг, в который Клеопатра повергла Рим, стоил существования ее династии. Цезариона, ее сына от Юлия Цезаря, втихаря казнили, династию Птолемеев официально низложили. В храмах всего Египта скульпторы принялись ваять образ нового царя – самого Октавиана. Отныне стране предстояло стать не самостоятельным царством, и даже не римской провинцией – хотя новый фараон предпочитал изображать дело иначе, – а личным владением. Впоследствии Октавиан будет хвастать своим милосердием: «Когда было безопасно прощать чужеземные народы, я предпочитал сохранить им жизнь, чем истреблять». [293]293
Свершения Божественного Августа, 3.2.
[Закрыть]Александрия стала величайшим городом среди всех, что попадали в руки римских полководцев со времен Карфагена, однако участь ее оказалась совершенно иной. Беспощадный в борьбе за власть, Октавиан пользовался ею с холодным цинизмом. Александрия была слишком богата, – слишком сладок был этот горшок с медом, чтобы разбивать его. Неприкосновенными остались даже изваяния Клеопатры.
Впрочем, подобное милосердие было прерогативой господина, свидетельством его величия и власти. Весь мир попал в руки Октавиана, и теперь, когда у него более не было соперников, кровопролитие и жестокость оказались излишними. «Не хочется называть милосердием то, – писал Сенека почти век спустя, – что было всего лишь истощением жестокости». [294]294
Сенека, О Милосердии, 1.2.2. 23 Дион Кассий, 53.16.
[Закрыть]Однако даже если Октавиан действительно утомил себя, показывать это он ни в коем случае не был намерен. Посетив гробницу Александра, он случайно повредил нос трупа. Аналогичным образом он оспаривал и репутацию завоевателя. Величайшим достижением, строго указывал Октавиан, является не завоевание империи, но приведение ее в порядок. Мнение его было обоснованно – именно такое задание поставил он перед собой. Не убивать, но щадить; не сражаться, но даровать мир; не разрушать, но восстанавливать.
Такие цели, отплывая домой, с удовольствием видел перед собой Октавиан.








