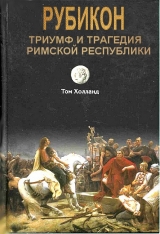
Текст книги "Рубикон. Триумф и трагедия Римской республики"
Автор книги: Том Холланд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Война с террором
В месяцы, последовавшие за бунтом легионеров, когда Лукулл одновременно сражался с Митридатом и мятежниками, редкую улыбку на его лице, должно быть, вызвало известие о том, что Клодий попал в плен к пиратам. «Друг легионеров» поспешил покинуть стан Лукулла. Направившись на запад, он прибыл в Киликию, римскую провинцию, находившуюся на юго-восточном побережье современной Турции. Ею управлял его шурин, Марций Рекс, муж младшей сестры Клодия. Марций, недолюбливавший Лукулла, рад был возможности показать тому кукиш и предоставил молодому мятежнику командование военным флотом. Клодия захватили во время патрулирования берегов. Пленение пиратами явно успело войти в моду у римских аристократов. За восемь лет до него был захвачен Юлий Цезарь, направлявшийся в высшую школу Молона. Когда пираты затребовали за него выкуп в двадцать талантов, Цезарь возмутился и заявил, что стоит по меньшей мере пятидесяти. Кроме того, он предупредил своих похитителей о том, что когда его освободят, поймает их и распнет; обещание свое Цезарь выполнил. Общение Клодия с пиратами не принесло ему столь лестной репутации. Когда он отправил царю Египта письмо с требованием уплатить за него выкуп, тот решил поиздеваться – выслал два таланта, вызвав тем самым гомерический смех пиратов и ярость самого пленника. Обстоятельства освобождения Клодия теряются во мраке скандала. Его враги – которых было достаточно, – утверждали, что ценой стала его «анальная девственность».
Но какие бы доходы ни приносило пиратам похищение людей, для них оно все равно являлось побочным занятием. Просчитанные устрашающие набеги позволяли им беспрепятственно грабить на море и на суше. Размаху грабежей соответствовали их претензии. Предводители «требовали для себя статуса царей и тиранов, а для своих людей положения солдат, ибо считали, что, соединив свои ресурсы, станут непобедимыми». [125]125
Аппиан, Война с Митридатом, 92.
[Закрыть]В откровенной их жадности, в желании превратить весь мир в свою добычу, было нечто большее, чем пародия на саму Республику, – ее призрачное зеркальное отражение, предельно несимпатичное римлянам. Теневой характер пиратской организации и распыленность операций делали их врагом, непохожим на любого другого. «Пират не связан правилами войны, но является общим врагом всех и каждого, – жаловался Цицерон. – Ему не может быть доверия, нельзя даже пытаться связать его взаимно оговоренными соглашениями». [126]126
Цицерон. Об обязанностях, 3107.
[Закрыть]Как же можно было обнаружить такого противника, а тем более уничтожить его? Даже предпринять такую попытку значило вступить в сражение с призраками. «Это будет не имеющая прецедента война, война без правил, война в тумане»; [127]127
Аппиан, Война с Митридатом, 93.
[Закрыть]война, у которой не могло быть конца.
Тем не менее народ, гордившийся своим несогласием терпеть даже малое унижение, считал такую политику непривычной и пораженческой. Действительно, скалистые заливы Киликии и горные хребты за ними трудно было контролировать. Край этот всегда считался разбойничьим. Однако по иронии судьбы «выплеснуться» за пределы своих твердынь пиратам позволила сама гегемония Рима на Востоке. Дав укорот всем региональным державам, способным угрожать интересам Республики и тем не менее не желая обременять себя прямым управлением, Рим очистил поле действий для разбойников. Пираты предоставляли народам, измученным политическим бессилием властей и беззакониями, хотя бы покровительство «рэкетиров». Некоторые города платили им дань, другие предоставляли гавани. С каждым годом щупальца пиратов протягивались все дальше.
Лишь один раз, в 102 году, римляне были спровоцированы на открытые действия. Великого оратора Марка Антония, героя Цицерона, отправили в Киликию с войском и флотом. Пираты немедленно бежали из своих крепостей; Антоний объявил, что одержал решительную победу, и Сенат должным образом удостоил его триумфа. Однако пираты всего лишь перегруппировались на Крите и вскоре вернулись в прежние логова, нисколько не утратив своей хищной природы. На сей раз Республика предпочла закрыть на это глаза. Тотальная война с пиратами являлась предприятием абсолютно безнадежным, а, кроме того, в Риме существовали могущественные и влиятельные группировки, поощрявшие бездействие. Чем более экономика насыщалась рабами, тем более зависимой от них она становилась. Подпитывать потребность в рабах следовало и в те времена, когда Республика не находилась в состоянии войны. Наиболее надежными поставщиками такой рабочей силы являлись пираты. Утверждают, что в огромном вольном порте Делоса за один день могли продавать до десяти тысяч рабов. На этой ошеломляющей размахом торговле жирели и пиратские капитаны, и римские плутократы. Для делового лобби выгода значила куда больше, чем какое-то там непочтение.
Многих римлян, особенно представителей высших слоев аристократии, подобное пятно на добром имени Рима попросту приводило в ужас. Лукулл стал тем смельчаком, который выступил против такой выгоды. Однако Сенат давным-давно «разделял ложе» с деловыми кругами. И, быть может, по этой причине наиболее дальновидным критиком голода Республики по разумному «двуногому скоту» стал совсем не римлянин, а грек Посидоний. Философ, прославлявший Римскую империю как образец универсального государства, усмотрел в чудовищном масштабе работорговли мрачную сторону своего оптимистического видения. Во время своих путешествий он видел и сирийцев, надрывавшихся в испанских копях, и закованных в цепи галлов на просторах сицилийских поместий. Он был потрясен нечеловеческими условиями жизни этих людей. Правда, конечно, философу и в голову не пришло выступить против рабства как такового. В ужас его привело ожесточение миллионов и миллионов и та опасность, которую оно представляло для его великих надежд на Рим. Если Республика, вместо того чтобы соблюдать верность аристократическим идеалам, столь восхищавшим Посидония, позволит подчинить свою глобальную миссию интересам большого бизнеса, то империя ее деградирует до состояния всеобщей анархии и разгула жадности. И власть Рима, вместо того чтобы возвестить о приходе золотого века, явит всеобщий мрак. Коррупция в Республике грозила заразить весь мир.
В качестве примеров, послуживших поводом для его опасений, Посидоний указал на восстания рабов, среди которых восстание Спартака было всего лишь самым последним. С тем же правом он мог бы упомянуть и пиратов. Разбойники, подобно своим жертвам, представляли собой беженцев от горестей своего времени, от вымогательства, войны и социального неустройства. В результате по всему Средиземноморью, там, где людей различных культур соединяли вместе в рабских бараках или на пиратских кораблях, возникало отчаянное стремление к тому апокалипсису, которого так боялся Посидоний. Бесприютность и страдание заставляли забывать про почитание традиционных богов и предоставляли благоприятную почву для мистических культов, подобно пророчествам Сивиллы, являвшим в себе соединение влияний многих верований: в первую очередь греческих, персидских и еврейских. По природе своей «текучие» и тайные, они не были заметны тем, кто писал истории, однако по меньшей мере одно из них оставило свой постоянный след. Митре, которого чтили пираты, предстояло стать богом всей Римской империи, хотя первоначально культ его практиковали враги Рима. Таинственные связи тянулись от этого бога к Митридату, чье имя означает «данный Митрой». Митра первоначально являлся персидским божеством, однако в том виде, в котором его почитали пираты, он более всего напоминал греческого героя Персея, к которому, кстати, Митридат возводил свою родословную. Подобно Митридату, Персей являлся могущественным царем, объединившим восток и запад, Грецию и Персию, державы куда более древние, чем выскочка Рим. На монетах Митридата первоначально присутствовали полумесяц и звезда, древний символ в виде меча греческого героя. Такой же меч можно было видеть в руке Митры, вонзающей оружие в грудь огромного быка.
В результате искажения первоначального персидского мифа бык стал рассматриваться как символ Великого Врага, Всеобщего Зла – не таким ли пираты видели Рим? Покров тайны, лежавший на мистериях, не позволяет нам сделать точного заключения. Не сомневаться можно только в одном: в том, что союз между пиратами и Митридатом, и без того тесный, выходил далеко за рамки обычных политических соображений. С не меньшей степенью уверенности можно утверждать и то, что пираты, при всей своей любви к грабежу, видели в себе также врагов всего, что было связано с Римом. Они не упускали возможности потоптать идеалы Республики. Если оказывалось, что их пленник является римским гражданином, пираты сперва изображали перед ним ужас, падали к его ногами и надевали на него тогу; и только после того, как на нем оказывался символ его гражданства, за борт выставляли сходни – ему предоставляли возможность самостоятельно плыть домой. Совершавшие набеги отряды метили в расположения римских чиновников и охотно уносили символы их власти. Когда Антоний похитил пиратские сокровища, чтобы с триумфом повезти их по улицам Рима, пираты ответили – захватив его дочь в приморской вилле. Столь тщательно просчитанные выпады свидетельствуют об их тонком понимании психологии римлянина. Они были нацелены в самую сущность республиканского понятия престижа.
Естественно, честь требовала соответствующего ответа – но того же самого во все большей степени требовал коммерческий интерес. Римский бизнес, воспитав монстра, начинал ощущать угрозу, исходившую от собственного детища. Растущее господство пиратов над морем позволяло им душить торговые маршруты. Поставки всего, от рабов до зерна, сократились до минимума, и Рим ощутил голод. Однако Сенат колебался. Пиратство приобрело такой размах, что было ясно: бороться с ним можно лишь учредив единое командование в масштабах всего Средиземноморья. А это, с точки зрения многих сенаторов, выливалось в создание еще одного проконсульства – пойти на этот шаг не было возможности. В итоге в 74 г. до Р.Х. командование получил второй Марк Антоний, сын великого оратора, основным качеством которого было отнюдь не наследственное умение воевать с пиратами. Скорее рекомендацией к назначению стала как раз его никчемность – как было сказано, «нетрудно продвигать тех, чьей власти нет причин бояться». [128]128
Веллей Патеркул, 2.31.
[Закрыть]Антоний начал с маленького грабежа на Сицилии; вторым деянием его было поражение от рук критских пиратов. Пленных римлян забили в колодки, которые они приготовили для пиратов, а затем развесили по реям пиратских судов.
Но даже сей раскачивающийся лес виселиц не стал самым унизительным символом бессилия сверхдержавы. В 68 г. до Р.Х., когда Лукулл шел походом на Тиграна, пираты ответили ударом в самое сердце Республики. Пиратские корабли вошли в гавань Остии, – туда, где Тибр впадает в море, едва ли не в пятнадцати милях от Рима, – и сожгли находившийся в доке военный консульский флот. Порт алчной столицы поглотило пламя. Удавка голода еще сильнее затянулась на шее Рима. Оголодавшие граждане бросились на Форум, потребовав неотложных мер и назначения проконсула для разрешения кризиса, причем не подобного Антонию «бумажного тигра», но человека, способного сделать дело. Однако Сенат упирался даже тогда. Катул и Гортензий превосходно понимали, кого хотят получить их сограждане. Они знали, кто прячется в тени.
После завершения срока своего консульства Помпеи осознанно залег на дно. Избранная им роль скромника, как и все его прочие роли, была старательно рассчитана с точки зрения производимого эффекта. «В соответствии со своей излюбленной тактикой Помпеи изображал, что не стремится к тому, чего на самом деле более всего хотел», [129]129
Дион Кассий, 36.24.
[Закрыть]разыгрывая хитроумный гамбит и в лучшие времена, но особенно сейчас, когда устремления его взлетели так высоко. Чтобы самому не афишировать себя, он избрал тактику Красса, использовавшего разного рода подручных для воздаяния себе надлежащей хвалы. Одним из них был Цезарь, возносивший в пользу Помпея одинокий голос в Сенате, – не столько ради великой симпатии, сколько из четкого понимания того, как скоро лягут кости. Теперь, после свертывания реформ Суллы, в игру вновь вступили трибуны. И Помпеи восстанавливал их старинную власть во время своего консульства отнюдь не бескорыстно. Трибуны помогли ему лишить Лукулла командования, и трибун же в 67 г. до Р.Х. предложил, чтобы народному герою выдали полную лицензию на отстрел пиратов. Несмотря на страстный призыв Катула не ставить «над империей фактического монарха», [130]130
Ibid., 36.34.
[Закрыть]граждане спешно ратифицировали законопроект. Помпеи получил беспрецедентную рать в 500 кораблей и 120 000 солдат, вместе с правом набрать при необходимости то количество, которое ему потребуется. Область его командования полностью охватывала Средиземноморье со всеми его островами и простиралась вглубь материка на пятьдесят миль. Никогда еще ресурсы Республики не концентрировались подобным образом в руках одного человека.
Впрочем, назначение Помпея во всех смыслах представляло собой прыжок в неизведанное. Никто, даже сторонники полководца, не представляли с полной определенностью, чего следует ожидать от него. Решение предпринять мобилизацию подобного масштаба являлось жестом отчаяния, и пессимизм, с которым римляне рассматривали перспективы даже собственного любимца, отразился в сроке его полномочий, выданных всего на три года. Как оказалось, новому проконсулу потребовалось всего три месяца на то, чтобы очистить моря от пиратов, взять приступом их последнюю крепость и покончить с угрозой, не одно десятилетие досаждавшей Республике. Блистательная победа стала триумфом самого Помпея и открытой демонстрацией находящихся в распоряжении Рима сил. Ошеломлены ею были даже сами римляне. Она предполагала, что сколь бы нерешительной ни оказалась их первая реакция на вызов, противостоять Риму не может никто – если предел его терпения достигнут. Акция была подобна многим кампаниям устрашения. Рим остался сверхдержавой.
И все же, хотя победа Помпея снова продемонстрировала, что Республика может позволить себе все, что пожелает, она не завершилась дикарскими мерами, традиционно применявшимися для закрепления урока в памяти побежденных. Являя милосердие, не менее удивительное, чем его победа, Помпеи не только не стал распинать своих пленников, – он приобрел для них земельные участки и помог осесть на земле в качестве свободных крестьян. Он отчетливо понимал, что на разбой людей толкали бездомность и незанятость. И пока вину и за то, и за другое возлагают на Республику, ненависть к Риму никуда не исчезнет. Не стоит даже напоминать, что реабилитация преступников не входила в число обычных мер римской политики. Быть может, существенную роль сыграло то что Помпеи в самый разгар кампании против пиратов нашел время, чтобы посетить обитавшего на Родосе Посидония. Нам известно, что он посетил одну из лекций философа и долго разговаривал с ним после нее в приватной обстановке. Поскольку не было такого обычая, чтобы философы бросали вызов римским предрассудкам, и они только наводили на них интеллектуальный глянец, можно не сомневаться в том, что Помпеи услышал лишь то, что хотел услышать, – однако Посидоний должен был, по меньшей мере, помочь ему сформулировать собственное мнение. Помпеи произвел глубокое впечатление на философа. Посидоний увидел в Помпее долгожданный ответ на свои молитвы: римского аристократа, достойного ценностей своего класса. «Всегда сражайся отважно, – посоветовал он проконсулу при расставании, – и будь выше других». Помпеи с восхищением принял на свой счет эту цитату из Гомера. [131]131
Страбон, 11.1.6. Строка из Гомера – Илиада, 6208.
[Закрыть]Словом, он прощал пиратов, пребывая в таком благоприятном расположении духа. Так уж случилось, что поселил он их в городе, получившем имя Помпейополис: милосердие и щедрость должны были вечно прославлять величие полководца. Суровый в бою, милостивый в мирные времена, – что ж удивляться тому, что Посидоний готов был провозгласить его героем своего времени.
Однако Помпеи, со всей присущей ему жадностью, добивался большего. Ему было мало значиться в истории новым Гектором. С раннего детства, причесывая чубчик перед зеркалом, он мечтал о том, что станет новым Александром. И теперь он не намеревался упускать свой шанс. Перед ним лежал весь Восток, суливший такую славу, которой еще не добивался ни один из граждан Рима.
Новый Александр
Однажды, весной 66 г. до Р.Х., Лукулл заметил поднявшееся на горизонте облако пыли. Хотя стан его располагался возле леса, на простиравшейся впереди сухой равнине не было ни травинки. Наконец, заметив укрытую облаком пыли бесконечную воинскую колонну, он заметил, что связки прутьев, лежавшие на плечах ликторов командовавшего прибывшим войском полководца, были обвиты лаврами и что листья венков засохли. Его собственные ликторы, отправленные навстречу новоприбывшим, приветствовали их свежими лаврами, в обмен на которые получили сухие венки.
Знаком этим боги лишь подтверждали то, что было превосходно известно всем. После зимнего мятежа власть Лукулла таяла буквально на глазах. Почти не общаясь со своими людьми и, безусловно не доверяя им в бою, он неторопливо вытаскивал свою армию из Армении. Зализывая раны на нагорьях западного Понта, Лукулл был вынужден в беспомощности наблюдать за тем, как Митридат вновь окапывается в своем царстве. Однако испытание это еще не было худшей из мук. На смену Лукуллу прибыл тот самый человек, который более всего домогался его проконсульства, который руками финансистов и прикормленных ими трибунов покушался на его командование.
После победы над пиратами мало кто рискнул бы стать на пути Помпея Великого. Сенатское большинство, немедленно оценившее победителя, отбросив нерешительность, дружно проголосовало за предоставление ему дальнейших, еще более беспрецедентных полномочий. Он не только получил под свое командование величайшее войско из всех, когда-либо посылавшихся Римом на Восток; ему предоставили право решать на месте по собственному разумению вопросы войны и мира. Лукулл, напротив, лишился всего. Многие из его прежних союзников, включая двух бывших консулов и целой рати именитых аристократов, дружно перешли на службу к новому проконсулу. Наблюдая за тем, как его свежие лавровые венки переходят в руки ликторов Помпея, Лукулл, безусловно, одну за другой узнавал безупречно аристократические физиономии, оказавшиеся в свите его врага. Но находили ли они в себе силу посмотреть ему в глаза или же отворачивались в смущении? Триумф и неудача, с точки зрения римлян, представляли собой равным образом занимательный спектакль.
Неудивительно, что встреча Лукулла с Помпеем, начинавшаяся с ледяных интонаций, скоро превратилась в грубую перебранку. Помпеи осмеивал проявленную Лукуллом неспособность разделаться с Митридатом. Лукулл с горечью называл своего сменщика обезумевшим от запаха крови стервятником, прилетающим на трупы войн, начатых лучшими, чем он, людьми. Стычка приобрела такой агрессивный характер, что полководцев пришлось растаскивать, однако проконсулом являлся Помпеи, и в его власти было нанести убийственный удар. Лишив Лукулла оставшихся легионов, он продолжил свой путь, предоставив неудачливому сопернику зализывать раны, нанесенные его уязвленному достоинству на долгом пути в Рим уже в качестве частного гражданина.
Однако нанесенное им оскорбление было куда более жестоким. События подтвердили его похвальбу в том, что именно он сломал спины Митридата и Тиграна, а в стремлении Помпея впиться в загривок своей добыче действительно было нечто от хищника, учуявшего по ветру запах крови. Митридата, теперь уже в последний раз, выставили из собственного царства. Как обычно, царь Понтийский скрылся в горах, однако, несмотря на то, что он вновь сумел обмануть преследователей, грозить теперь он мог только призраком славы – собственным именем. Увидев перед собой преобладающего врага, Тигран немедленно признал это и, не желая скрываться в горах, поспешил сдаться на милость Помпея. Явившегося в лагерь римлян Тиграна заставили спешиться и отдать собственный меч. Добравшись пешком до места, где его ждал Помпеи, царь снял с собственной головы корону и – в злате и пурпуре – опустился в пыль на колени. Однако прежде чем он успел простереться в прахе перед римским полководцем, Помпеи взял его за руки и поднял с колен. Далее он любезно пригласил царя воссесть рядом с ним. А потом с неизменной вежливостью начал излагать условия мира. Армения становилась зависимой от Рима. Тигран должен был отдать в заложники своего сына. Взамен он получил право занять свой собственный престол и еще какие-то мелочи. Несчастный царь поспешно принял все условия. И чтобы отпраздновать событие, Помпеи пригласил Тиграна отобедать в его походном шатре. Таково было образцовое поведение римского полководца: после бесстыдной демонстрации мощи Республики он милостиво даровал побежденному крохи со своего стола.
Актерский гений Помпея нашел для себя превосходную сцену на Востоке. Остро ощущая обращенный на него взгляд истории, великий человек редко упускал возможность занять по отношению к нему самую выигрышную позу. Следуя Александру, он даже возил с собой собственного историка, регистрировавшего всякий геройский поступок, каждое благородное деяние. Сражаясь с царями и ниспровергая их, Помпеи одним глазком все время присматривал за тем, как при этом выглядит. Ему было мало сопротивления непокорных жителей Востока. Ему еще нужно было обниматься с ядовитыми змеями, искать амазонок, продвигаться к опоясывающему землю великому океану. А пока, избавившись от опеки придирчивых зануд из Сената, он мог распоряжаться территориями, как фишками на игральной доске, перекраивать их согласно собственному желанию, распределять короны, упразднять престолы, по-мальчишески верша участь миллионов.
При этом Помпеи отнюдь не забывал о том, что является магистратом римского народа. В конце концов величие гражданина определялось той славой, которую он принес Республике. Помпеи с гордостью хвастал тем, что «застал Азию на краю владений Рима, а оставил ее в самой их середине». [132]132
Плиний Старший, 7.99.
[Закрыть]Смиряя царей, распоряжаясь царствами, направляя свои походы к краю света, он все подчинял своей единственной цели. Поднимая Тиграна из праха, Помпеи поступал, как подобает суровому защитнику интересов Республики. Иначе сцена лишилась бы своего героического обаяния. Всякая царственная пышность производила внушительное впечатление на варваров, однако истинным предназначением ее было служить занавесом за добродетелями, рожденными свободами Рима. Неудивительно, что рабское подражание Помпея Александру, вызывавшее презрительные насмешки подобных Крассу соперников, весьма одобрялось огромным большинством его сограждан. Они инстинктивно ощущали, что за всем этим кроется не пренебрежение к обычаям надоевшей Республики, но, напротив, подтверждение их высшего достоинства и ценности.
Дело в том, что память о величии Александра всегда служила римлянам укором. Хуже того, она была источником вдохновения для их врагов. На Востоке образ созданного Александром царства никогда не терял своей привлекательности. Более столетия он вызывал неприятие со стороны Рима, и систематически подвергался им уничижению. Однако царство Александра оставалось единственной разумной системой правления, которую можно было противопоставить республиканским принципам новых покорителей мира. Это объясняет ее привлекательность для монархов, даже не греческих, как Митридат, и, что удивительнее всего, – для разбойников и взбунтовавшихся рабов. Когда пираты провозглашали себя царями, предпочитая золоченые паруса и пурпурные одеяния монархов, это делалось не из простого тщеславия, а в качестве осознанной пропагандистской меры, публичного заявления об оппозиции Республике. Они понимали, что смысл такого заявления будет правильно истолкован, ибо, когда в предшествующие годы существующий порядок вещей грозил вот-вот рухнуть, знак к восстанию был подан рабом в короне. Коммунизм Спартака был тем более уникален, что практически все без исключения вожди предшествовавших ему восстаний рабов намеревались воздвигнуть свой трон на костях бывших господ. Большинство, подобно пиратам просто принимало внешнюю сторону монархии, однако находились и такие, кто придавал своей жизни самый фантастический ореол и претендовал на происхождение от царей. Вот какую форму приняла революция в мире, где правила Республика. Царственные претензии рабов, безусловно, подпитывали бурные, хотя и не видимые глазу водовороты тревожного века, соединяясь с пророчествами о явлении всеобщего царя, о новой мировой монархии и о падении Рима, которые столь блистательно использовала пропаганда Митридата.
Итак, когда Помпеи принялся выставлять себя новым Александром, он просто воспользовался мифом, приемлемым сразу и для раба, и для властелина. Если этот миф мог по достоинству оценить кто-либо из римлян, так это сам Помпеи. Победитель пиратов и покровитель Посидония, он превосходно осознавал ту грозную связь, которая существовала между идеей монархии и революцией, между заносчивостью восточных князьков и недовольством обездоленных. Подавив угрозу пиратства, он намеревался затоптать все аналогичные очаги сопротивления, тлевшие на Востоке. Особого его внимания явно требовал один регион. Десятилетиями Сирия служила местом умножения анархии и бурных апокалипсических видений. Во время первого великого восстания рабов против власти римлян, состоявшемся на Сицилии еще в 135 году, предводитель восстания именовал своих сторонников «сирийцами», а себя «Антиохом», каковое имя звучало многозначительно. Носившие ее цари некогда правили великой империей, унаследованной самому Александру и в лучшие свои дни простиравшейся до пределов Индии. Однако те славные дни давно миновали. Наследники династии сохраняли в своей власти – и то лишь потому, что Республика считала их слабыми, – только Сирию. Впрочем, даже и она в 83 году была захвачена Тиграном, и только Лукулл, воскрешая то, что, казалось, не способно ожить, вновь посадил Антиоха на сирийский престол. Помпеи, радуясь возможности перевернуть все, что было сделано его предшественником, подчеркнуто отказался признать нового царя. Однако личные мотивы, даже если они добавили уверенности его решению, не могут объяснить всего, что стоит за ним. Антиох был одновременно и слишком слаб, и слишком опасен, чтобы ему можно было позволить жить. Царство его прозябало в хаосе, являясь центральной точкой социальной революции, а блеск старинного имени придавал ему гипнотическую и опасную по сути популярность. Оставляя Сирию такой, как она была, нарывающей болячкой на краю территориальных владений Рима, можно было опасаться того, что этим своим гноем эта страна заразит нового Тиграна, новое поколение пиратов или мятежных рабов. С точки зрения Помпея, это было недопустимо. И поэтому летом 64 года он оккупировал столицу Сирии Антиохию. Тринадцатый царь своего имени Антиох бежал в пустыню, где был бесславно убит арабским племенным вождем. Призрачное царство, наконец, упокоилось в могиле.
Но на его месте поднималась новая империя. Вместо традиционного изоляционизма Сената, Помпеи практиковал новую доктрину. Если деловым интересам Рима что-либо угрожало, Республика должна была вмешаться и при необходимости установить прямое правление. И прежний плацдарм на Востоке превращался в длинную цепь провинций. За ними простирался еще более широкий полумесяц зависимых государств. Всем им надлежало быть ручными и послушными, все они должны были вовремя уплачивать дань. Именно это и должно было обозначать понятие pax Romana («римский мир»), Помпеи, добившийся проконсульства при поддержке финансового лобби, не намеревался, повторяя ошибку Лукулла, наступать на пальцы своим союзникам. Однако если интересы Помпея и лобби счастливым образом совпадали, он старался принять все меры, чтобы не оказаться орудием финансистов. Время ничем не сдерживаемой эксплуатации закончилось. Бюрократия утратила право править без помех. С точки зрения длительной перспективы, что признавало даже деловое лобби, политика эта обещала в будущем не меньший доход. Кто захочет убивать гуся, несущего такие великолепные золотые яйца.
Великим достижением проконсульства Помпея стало то, что ему удалось показать, что деловые интересы можно вполне разумно согласовать с идеалами сенаторской элиты. Помпеи установил схему правления, которой суждено было просуществовать столетия. Такое достижение не случайно вознесло самого Помпея на вершину славы и богатства. Клиентские правители, пополнявшие свиту Рима, увеличивали и его свиту. Осенью 64 года Помпеи выступил на юг из Антиохии, чтобы еще более расширить ее. Первой его целью стало лоскутное царство Иудейское. Иерусалим был захвачен. Храм взяли штурмом, невзирая на отчаянное сопротивление. Заинтригованный сообщениями об особенном характере иудейского бога, Помпеи отмахнулся от протестов священников и вошел в святая святых храма. К удивлению полководца, там ничего не оказалось. Нечего даже сомневаться в отношении того, кому, по мнению Помпея, оказывалась большая честь этим визитом – Иегове или ему самому. Не желая еще более озлоблять иудеев, он оставил храму его сокровища, а Иудее – ее политический режим, возглавлявшийся ручным первосвященником. Далее Помпеи отправился на юг, намереваясь предпринять поход через пустыню на Петру, но так и не достиг этого города, стены зданий которого отливают розовыми лепестками. На половине пути его остановило драматическое известие: умер Митридат. Старый царь так и не научился покорности, но когда даже собственный сын восстал против отца и запер в собственных покоях, архивраг Рима, наконец, попал в смертельную западню. Тщетно попробовав отравиться, он в итоге прибег к услугам предмета, против которого не бывает иммунитета, – к острию меча своего верного охранника. В Риме эта новость была встречена десятидневным общественным ликованием. Объявив сию новость обрадованным легионам, Помпеи поспешил в Понт, куда тело Митридата доставил его сын. Не выказав никакого интереса к трупу, Помпеи удовлетворился тем, что немедленно перебрал пожитки старого царя. Среди них обнаружился красный плащ, некогда принадлежавший Александру. Помпеи немедленно примерил его на себя – предвкушая триумф.
Мало кто станет отрицать, что он имел право на это. Достижения его выдерживали сравнение с любыми подвигами, известными истории Рима. И все же, когда великий человек, наконец, собрался домой, умиротворив Восток и завершив свое непомерное трудное дело, мало кого из сограждан не смущала перспектива его скорого возвращения. Состояние его превышало пределы мечтаний всякого скупца – даже самого Красса. Слава его своим ослепительным блеском затмевада любого соперника. Разве мог римлянин сделаться новым Александром, оставаясь при этом гражданином? В последнем случае лишь сам Помпеи мог ответить на поставленный вопрос – однако многие, ожидая его, страшились самого худшего. Многое произошло в Риме за годы пятилетнего отсутствия Помпея. Республика вновь оказалась в тисках кризиса. И лишь время могло сказать, поможет ли возвращение Помпея домой разрешить его или только приведет к еще большему кризису.








