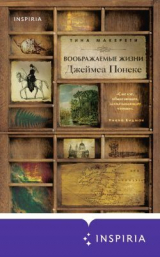
Текст книги "Воображаемые жизни Джеймса Понеке"
Автор книги: Тина Макерети
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Глава 11
В первые недели выставки Художник за завтраком часто делился отзывами, которые мы получали. Мы с мисс Ангус сгорали от нетерпения, желая узнать, как принята выставка, в то время как мистер Ангус непоколебимо скрывался за собственными газетами. Было очевидно, что Художник надеялся получить от отца больший отклик, поэтому читал лучшие отрывки из отзывов вслух. Он был особенно польщен обзором в «Иллюстрированных лондонских новостях» и зачитал нам те выдержки, которые счел наиболее заслуживавшими внимания, прежде чем раскрыть, что иллюстрация на самом деле представляла собой меня, изображенного совсем не так, как на портрете его руки. В «Новостях» я выглядел очень представительно в своем костюме, с тонкими чертами лица и, судя по другим изображениям, которые я видел, почти индейской внешностью. Мой же образ, так давно запечатленный Художником на берегу Те Вангануи-а-Тары, изображал большеглазого юношу с открытым лицом, закутанного в плащ. Я не мог сказать, какое сходство было правдивее. Сама статья была очень хвалебной:
«Живописные виды Новой Зеландии чрезвычайно красивы, и их автор, похоже, изучил эту страну лучше, чем любой другой английский художник. Сюжеты подобраны удачно, будь то бурлящий вулкан в центре острова или безмятежный вечер в Заливе Островов. Резные дома туземцев изображены самым подробным образом и поражают нас своим сходством с резьбой древних мексиканцев и жителей Юкатана… Есть также несколько портретов новозеландских красавиц, причем осанкой и одеждой некоторые из них напоминают европеек.
Но живая достопримечательность выставки – это юноша из Новой Зеландии, около пятнадцати лет от роду, бегло говорящий по-английски и чрезвычайно разумный. Он вызвал немалый интерес среди ученых».
Приятно, когда твой интеллект признается одним из самых популярных изданий города. Прочие обзоры были также хвалебны, и Художник, не спеша и с некоторой торжественностью, зачитал каждый.
«Экспозиция состоит из поистине прекрасных зарисовок очень необычных и красивых пейзажей. Работа художника выдает его мастерство как рисовальщика. С ней соседствуют атмосферность и сила выражения, а также тот необходимый «эффект», который сама Природа создает солнцем и тенью… Художник – молодой человек, чье неподдельное рвение к своему искусству убедительно демонстрируется в количестве и превосходстве работ, украшающих стены галереи…
На другом портрете изображен Джеймс Понеке, юноша, чье подлинное происхождение – подтвержденный генеалогический казус: около одиннадцати лет назад его отец, вождь, был побежден и съеден одним из вождей-соперников. Сам Джеймс во плоти также присутствует в зале и в разговоре проявляет себя очень умным парнем, хорошо говорящим по-английски».
Газетам нравилось упоминать мое высокое происхождение и то, что мой отец был съеден. Каким-то образом история, появившаяся на свет в результате моего представления в первый день выставки, закрепилась, и вот был результат. Я подозревал, что Художник сам поделился ею с публикой, потому что она вызывала небывалый интерес. Каждый раз, когда я видел повторение своей истории, я знал, что расплачиваюсь за свою непомерную гордость и самоуверенность. Мне это не нравилось, но винить, кроме себя, было некого.
«Помимо картин, заполнивших около двухсот рам, Художник привез домой небольшое собрание редкостей: местное оружие, утварь, одежду, образцы резьбы и модели каноэ, образчики птиц, минералов и прочего, которые полностью заполняют один из самых больших залов Египетского павильона».
Прочитав свои любимые отрывки, Художник передавал газеты нам, и мы читали дальнейшие подробности, так как некоторые из них занимали больше одной колонки. И тогда я видел те части, которые Художник оставлял без внимания, в которых не хвалилась его работа, а рассматривались те люди, которых он изучал:
«Как австралийские, так и новозеландские виды поражают своеобразным характером… Вождь Раупараха и его наместник обладают чрезвычайно примечательными лицами, свирепыми, но настоящего европейского строения: очертания лица слегка вогнуты, черты четкие, нос выступает над лицом – с горбинкой и, если так можно сказать, искусно обтесанным кончиком, губы тонкие. Эти характеристики прямо противоположны характеристикам типичных новозеландских лиц, которые, хотя и намного превосходят лица негров, отличаются плоским носом и толстыми губами, и отличаются как от европейских, так и от африканских лиц вогнутым лицевым контуром. Контраст между Раупарахой, к примеру, и обычным новозеландским лицом настолько велик, что это различие словно указывает на двойственное и раздельное происхождение жителей страны».
Иногда мне казалось, будто я не знал, что читаю; не думаю, что я вообще что-нибудь в этом понимал.
* * *
Когда мне наскучивали Павильон со своими требованиями и строгость домашнего этикета семейства Ангусов, я рвался гулять по улицам с Билли и Генри. Они были мне кузенами, которых у меня никогда не было. Мне следовало бы быть осмотрительнее, ведь мои привязанности столько раз прерывались жизненными обстоятельствами, но я знал, что Билли – настоящий мой брат по духу, а Генри была самой чистой душой, какую мне доводилось встречать, несмотря на ее показную мужескую удаль. На самом деле я считал, что она намного ближе к мисс Ангус, чем можно было бы предположить по ее внешнему виду. Сама мисс Ангус была ко мне неизменно добра, но она была привязана к дому и принятым в нем правилам приличия, как того требовало ее положение. Я видел в ней это: маленькие вспышки энтузиазма, свидетельствовавшие об остром уме и стремлении к большей свободе, чем дозволяла ее ситуация; но чтобы вырваться за пределы отведенных ей ролей, потребовалась бы незаурядная жесткость характера. У Генри был этот стержень, и ее положение так или иначе требовало его иметь.
Я виделся с друзьями через день или два, и пока они показывали мне свои любимые места, где можно было поесть, выпить, спеть или спрятаться от окружающих, мне мало-помалу становились известны их жизненные подробности, и мое восхищение ими постоянно росло. К тому времени они уже поняли, что могло произвести на меня впечатление. Несмотря на мою любовь ко всему интеллектуальному и благопристойному, именно громкое и броское действительно наполнило меня восторгом: механические и движущиеся картинки, фокусы воображения. Панорама Колизея была только началом; мы исследовали Диораму, Космораму, Паноптикум. Иногда случались представления с участием актеров или со световыми фокусами, которые происходили на фоне великолепных изображений городов со странными названиями вроде Тимбукту или Константинополь. В «Лавке чудес мистера Шрусбери» мы увидели нечто настолько похожее на привидение, что меня вогнало в дрожь. Неужели то были настоящие призраки? Мне не верилось, чтобы люди издавали такие потусторонние звуки или изобрели способ сделать изображения такими жизнеподобными и при этом прозрачными. Я не мог избавиться от мысли, что мои умершие предки могут найти меня здесь, так далеко от дома.
Когда мы вернулись в «Джордж», Билли стал подтрунивать над тем, как меня встревожило представление.
– Это всего лишь призраки из волшебных фонарей, которые когда-то придумали для Фантасмагории![57]57
Вид театра ужасов, в котором часто использовались проекции устрашающих образов на стены, дым или полупрозрачные экраны, берет начало от спиритических сеансов, популярных в Германии в XVIII веке, в XIX веке распространился по всей Европе, включая Великобританию.
[Закрыть] – заявил он, словно эти слова могли что-нибудь для меня значить. – В наше время это довольно распространенный трюк, Хеми. – И увидев, что это не развеяло мои опасения, он обхватил меня за плечи. – Я позабочусь о тебе, братец, если призраки явятся, чтобы пощекотать твою душу. – С этими словами Билли подтолкнул ко мне полную кружку.
Генри была настроена серьезнее.
– У нас у всех есть свои призраки, Билли, – сказала она. Я перестал дрожать, и Билли подавил ухмылку. Обычно Генри не был свойственен такой тихий, задумчивый тон.
– О моем Билли знает, – продолжила она. – Мой отец всегда рядом, хотя я больше не вижу и не слышу его и не чувствую его запаха. Он умер, когда я была совсем малявкой, лет семи или восьми, вроде как второй по старшинству из двух сестер и трех братьев. Мать говорит, что ему было пора умирать, просто пришло его время. Но мне кажется, что она так говорит, только чтобы было не так горько, ведь у него же была семья, которая только начала расти, как же ему могло быть пора? Наверное, Бог просто такой жестокий. Сплошь и рядом такое встречается, верно, Билли? Младенцы оказываются на улицах.
Ее слова напомнили мне собственное детство, которое теперь казалось таким далеким.
Тогда Генри нам все рассказала. В ее голосе была настойчивость, запрещавшая нам ее прерывать. Словно раз уж она началась, ее история должна быть доведена до конца. Билли наверняка уже слышал ее, но он сдерживался, чтобы не нарушать повествование. Думаю, тогда я наблюдал его в самом неподвижном состоянии из возможных.
Мистера Джонни Лока сгубила какая-то напасть, по счастью, не тронувшая ни детей, ни их мать. Что-то в легких. Что поделать, если работа кэбмена зачастую выгоняла его на улицу по ночам, дышать дымом и дрожать от холода. Остальным членам семьи повезло: миссис Лок умела орудовать иглой, и это позволяло ей оставаться дома с детьми. Двое старших были девочками, и это означало, что она могла обучить их сдельной работе, и они могли заботиться о трех маленьких мальчиках, пока она сама выполняла заказы. Генриетта помогала с шитьем одежды и постельного белья, но талант ее старшей сестры оказался развит не по годам: швы у Мэри выходили такими аккуратными, что миссис Лок намеревалась отдать ее в подмастерья к модистке, потому что с такими пальцами можно было отлично заработать на жизнь. В сравнении со стежками сестры стежки Генриетты выходили неуклюжими.
Но какое это имело значение? В жизни были вещи поинтереснее, чем сидеть дома за шитьем. На улице было гораздо больше увлекательного. В те времена, когда в их семье детей было не так много, у ее отца, видимо, было больше времени для воскресных прогулок. Однажды он повел их с сестрой на представление, где выступали марионетки, зверинец и акробаты в красных, и зеленых, и золотых нарядах – такие легкие, они вертелись и кружились в воздухе, пружинили, словно ноги у них были как у сверчков, сгибались в петлю и подбрасывали обручи и ленты, и шары. Но не это осталось в ее в памяти на недели, месяцы и годы – а акробатка, которая подбежала к ним в середине представления и подарила Генриетте цветок, волшебным образом извлеченный из-за ее собственного уха. Дело было не только в этом волшебстве, а в том, как эта женщина держала Генриетту и всех остальных зрителей в плену своего взгляда, повелевала ими выражением своего лица, обольщала их изгибами своего тела. Эта женщина отличалась от всех других женщин, которых Генри доводилось видеть.
Пару лет после смерти отца семья перебивалась сдельной работой и изредка перепродажей цветов, перьев или фруктов. Но этого никогда не хватало, чтобы набить животы всем, и вскоре они стали продавать то немногое, чем они владели, чтобы купить еду. Потом Ма стала надолго уходить из дома, сначала днем, а потом и ночью. Генриетта с сестрой волновались о том, чем занималась их мать и чем она платила за мягкий хлеб, сыр или сельдь, которые приносила домой. Они давно не видели апельсинов, но в материнской сумке находились и они, а иногда даже имбирный пряник или пудинг. Наконец однажды утром мать пришла домой и сказала им собрать все, что у них было. Они переезжали в доки, в дом, где она сняла две комнаты. И вот они переселились в эти две комнаты, и это было удобнее, чем то, к чему они привыкли, но, кроме них, там был еще какой-то мужчина, и он делил вторую комнату с матерью, а дети спали у очага.
– Не скажу, как его звали, – сказала Генри. – Он нас устраивал. Мы почти не обращали на него внимания, а он – на нас. Мы держались от него подальше, а он пользовался комфортом и образом жизни женатого мужчины, у которого была женщина, чтобы готовить и греть постель, пока ему не наставала пора отправляться в очередное плаванье. Потом пару дней бывало тихо или, напротив, шумно, потому что не нужно было волноваться насчет чужака. Но Ма снова начинала проводить больше времени вне дома, пока не возвращалась с едой, а иногда и с новым мужем. Те времена, когда в доме был постоянный мужчина, чаще всего выдавались хорошими. Мать относилась к своему занятию со всей серьезностью и говорила им, что лучше уж так, чем отдаваться на улице или в каком-нибудь увеселительном парке. Покуда эти мужчины были добрыми или хотя бы терпимыми, она позволяла им оставаться на какое-то время, питаться в лоне семьи. Иногда им приходилось по душе изображать отца, и они играли с детьми, особенно с мальчиками. Но иногда попадались пьяницы. Обычно это не имело значения. Никто из них не задерживался надолго.
Однако мужчины возвращались. Они были завсегдатаями. И никаких свадеб. Нет, Ма говорила, что свадьба у нее была только с ее первым и настоящим мужем, и не дай Бог, чтобы он сейчас смотрел на нее с небес, хотя даже в таком случае она считала, что он бы ее понял. И у этих ее мужей в других портах были другие жены – Ма это знала, даже если никто об этом не говорил. Она была далека от того, чтобы сомневаться в законах Господа, но так поступали многие женщины, а что хорошо для гуся, то сгодится и для гусыни, не говоря уже о гусятах.
Генри сказала, что все это было хорошо, но что было делать ей? Мэри найдет место, мальчики пойдут в подмастерья, но Генриетта боялась, что ее участь в жизни будет похожа на участь ее матери. Тогда бесконечные возможности мира свелись бы к этому маленькому пространству, а она ничего подобного не хотела. Ни мужчин, ни детей. Ни службы, ни работы на фабрике. Она считала себя слишком умной для этого. Она хотела свободы и возможности жить доходом от собственного воображения. Когда Генриетта намекнула об этом Мэри, та сказала, что она всегда была высокомерной и слишком гордой. Она скоро станет женщиной, и ее выбор станет настолько скудным, что при мысли об этом у нее болела голова. Но в мире были люди, которые могли скрутить свои тела таким немыслимым образом, что никто не просил их следовать тем же правилам, которым следовали нормальные люди. Те, кто мог загипнотизировать одним лишь взглядом, или щелчком языка, или взмахом локона волос. Люди, которым все сходило с рук, которые шагнули за пределы общепринятых понятий о том, как все устроено.
В конце концов кое-что произошло, и все решилось само собой. Как-то ранним весенним утром мать пришла домой, и она была не одна. Генриетта слышала это через дверь: низкий, настойчивый грохот мужского голоса, тихий и умиротворяющий голос Ма. Потом послышалось движение, но не то чтобы борьба, – голос Ма зазвучал настойчивей, голос мужчины – резче. Потом он вошел в комнату и принялся расхаживать по ней, трогая вещи.
– Пожалуйста, – сказала Ма, – ты разбудишь детей. – Все они спали в одной кровати, и Генриетта не шевелилась, чтобы не привлечь к себе внимания или не разбудить младших.
– Скоро повзрослеет и сможет работать, – сказал мужчина. Он стоял так близко к кровати, что Генриетта чувствовала исходившую от него вонь гнилых яблок.
– Они все работают.
– Я не о такой работе.
Генриетта услышала движение мужчины, прежде чем почувствовать, как он приподнял одеяло. Она изо всех сил старалась не пошевелиться. Он прочистил горло, откашлялся и плюнул на пол, позволив одеялу упасть обратно. Затем он издал звук, который походил на смех, но смеха в нем не было.
Генриетта услышала, как удалялись мужские шаги, как мать открыла дверь и заперла ее на засов. Ма подошла к камину и мешком рухнула на стул. Глаза Генриетты наконец открылись, но ее била такая сильная дрожь, что ей пришлось встать с кровати и сесть на пол у колен матери.
«Ш-ш, тише», – сказала Ма. Материнская рука гладила Генриетту по голове. Но за дрожью в ее голосе прятались слезы, страх и ненависть. Так они и сидели, пока в комнату постепенно проникал свет, и прежде чем ее братья с сестрой начали просыпаться, Генриетта приняла решение.
– Нет. Никогда в жизни. – Мать знала, что она имела в виду. – Я бы не пожелала тебе такого, Генриетта. Нет. Но не знаю… не знаю, смогу ли я этому помешать. Я не знаю как…
– Мама, нет… – Генриетта уже подумала об этом и знала, как все устроить. Она складывала эту головоломку все долгие дни своего отрочества. – Думаю… в общем, я хочу, чтобы отныне меня звали Генри. Такой крепкий мальчишка, как я, легко найдет работу. Вот увидишь.
Мать сомневалась в ее способностях, пока не увидела все своими глазами. Если женщине было под силу очаровать зрителей, то смышленой девчонке не составило труда сойти за мальчика. Она укоротила и ушила оставшуюся отцовскую одежду, переняла подсмотренную на улице мальчишескую и мужскую манеру держаться и отправилась в люди. Ее сестре предстояло вскоре покинуть дом, и, возможно, люди подумают, что она тоже ушла. Мир был таким, каким ты его создавал. Нужно было только представить. Генриетта нашла самый острый нож и одним махом отчекрыжила завязанные узлом волосы, а мать заплакала и вполсилы ее отшлепала, дрожа и смеясь, и в конце концов обняла своего нового сына.
Конечно, Генри сомневалась в себе. Это был смелый план. Некоторые видели ее насквозь, но некоторые принимали иллюзию за чистую монету и давали ей работу. Она была выше мальчиков ее возраста и такая же сильная. К тому времени, когда они начали обгонять ее в росте, она уже переняла их манеры и наладила прочные связи между спросом и предложением. Она могла бы продать мышеловку грызуну, если бы задалась такой целью. Все, что от вас требовалось, это наблюдать за клиентами, заглядывать в их сокровенные желания и мечты. Всем, кроме самых черных душ, хочется во что-то верить. Всем хочется думать, что кто-то или что-то сможет заполнить дыру в их душе. Иногда познания Генри внушали страх.
– Что до моего отца, то мне трудно избавиться от его призрака, раз я таскаю его одежду. – Генри допила свой эль. – Мне нравится думать, что он не стыдился бы такого сына, как я.
Голос Генри замолк, но осталось еще кое-что, что мне было по-прежнему любопытно узнать. Я видел, как Билли смотрел на нее со всей преданностью, какую только способен подарить один человек другому, и у меня внезапно возникло желание, чтобы этот взгляд был обращен на меня. Что в ней было такого, что делало ее неотразимой для него, даже в такой одежде?
– Тебе же хочется узнать о нас все, правда, Хеми? Всем, кому мы рассказываем наши горестные истории, всегда этого хочется. – Билли осклабился, готовясь выйти на авансцену. – Моя дражайшая, милая Генриетта была известна мне лишь в качестве Генри столько недель, сколько потребовалось на то, чтобы укрепить наши деловые отношения. Тебе известно, что я зарабатываю себе на жизнь в море, Хеми, но иногда я привожу домой что-нибудь экзотическое, что высоко ценится, чтобы на какое-то время задержаться на суше, а Генри часто бывала в доках в поисках новых товаров на продажу. Итак, когда я в последний раз вернулся с Востока, я привез с собой большой запас ярких шелков, про которые знал, что мне дадут за них хорошую цену, если найти понимающих покупателей. До меня дошли слухи о торговце, который кое-что понимал в торговле тканями и имел хорошие связи с городскими портнихами. В общем, я навел справки. Этот человек был известен тем, что торговал выгодно и честно, и когда мы с ним познакомились, он мне сразу понравился, и я решил с ним подружиться. Совсем как с тобой, Хеми. Мы провели много времени вместе в течение следующих недель, не так ли, Генри? Даже когда ткань закончилась, мы нашли себе другие занятия.
Щеки Генри немного покраснели, и она наградила Билли легкой улыбкой.
– Однако происходило нечто престранное, и это чуть не заставило меня перестать видеться со своим новым другом. – Тут Билли сделал эффектную паузу, и поудобнее устроился на стуле. – Он мне слишком нравился. Мне хотелось проводить с ним все свое время, а когда мы были порознь, я постоянно думал о нем. Хеми, я не из таких. Мне случалось сталкиваться с домогательствами. Это неизбежно, когда твои вкусы столь же разнообразны, как мои. Но я всегда хотел только дам. До Генри.
– Следите за тем, кого вы называете дамой, сэр! – тихим и нежным голосом поддела его Генри.
– А потом настал день, когда он решился. Он поцеловал меня, а я не оттолкнул его, не смог его оттолкнуть. И вскоре я узнал секрет Генри.
Генри рассмеялась.
– Не удивляйся так, Джимми. Эта мужская оболочка придает мне больше смелости, чем принято иметь женщине. Но перед ним я робела. Во-первых, потому что он не знал, что я не мужчина, а во-вторых, потому что он был у меня первым.
Мое лицо наверняка выдало мое смятение.
– Так-так. Славный юный Хеми. То, что я веду себя как мужчина, не означает, что я должна подчиняться их низменным инстинктам. Хотя у меня и была своя доля возлюбленных. И каких! Я не могла удержаться от сладких слов и поцелуев с теми, кто проявлял ко мне интерес. Им нравилось, что я была нежной и не требовала от них больше, чем они были способны дать. Мне нравилась их нежность и теплота объятий, на которые я никогда не смогла бы ответить полной взаимностью. Думаю, если бы у меня был выбор, я бы предпочла полностью стать мужчиной.
Билли такая перспектива не впечатлила.
– Не волнуйся, любовь моя. Разумеется, это невозможно. Но давай не будем притворяться, что ты собираешься сделать из меня честную женщину или что жизнь не была бы проще, если бы я могла просто быть тем, кем притворяюсь. И если я вдруг обнаружу, что нежный пол не питает отвращения к моей мужской сентиментальности, то почему бы и нет? Это безобиднее, чем развлекаться с мужчинами.
– Но теперь, когда ты можешь кутить со своим Билли, в этом нет надобности.
– Хотя юный кобель Билли частенько гуляет в каком-нибудь другом порту, обнимаясь со смуглянками. Бедному Генри приходится довольствоваться местными умельцами.
Их взаимные подначки были ужасны и приводили меня в смущение. Словно их страсть становилась более пылкой, если они доводили друг друга до исступления. Они совершенно меня запутали. Я продолжал представлять Генри в объятиях Билли, когда он все еще думал, что она парень. Представлял, как он уступает жажде поцелуя. Я слышал о подобных вещах, но прежде такая возможность не имела для меня смысла. Я пытался представить, что было потом, и Генри превращался в какого-то другого юношу с грудью гладкой и плоской. Но зайти дальше у меня не получалось, даже в мыслях.
Когда Билли с Генри приготовились уходить, я с облегчением тоже собрался домой.
– Хеми, мы тебя проводим!
– Нет, это же вам совсем не по пути. Я уже привык к этим улицам. Со мной все будет хорошо.
– Уверен? Мы не можем бросить тебя наедине с мрачными тенями.
– Вы и не бросаете. Я буду держаться хорошо освещенных переулков, а если замечу что-нибудь сомнительное, сольюсь с тенью. На что еще годится такая кожа, как у меня, если я не могу этого сделать?
Мы вместе посмеялись, и они ушли.
* * *
Ты знаешь, как я любил ночные прогулки по этим улицам. Но в ту ночь я видел все в другом свете, возможно, четче, и уж точно в более ярких красках. Я прошел мимо мясной лавки как раз в то мгновение, когда мясник обезглавливал какое-то животное, – в иную ночь эта сцена показалась бы мне жуткой, но тогда она была похожа на красный танец, свет лампы играл на его мускулистых руках, делавших свою работу, кровь текла, разлетаясь брызгами по полу и попадая ему на штанину. Я проходил мимо темных или светящихся окон и людей на улице, с кем-то здоровался, кого-то сторонился, – вокруг были все те же невзгоды и радости, что и в любую другую ночь, в зависимости от того, какой стадии собственного вечера достиг каждый в отдельности, – для меня же той ночью все было исполнено великолепия.
Я знал, что это было во мне с самого начала, но история Генри все изменила. Не все, что я знал, но все, что считал возможным чувствовать. Она открыла мне мир, в котором Билли мог смотреть на мужчину и чувствовать любовь, и вести себя соответственно. Мир, в котором я мог поступать так же. Мое чувство было тайным, но, может быть, существовал способ воплотить его в жизнь, – ведь изменила же Генри свою судьбу благодаря силе духа и вере в то, что можно жить по-другому. Я шел, и меня переполняла восторженная радость, радость этому миру, в котором было намного больше того, о чем я мог мечтать. Сколько же раз в жизни мне посчастливилось увидеть, как за тем миром, который я считал реальным, открывается новый мир?








