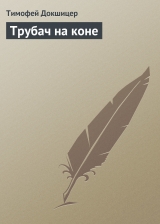
Текст книги "Трубач на коне"
Автор книги: Тимофей Докшицер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Оркестр Большого театра
До поступления в Большой театр я уже имел некоторый опыт оркестровой работы – в основном это была работа в духовом оркестре, джазе, а также в оркестре драматического театра имени Вахтангова. Стать артистом оркестра Большого театра было моей тайной мечтой, о которой я никогда никому не говорил. Это оказалось единственным признаком суеверия моей натуры – невысказывать вслух то, о чем мечтаю. Не знаю, откуда это взялось, но и сейчас это при мне...
В декабре 1945 года, когда я впервые попал в Большой театр, его огромный оркестр насчитывал 230 человек и состоял из двух с половиной составов. Артисты работали одновременно в Большом театре и филиале, и еще оставался подсменный резерв, равный почти половине состава.
Средний возраст музыкантов был за пятьдесят, большинство – седоволосые. В разговорах упоминали фамилии Рахманинова, Сука, Авранека. Имена этих выдающихся дирижеров прошлых лет звучали для меня, как история времен античности.
В то время в оркестре молодых музыкантов были единицы: лауреат 1-й премии на Всесоюзном конкурсе 1941 года валторнист Валерий Полех, его коллега Александр Рябинин, гобоист Иван Лушечников, кларнетист Виктор Петров, ударник Алексей Огородников, виолончелисты Федор Лузанов и Борис Реентович, скрипач Леон Закс и еще несколько человек.
Мы работали под зорким и критическим наблюдением старших мастеров. Нам помогали осваивать репертуар, расти, а главное -впитывать исполнительские традиции, которыми так славен оркестр Большого театра.
Традиции заключались не столько в консервативности мышления и трактовки музыки (хотя часто можно было услышать в оценках старших: "А Михаил Прокофьевич Адамов эту фразу |играл так-то..."), сколько в общем звучании, вдохновенности фразировки. Новизна трактовки всегда привлекала особое внимание и принималась коллективом только в случае достижения идеала звучания, но чаще всего непривычное воспринималось эитически. Иван Антонович Василевский, отрабатывая со мной Неполитанский танец из балета Чайковского "Лебединое озеро", настаивал на адамовской артикуляции, к которой с годами так привык, что иной и не представлял себе.
Первыми ценителями исполненного соло были рядом сидящие музыканты. Свое мнение они выражали едва слышными возгласами одобрения или гробовым молчанием. Правда, при аварии, явной неудаче, равной катастрофе, сочувственно постукивали по пульту или раструбу инструмента в знак профессиональной солидарности.
Но высшим судьей оставался дирижер – его реакция была решающей для всеобщей оценки. За дирижерским пультом стояли такие мастера как С.А.Самосуд, A.M.Лазовский, Н.С.Голованов, А .Ш.Мелик-Пашаев, Ю.Ф.Файер, В.В.Небольсин, К.П.Кондрашин. Позже в театр пришли Б .Э.Хайкин, М.Н.Жуков, О.А.Димитриади. Новое поколение дирижеров – Е.Ф.Светланов, Г .Н.Рождественский, A.M.Жюрайтис, М.Ф.Эрмлер – были моими ровесниками. Мы вместе учились в консерватории дирижерскому делу (только Эрмлер был ленинградец), .вместе выдержали конкурс в стажерскую группу дирижеров Большого театра. С дирижерами более молодого поколения – Ф.Ш.Мансуровым, А.Н.Лазаревым, Ю.И.Симоновым – мне тоже довелось работать десяток лет, выступать в концертах и делать записи. Таким образом, я застал дирижеров трех– четырех поколений, имел возможность наблюдать их работу и участвовать в ней.
Творчество оркестрового музыканта теснейшим образом связано с мастерством и художественными требованиями дирижера. Каждый дирижер хотел, чтобы играли хорошо и только хорошо! В этом все они были схожи. Но в каждом было и нечто свое, неповторимое. Так, Голованов требовал огня, эмоционального накала, гипертрофированного звучания нюансов, Мелик-Пашаев – тонкости, глубины, предельной выразительности, Файер – эмоциональности, активности, преувеличенной громкости, но обязательно певучего, сочного звука, Небольсин – профессионализма, точности исполнения по руке, без излишней инициативы, Кондрашин – и правильности, и активности, и артистизма, Светланов – страстности, активности, сочного звучания, ярости, Рождественский – легкости, импровизационное, артистизма, Жюрайтис – прозрачности, академизма, дифференцированности тембров, Эрмлер – точности, профессионализма, свободного музицирования...
Одно время в театре за дирижерским пультом появился Мстислав Леопольдович Ростропович – мой товарищ по ЦМШ, грандиозный музыкант и феноменальный виолончелист. Он увлекся дирижированием, поставил в Большом театре "Евгения Онегина", с которым театр гастролировал в Париже и Берлине с огромным успехом, а позже вместе с режиссером БА.Покровским сделал новую редакцию оперы С.Прокофьева "Война и мир".
С . М. Самосуд
Самуил Абрамович Самосуд (1884-1964) – яркая личность в истории советского оперного искусства. В Ленинграде он прославился как новатор – постановщик новых опер, в том числе– «Войны и мира» Прокофьева, и был приглашен в Большой театр, где поставил две оперы И .Дзержинского 'Тихий Дон'' и «Поднятая целина», а также оперу М.Глинки «Иван Сусанин».
Вместе с Самосудом в Москву переехал его друг, скрипач Л.А.Авцон, боготворивший Самосуда и проводивший много? времени в беседах с ним. Авцон рассказывал мне, что Самосуд пользовался расположением Сталина, и тот иногда интересовался мнением Самосуда. Например, когда в 1940 году собирались отметить 100-летие со дня рождения П.И.Чайковского, Сталин, приезжавший периодически один в свою ложу, спросил Самосуда, как он смотрит на то, чтобы Большому театру присвоить имя Чайковского. Самосуд подумал и сказал: "Большой театр – это Большой театр, а имя Чайковского можно присвоить Московской консерватории".
Другой пример. В 1942 году в Большом театре происходило по ночам важное политическое событие. Прослушивали и отбирали варианты Гимна Советского Союза, вместо "Интернационала".
Сотни людей участвовали в этом. Многие композиторы создали свои варианты. Хоры, духовые оркестры менялись одни за другими. Только оркестр Большого театра сидел, не вставая, в своей оркестровой яме с начала до конца, а над ним – правительственная ложа. Сталин сказал Самосуду: "Много работают музыканты Большого театра". "Да, товарищ Сталин, – ответил Самосуд, много работают, но мало получают..." (Нужно заметить, что Самосуд на свои постановки брал до ста репетиций).
Через несколько дней в Большой театр поступила правительственная депеша. В ней сообщалось, что дирекция Большого театра может располагать энной – весьма значительной – суммой для увеличения зарплаты артистам оркестра. Сумма повергла в страх; руководителей театра. Ставки были увеличены в 3-4 раза, а остальные деньги возвращены обратно.
После этого немедленно испортились отношения между оркестром, оперой и балетом.
Солисты балета и оперы всегда были более высокооплачиваемой категорией, чем артисты оркестра. Поэтому за первым шагом последовали и другие – повысили ставки и в опере, и в балете, а затем до уровня Большого подняли Ленинградский театр имени Кирова, Киевский оперный театр, оркестр Мравинского, Государственный симфонический оркестр с дирижером Гауком и большой оркестр радио во главе с Головановым.
Так одной волей самодержца, благодаря вовремя сказанной реплике Самосуда были изменены условия жизни целой категории работников искусства.
Самосуд был главным дирижером с 1936 по 1943 гг., после него эту должность 5 лет занимал А .М.Пазовский, а с 1949 года главным дирижером вновь стал Н.С.Голованов. С Самосудом мне довелось участвовать в первом исполнении в Москве 7-й симфонии Д.Шостаковича в конце 1941 года. Помню, партию первой трубы играл тогда С.Н.Еремин, возглавивший первую тройку труб, а вторую тройку, где был и я, возглавлял Г.А.Орвид.
После войны, когда Самосуд был главным дирижером второго оркестра радио (а его ассистентом и концертмейстером – начинающий тогда дирижерскую карьеру Юрий Силантьев), я записал с ним только что обнаруженное неизвестное сочинение для трубы А.Глазунова "Листок из альбома". Как вскоре выяснилось, появившиеся, неизвестные до той поры "находки", в том числе и "Листок из альбома", Среди "обнародованных" им опусов были: Соната для виолончели А.Бородина, которую записал на пластинку известный виолончелист Яков Слободкин, Концертный вальс для трубы и фортепиано А .Аренского. К их числу принадлежала и 21-я симфония Овсяннико-Куликовского, которая, как я уже говорил, была моим дирижерским дебютом. Написанная якобы в 1810 году по случаю открытия Одесского оперного театра, она призвана была доказать, что жанр симфонии родился в России, и его создатель – Овсяннико-Куликовский, а не венские классики Гайдн, Моцарт, Бетховен.
В послевоенные годы была мода на русские приоритеты...
Опусы Михаила Гольдштейна были так искусны, что трудно было заподозрить подделку. Сам Гольденвейзер, опубликовавший рецензию на сонату Бородина, восклицал: "Да ведь это музыка Александра Порфирьевича!.." Но особая пикантность ситуации с симфонией Овсяннико– Куликовского заключалась в том, что такого композитора вообще не существовало. Ни в одном из музыкальных справочников, изданных в самые последние годы, даже в советском энциклопедическом словаре, имени такого композитора не упоминается! Хотя ничем не приметный музыкант с такой фамилией был в Одессе.
Когда я снова переписал "Листок из альбома" с дирижером Геннадием Рождественским, на "Мелодии" возник вопрос, под; каким опусом у автора опубликовано это сочинение и не предъявит ли Гольдштейн, проживавший уже за границей, авторские права; на эту музыку Глазунова. Выход нашли: "Листок" был включен в каталог произведений Глазунова и закреплен в новом музыкально– энциклопедическом словаре, вышедшем в 1973 году.
О Сталине
В годы работы в Большом театре мне приходилось периодически видеть Сталина в ложе, причем не мельком, а в течение продолжительного времени наблюдать его поведение, общение с соратниками, даже следить за его реакцией на действие на сцене. Невозможно было определить его настроение по выражению лица – как правило, оно было каменным. Расстояние, отделявшее меня от его ложи, было не более 15-16 метров. Ложа находилась над оркестровой ямой, слева от дирижера – за спинами скрипачей, и взгляд музыкантов медной группы, устремленный на дирижера, далее по прямой скользил как раз в правительственную ложу.
Место Сталина в ложе находилось слева (дальше от сцены) и было задрапировано парчовой шторкой так, что из зрительного зала его не было видно. Рассказывали, что декоративная парчовая ткань с золотой каймой прикрывала бронированную стену ложи, отделяющую ее от зрительного зала.
Перед тем как Сталин появлялся в театре, в оркестр садились "мальчики" из охраны. Они располагались между музыкантами в каждом ряду, у оркестрового барьера лицом к сцене и, как бы интересуясь действием, следили за каждым нашим движением. Особое их внимание привлекали сурдины валторнистов, трубачей и тромбонистов, по форме напоминающие гранаты, за которыми мы периодически наклонялись. Конечно же, охранялись оба входа в оркестр, и ни войти, ни выйти без разрешения "стражи" было невозможно.
Сталин иногда посещал театр один и сидел в ложе, в своем зашторенном углу. Появлялся он, когда свет в зале был притушен, а покидал ложу в тот момент, когда его еще не зажигали. Но если в ложу входили члены Политбюро, он каждому указывал его место – и никто не смел выйти из ложи, пока в ней находился Сталин.
По моим наблюдениям, Сталин интересовался русскими операми на историческую тематику, с образами Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра Первого. Я видел его на спектаклях "Псковитянка" (с прологом "Вера Шелога"), "Царская невеста", "Борис Годунов", "Хованщина", но никогда не встречал на операх-сказках Римского-Корсакова ("Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок"), где образ царя выведен в пародийно-шутовском виде.
Сталин театр "опекал", но требовал, чтобы тот своим творчеством служил господствовавшей идеологии. Репертуар и Планируемые постановки строжайше проверялись. Каждая новая работа коллектива принималась особой комиссией ЦК и Министерства культуры, а если появлялись сомнения в идеологическом отношении или в точности следования "исторической правде", спектакль просматривал сам Сталин. Скандальной была история с постановкой оперы В. Мурадели "Великая дружба", где главным героем был Серго Орджоникидзе, а не сам Сталин. Эта постановка Большого театра не только не получила разрешения на показ, но послужила поводом для постановления ЦК от 1948 года, которое явилось потрясением для всей нашей музыкальной культуры. В нем подверглись уничтожающей критике все лучшие композиторы России, в их числе С . Прокофьев и Д.Шостакович. Это позорное постановление было отменено Хрущевым после смерти Сталина.
В Большом театре проводились все торжественные собрания, посвященные государственным праздникам (Кремлевский дворец съездов был построен только в 1961 году), и во всех таких торжественных концертах участвовал оркестр. В эти дни устанавливался особый режим, а мы с утра до вечера оставались в театре. Как-то раз репетиция затянулась до вечера – особая комиссия оценивала программу, в которой участвовали исполнители из разных республик, кого-то принимали, кого-то отвергали – главным образом из идейных соображений. Одновременно тихо и незаметно работали режиссеры, постановщики, осветители. Лишь к вечеру нас отпустили на часок погулять. Я прошелся вокруг Театральной площади и возвращался к театру вдоль гостиницы "Метрополь". На переходе проспекта Маркса я остановился. С площади Дзержинского, от дома КГБ, ехали машины с зажженными фарами, к театру начали съезжаться руководители государства.
Один сигнал зеленого светофора я пропустил – подземного перехода тогда еще не было. В это время проехали три машины, кто в них был, я не разобрал. Следующим светофором я перешел улицу, и около Малого театра, у памятника Островскому, кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел милиционера двухметрового роста: "Документы". Я был очень самоуверен и даже похвалил его за бдительность. Мои документы со специальным пропуском на вход в Большой театр в этот вечер не вызвали подозрения, и он разрешил мне следовать дальше.
Кто же "засек" меня, кто заметил, что я, в отличие от всех прохожих, не перешел улицу на зеленый светофор и остался стоять? После этого случая я стал замечать: в толпе всегда дежурили специальные люди – в обуви на меху, в теплой одежде и с радиопередатчиками. Они проверяли толпу, "отлавливая" всех подозрительных¼ У нас в театре работал скрипач Яша Шухман – весельчак и жизнелюб. Вечерами он любил играть в карты. Однажды на Старом Арбате – узкой улице, по которой по ночам проезжал кортеж машин, везущих Сталина на дачу, – Яков вышел из подъезда, улица была пустынна. Увидев фары подъезжавших машин, он поднял руку – и в ту же секунду кто-то втащил его обратно в подъезд...
Ему повезло: он остался жить и даже продолжал работать в театре, но уже никогда его не допускали к правительственным концертам, никогда он больше не получал специального вкладыша в свой театральный пропуск. Даже на панихиду по случаю похорон Сталина, которая проходила не в театре, а в Колонном зале Дома Союзов, его не допустили.
В 1930-е годы – особенно после 1937 года – во всех учреждениях периодически вылавливали "врагов народа". Не обошло это и Большой театр. В 1939 году в оркестре была "разоблачена" террористическая группа музыкантов, в планы которой входило взорвать Большой театр и убить Сталина. Среди музыкантов, входивших в эту группу, были мои коллеги Борис Булгаков, Валентин Карцев, Сергей Госачинской, Борис Гольштейн и другие. Им грозила смертная казнь. Но произошло чудо. На смену палачу Ежову пришел другой палач – Берия, который в начальный период своей деятельности, желая показать свою лояльность и несправедливость действий предшественника, аннулировал несколько дел, еще не завершенных Ежовым. Таким образом, моим сослуживцам и будущим друзьям повезло: они были отпущены на свободу и до конца своих дней работали в оркестре.
Довелось мне видеть Сталина и на шикарных банкетах в Георгиевском зале Кремля – это было еще до работы в Большом театре. Балалаечный оркестр Центрального дома Красной Армии (ЦДКА), где я тогда служил, принимал участие в концертах, которые давались многочисленным участникам этих попоек. Нам тоже перепадало угощение с "барского стола", было что выпить и чем закусить.
Десятки раз, стоя на Красной площади в составе сводного оркестра во время парадов, я наблюдал выход Сталина на трибуну Мавзолея, куда вел специальный подземный переход из Кремля. Мизансцены этого спектакля были бессмертны, как рутинная оперная режиссура, особенно приемы выражения "народной любви" к членам Политбюро – дети, преподносящие букеты цветов вождям... Последняя мизансцена сталинских режиссеров просуществовала вплоть до горбачевских времен.
Личность Сталина в те времена обожествлялась. Все события нашей жизни непременно связывались с ним, его славили и благодарили, пресса и радио непрерывно вещали о "мудром учителе "отце всех народов" и т.п. Это было состояние всеобщего психоза, и оно составляло наши будни. Всякую речь, даже на производственную тему, было принято завершать здравицей в честь Сталина. В любом студенческом реферате надо было славить Сталина и партию. Советские люди так к этому привыкли, что не заметили, как в коротком выступлении самого вождя на торжественном собрании по случаю собственного 70-летия, из его уст прозвучала завершающая фраза: "Да здравствует товарищ Сталин" (!) Я , как и все, был подвержен всеобщему психозу, как и все, кричал и славил великого вождя. И все же еще с молодых лет понял, какое зло несет Сталин людям. Об этом можно было размышлять, но поделиться с кем-то было невозможно. И в наши дни, в период нарождающейся демократии, в умах людей старшего поколения нередко бродят мысли о Сталине и его "железной руке", о том, что половину населения следует расстрелять, а другую -сослать... Все это мы пережили и, надеюсь, те времена ушли безвозвратно.
Вот на какие размышления навело меня воспоминание об* одной фразе, высказанной Самосудом "великому вождю" о, заработке музыкантов. Однако продолжу рассказ о дирижерах Большого театра, с которыми мне довелось работать.
Дирижеры
Н .С.Голованов Гигантской личностью в оперно-симфоническом искусстве был Николай Семенович Голованов. Он отличался исключительной требовательностью, строгостью, даже свирепостью в репетиционной работе и детской ранимостью в жизни. Когда что-то случалось во время спектакля (что часто вовсе не зависело от дирижера), он возвращался домой в подавленном состоянии. Мне рассказывал С.Л.Рогачевский, заведующий театральной поликлиникой, что подавленность, которой был подвержен Николай Семенович из-за постоянной неудовлетворенности, он, Рогачевский, снимал восторженными отзывами публики, феноменальными впечатлениями от его спектакля, которые якобы высказывались зрителями. Такой метод психотерапии не противоречил истине.
Голованову было свойственно драматизировать детали. Он требовал, чтобы отдача всех участников спектакля на сцене и в оркестре соответствовала его уровню. Когда во время работы он обращался к группе музыкантов и не встречал ответного горящего взгляда, он свирепел, расценивая это как небрежность в работе. Зная это, трубачи поднимали раструбы вверх, а однажды виолончелист, уронивший смычок, продолжал активно "играть" без смычка, лишь бы не огорчить Николая Семеновича и не вызвать его гнев.
Голованов был мастером монументальных, масштабных постановок. Его "Борис Годунов" и "Садко", поставленные еще в 1951-1952 гг., сохранились в репертуаре театра до наших дней. А "Хованщина" дожила до 1995 года, до новой постановки Б. Покровского и М.Растроповича.
Игра с Головановым требовала предельного внимания, особенно учитывая его своеобразие в трактовке темпа. Он музицировал совершенно свободно, и чуть зазевавшийся музыкант попадался сразу. Четырехчетвертной такт у него мог иметь 5 и 6 долей: это происходило за счет тенуто на отдельных четвертях. Он возмущался: "Не умеешь играть на четыре – раз, два, три и четыре – безобразие!" (Это было его любимым словцом).
Приходил на репетиции Голованов за полчаса до начала и часто начинал репетиции раньше установленного времени, но опоздавших не было. Судя по оркестровым партиям, исчерканным малиновым карандашом (все знали карандаш Голованова), репетиционной работе предшествовал напряженный домашний труд. Все, что он требовал, в партиях у каждого уже было? обозначено.
Активность и воинственность Голованова проявлялись не только в творческой работе. Он мог устроить разнос в министерстве, райкоме, любой другой инстанции. После войны в театре работал выдающийся валторнист Александр Александрович Рябинин, но он служил офицером, и из части его отпускали на спектакли не всегда. Не знаю точно, в какую инстанцию пошел Голованов – то ли в генеральный штаб, то ли к самому министру обороны, но устроенный им скандал и заявление типа: "У вас тысячи майоров, а Большому театру нужен только один – Рябинин" – возымели свое действие.
Николай Семенович был человеком религиозным, посещал службу в церкви Воскресения 1 Славущего на улице Неждановой, бывшем Брюсовском переулке. Дом, где он жил, был первым кооперативным домом в Москве и назывался "головановским". Теперь и его квартира стала музеем и называется "Музей-квартира Голованова". Там часто собираются музыканты, и мне приходилось бывать на камерных концертах.
А .Ш.Мелик-Пашаев Антиподом Голованова был Александр Шамильевич Мелик-Пашаев, утонченный музыкант– эстет. Он тоже приходил на репетиции с тщательно отработанной и выверенной исполнительской концепцией и проштрихованной партитурой. Продумано было все вплоть до внешнего поведения и эффектных театральных приемов. Он мог неожиданно перестать дирижировать и слушать, как оркестр справляется сам. Или картинно вытирая лицо во время действия белоснежным платком.
Казалось, каждый спектакль повторяется, будто отснятый на кинопленку, настолько точно воспроизводилось и повторялось все внешнее поведение: как было на первом спектакле, так и на тридцатом, и на пятидесятом.
Но это была только внешняя сторона. На самом деле в проведение каждого очередного спектакля вкладывалась новая, свежая энергия, зажигавшая исполнителей и публику. В таком методе работы с оперным коллективом состояла мудрость Александра Шамильевича. Он знакомил всех с исполнительским планом, который был монолитен и нерушим, и от всех требовал его неукоснительного выполнения. Но на каждом очередном спектакле эта оболочка наполнялась новым дыханием. Это делало спектакли Мелик-Пашаева и стабильными, и живыми. Поэтому Александр Шамильевич не любил в своих спектаклях новых исполнителей, и попасть в его состав молодому человеку, не прошедшему "курс подготовки", было невозможно.
В годы моей дирижерской практики в Большом театре я был ассистентом Мёлик-Пашаева при постановке оперы Ф.Эркеля "Банк-Бан". В мои обязанности входило проведение спевок с певцами и корректурных репетиций с оркестром, выверка текста, штрихов, нюансов, исправление ошибок.
Когда Александр Шамильевич пришел на дирижерский пульт, я был за его спиной, у барьера оркестровой ямы. Все шло благополучно, и вдруг – остановка; ошибка в нотах. У Александра Шамильевича был тонкий слух. Я тоже слышал хорошо, но эту ошибку пропустил. Только при повторении эпизода я услышал какое-то звуковое мерцание – вроде бы не фальшь, но все-таки что– то не то в аккорде. Этот случай открыл мне целый пласт новых представлений о слуховом контроле. Сидя в оркестре, мы приучаемся замечать неправильные звуки в однотембровых инструментах в основном рядом сидящих музыкантов. Иногда можем услышать на расстоянии ошибки в звучании инструментов с характерным тембровым колоритом, скажем, кларнета или гобоя.
После этого эпизода на репетиции "Банк-Бана" моя реакция на звуковысотное интонирование во всей последующей практике была иной.
Слуховое восприятие у духовика, как и у вокалистов, имеет особую природу. Из-за того, что источник звукообразования и его контроля (губы и уши) находятся в непосредственной близости, мы не можем воспринимать звук как бы со стороны, а без пространственного ощущения труднее его контролировать и корректировать. По этой причине не всегда трубач даже свой инструмент может подстроить точно. Еще труднее дается его корректирование в процессе игры, когда инструмент, нагреваясь, начинает повышать строй.
С Мелик-Пашаевым играть всегда было радостно. Непревзойденными шедеврами его репертуара были "Кармен", "Пиковая дама", "Аида" и другие оперы Верди, оперы Пуччини.
Александр Шамильевич тонко чувствовал природу исполнительства оркестрантов. Когда что– то не получалось вместе, он говорил: "Я подумаю, как это лучше показать".
Помню, как всегда судорожно напрягались руки Александра Шамильевича в сцене смерти Графини в "Пиковой даме" перед тем, как показать два коротких аккорда у труб и тромбонов, венчающих последний вздох умирающей старухи. Это напряжение передавалось нам, нас словно парализовывало. Мы задыхались в ожидании волевого посыла руки дирижера, и часто врозь, каждый по своему ощущению, играли эти аккорды, после чего вместе с Александром Шамильевичем улыбались на такую чепуху, деталь, не представляющую никакой трудности. В той же "Пиковой даме", в 1 акте, после реплики Томского "Но граф был не трус", трубач играет сольную фразу, в которой, казалось бы, нет ничего трудного. На самом же деле здесь оказалось много проблем. Дело в том, что эта неудобная фраза идет после большой паузы, которая длится 12– 15 минут. При этом трубач играет совершенно один, без поддержки других голосов, при неопределенности ощущении тональности: только конец музыкальной фразы утверждает До– мажор. Все это вместе создает, кроме неудобства, еще и неуверенность. Илья Минеевич Границкий, прекрасно игравший этот спектакль, неоднократно говорил мне, что эта фраза очень неудобна. В исполнении Наума Эммануиловича Полонского я слышал совсем несвойственную ему дрожь в звуке, а Полонский -это лидер советских трубачей, звезда 1930-40-х годов.
Настала моя очередь играть спектакль. Александр Шамильевич остановил меня в коридоре и сказал: "Тимочка (он всегда ласково обращался к людям), я хочу Вас попросить присмотреться к "Пиковой даме".
На спектакле – а играл я без репетиции – мне было просто. Музыка на слуху, а на предостережение Границкого я не обратил внимания – мало ли почему ему трудна эта фраза. И вот перед словами "Но граф был не трус" я почувствовал, что потерял тональный ориентир, мне не на что опереться... В тишине, после реплики певца, не сыграл, а, что называется, врезал – и не туда.
Это было возмездие за самонадеянность. Но к этому вопросу я еще вернусь. Урок мне, молодому тогда еще музыканту, не пошел впрок.
К "Пиковой даме" я обратился вновь после большого перерыва. По совету дирижера Марка Фридриховича Эрмлера, с которым я осуществил не одну запись, я попробовал сыграть злосчастную фразу на трубе "С". Это был умный совет мудрого человека. В дальнейшем я играл "Пиковую даму" вполне благополучно много лет, но это всегда требовало особой собранности.
Ю . Ф. Файер Юрий Федорович Файер – балетный дирижер, на редкость одаренный Богом человек, вдохновенный, эмоциональный, яркий музыкант с особым даром ощущения звука. Бывает ли у дирижера свой звук? Ведь музыканты на своих инструментах звучат по-разному. Оказывается, и у дирижера есть свой звук – оркестр у каждого звучит индивидуально, неповторимо.
Это особенно проявилось на концерте оркестра в Большом зале консерватории в 1951 году, посвященном 175-летнему юбилею Большого театра. Тогда за дирижерским пультом стояли поочередно все дирижеры театра. Н.С.Голованов, правда, уже не дирижировал, хотя оставался главным дирижером. В тот вечер можно было непосредственно сравнить звучание одного и того же оркестра "в руках" разных дирижеров, с разным исполнительским почерком. В программе были небольшие сочинения, увертюры, оркестровые фрагменты из опер, танцы из балетов.
Когда оркестр заиграл "Терцовый" (два кларнета) антракт из балета "Раймонда" Глазунова, стало очевидно, что ни у кого оркестр так не звучал, как у Файера.
Около двух лет Юрий Федорович под разными предлогами не подпускал меня к своим спектаклям. Одним из предлогов было то, что он требовал исполнения корнетовых партий именно на корнете, а такого инструмента у меня не было.
Вскоре мне попался корнет фирмы "Александер", привезенный кем-то после войны из Германии. Мое первое выступление в балете "Лебединое озеро" предопределило будущее. После моего дебюта Файер требовал, чтобы его спектакли всегда играл Докшицер, И ему уже было безразлично, на чем я играю – на трубе или на корнете. Я продолжал играть на трубе, а корнет отложил в сторону: у него был трудный верх, но звучал он очень хорошо. На нем я сделал свою первую пластинку, на которой впервые прозвучал "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".
Этот дорогой для меня инструмент спустя 45 лет я вернул на его родину – в Германию, и теперь он является экспонатом Музея труб в городе Бад Секингене.
Участие в постановке балета С.Прокофьева "Ромео и Джульетта" окончательно укрепило мое положение солиста оркестра. Я играл трубные и корнетные партии со всеми дирижерами.
Интересно было работать и с более молодыми из них: Геннадием Рождественским, Евгением Светлановым, Альгисом Жюрайтисом, Марком Эрмлером и др.








