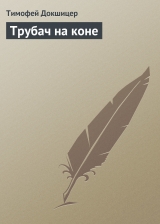
Текст книги "Трубач на коне"
Автор книги: Тимофей Докшицер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
В поисках репертуара
Уже в юношеские годы начались мои контакты с композиторами. Занимаясь в ЦМШ, я одновременно работал в Балалаечном оркестре Центрального лома Красной армии (позднее он назывался ЦДСА). Этот коллектив представлял собой ансамбль песни и пляски с солистам и певцами, танцевальной группой и актерам и -чтецами. Основу его составлял не хор, как в ансамбле им. Александрова, а оркестр народных инструментов с духовыми и ударными. Создателями его были режиссер Феликс Николаевич Данилович и известный музыкант-народник, дирижер Петр Иванович Алексеев. С этим оркестром я юношей много поездил по стране. Был в Белоруссии, Ленинграде, Поволжье, Закавказье, на Украине и даже в Монголии, во время крупного сражения с японцами на реке Халхин-Гол, В Балалаечном оркестре я познакомился с пианистом Владимиром Ананьевичем Пескиным. И как показало время, это знакомство оказало огромное влияние не только на развитие моих исполнительских способностей, но и на создание ряда значительных произведений для трубы.
Дело в том, что в оркестре существовала практика бесплатных шефских концертов отдельных исполнителей-солистов. Это делалось в малых аудиториях, где невозможно было разместить весь коллектив. Поэтому все солисты, певцы, чтецы, танцоры имели специально приготовленные для таких выступлений концертные номера. А всем им – в том числе и мне – аккомпанировал Владимир Ананьевич Пескин. Он сделал для меня несколько переложений классических пьес – в том числе романсов – "Как дух Лауры" Листа и "Весенние воды" Рахманинова.
Шефские выступления стали замечательной концертной практикой для меня и создали прекрасную почву для развития композиторского творчества Владимира Пескина. Владимир Ананьевич учился в Московской консерватории в классе профессора С.Е.Файнберга, но "переиграл" руки и окончить консерваторию ему не было суждено. Однако профессиональное заболевание не помешало ему успешно заниматься концертмейстерской и педагогической работой.
А работать ему было необходимо: семья была разорена – отец репрессирован, мать сослана в степи Казахстана, младший брат еще учился, и В.Пескин был единственным кормильцем.
Еще в годы учебы Владимир Ананьевич занимался композицией. Его милые фортепианные прелюдии я с удовольствием разучивал. Но главным образом он писал вокальную музыку, часто на собственные стихи. Первой исполнительницей их была его мать Вера Исаевна, обладательница чудесного светлого сопрано.
Первым сочинением Пескина для трубы стало виртуозное Скерцо. Написано оно было без учета традиционной специфики инструмента, но именно это обстоятельство позволило ему создать музыку неслыханной свежести и совершенно несвойственной трубе, по тем временам, технической сложности.
Когда Владимир Ананьевич показал мне ноты, я был в недоумении – с первого взгляда что-то в этой музыке отпугивало, но что-то и привлекало, Я вначале не решался взяться за разучивание Скерцо, потому что не представлял его пригодным для исполнения на трубе. Однако постепенно, пробуя играть его, я все больше и больше входил во вкус и понял, что моя техника недостаточно развита. Наконец у меня что-то стало получаться. Некоторые моменты Владимир Ананьевич исправил как совершенно неисполнимые и не отвечающие природе инструмента. Вскоре мы стали включать Скерцо в программы шефских концертов. Я уже играл его свободно и с удовольствием.
Наконец мы решили показать Скерцо Михаилу Иннокентьевичу Табакову. Он был ошеломлен произведением, моей работой и сказал буквально следующее: "Если бы это услышали сто лет тому назад, то тебя, как Паганини, объявили бы дьяволом".
Это было году в 1937-м. Спустя 45 лет после создания Скерцо Пескина я записал его с духовым оркестром под управлением Николая Михайловича Михайлова, главного военного дирижера Советской Армии. Произведение это до сих пор не потеряло своей свежести, и даже теперь не всякий виртуоз возьмется за его исполнение.
Затем Пескин написал Поэму, тоже в совершенно необычном для трубы ключе – с арпеджированными оборотами и почти флейтовой фактурой в среднем эпизоде. Теперь Поэму N 1 можно услышать в программе моего последнего компакт-диска. Поэма входила в программу второго тура моего выступления на Всесоюзном конкурсе в 1941 году.
Далее появился трехчастный Концерт в до миноре, который начинается с ноты "ля" малой октавы. Одна эта деталь свидетельствует о том, что автору важнее музыка, чем удобство для исполнителя, а с музыкальной точки зрения этот звук не только оправдан, но и является стержнем главном темы, которая проходит в первой части Концерта трижды. И исполнителю ничего не остается, как только добиться хорошего звучания нижних звуков – разумеется, если есть желание исполнить Концерт. А если музыка, в свою очередь, стимулирует еще и совершенствование мастерства, то ее значение возрастает. Кстати, и каденция этого Концерта – тоже новое слово в нашей трубной литературе.
Пескин также написал для трубы несколько сочинений малой формы, Поэму N 2, Концертное аллегро ставшее весьма популярным, Концерт N 3, Вариации, а также концерты для валторны и кларнета и ряд пьес малой формы.
Композиторский почерк Пескина близок к музыке романтиков. По моему мнению, это современный Мендельсон. Его вклад в репертуар трубачей неоценим – особенно для того "голодного" времени, когда мы отказались от дилетантской музыки писавших для себя авторов– трубачей прошлого. Новая еще только-только стала появляться. Опередили Пескина только Александр Федорович Гедике, своим гениальным Концертом заложивший классическую основу современного репертуара для трубы, и Вячеслав Иванович Щелоков с Первым концертом и Этюдом N1.
Музицируя с Владимиром Ананьевичем, я переиграл много "нетрубной" музыки, особенно вокальной. И фал прямо по клавиру романсы Чайковского, Рахманинова, песни Шуберта, Мендельсона, прелюдии Скрябина. Романсы я не только играл на трубе, но и пытался петь своим стертым, тусклым голосом, который при моей неудачной попытке поступления на дирижерско– хоровое отделение Московской консерватории был определен профессионально как 2-й тенор (и такое в моей жизни было!).
Подобные занятия выходили за рамки программы воспитания духовика, однако я на собственном опыте убедился в их пользе для развития музыкальной эрудиции и формирования интерпретаторского чутья.
Владимир Ананьевич не был моим преподавателем, но наше общение обогащало нас обоюдно, вдохновляя на новые творческие искания.
С осени 1939 года, после окончания ЦМШ, я должен был продолжать учебу в Московской консерватории, но не успел приехать к началу учебного года, так как находился в Монголии с Балалаечным оркестром. Там шла кровопролитная война с японцами. Однажды в голой степи и наш ансамбль попал под обстрел японских самолетов. Концерты шли ежедневно, мы очень страдали от комаров. Японцы защищались от них сетчатыми цилиндрами, закрывающими голову до плеч, а мы ничем. И все равно наши войска под командованием Георгия Константиновича Жукова одержали победу.
Я вернулся домой, но к началу учебного года в консерватории опоздал. Чтобы не терять времени, Табаков взял меня к себе в класс училища имени Гнесиных, где я и проучился до начала Великой Отечественной войны, На Всесоюзном конкурсе В феврале 1941 года в Москве состоялся Всесоюзный конкурс исполнителей на духовых инструментах. Табаков выставил на конкурс пятерых своих учеников: А.Августенчика, В.Евсеева, А . Меепаяна, Г.Орвида и меня. Я был самым молодым участником конкурса – мне тогда исполнилось 19 лет.
Поскольку в мою конкурсную программу была включена поэма Пескина (разумеется, с согласия моего профессора), я попросил Табакова разрешить мне играть ее на конкурсе с автором, а не с концертмейстером нашего класса Марией Исааковной Фишбейн, очень хорошей пианисткой, Михаил Иннокентьевич согласился. Но когда на второй тур прошли только Орвид и я, причем Орвид, будучи уже педагогом консерватории, играл со своим концертмейстером, получилось так, что участие Марии Исааковны в конкурсе закончилось, Мария Исааковна выразила но этому поводу свое неудовольствие. Ее раздражение передалось Табакову, но в этой ситуации ничего нельзя было изменить. Предстоял второй тур с поэмой Пескина, а Мария Исааковна даже не слышала этой музыки, И подводить меня было не в интересах Табакова.
На заключительной стадии конкурса конфликт все-таки произошел и привел к полному разрыву отношений Табакова с Пескиным. А вышло это так. На концерте лауреатов в зале Чайковского время выступления ограничили 4-5 минутами. Конечно же, и по времени, и по содержанию для этого концерта более всего подходила поэма Пескина. Но Мария Исааковна настояла на том, чтобы этот концерт со мной играла она – значит, следовало избрать другое произведение. Табаков рекомендовал мне играть сокращенный вариант Концертштюка Брандта фа– минор. Таких сокращений никто никогда не делал. Нелепость этой затеи могла обернуться против меня, ее могли расценить как слабость новоиспеченного лауреата, который на заключительном концерте играет облегченный вариант всем известного сочинения. Не знаю, как я решился возразить Табакову, которого боготворили, который был моим кумиром и высшим судьей, но я отказался от участия в концерте...
За этим последовали три дня молчания. Я не приходил к Михаилу Иннокентьевичу и не звонил – ведь звонить ему можно было лишь в чрезвычайных обстоятельствах, и я не нашел в себе силы это сделать. За эти три дня я расслабился, совсем перестал заниматься, не видя выхода из ситуации и зная, что со стороны Табакова никакого компромисса быть не может.
И вдруг в день концерта произошло неслыханное, Табаков сам позвонил мне! Это была небывалая уступка профессора своему ученику, и я до сих пор испытываю за нее чувство стыда, Михаил Иннокентьевич выразился кратко: – Сегодня в концерте можешь играть, что хочешь.
Но было уже поздно. Я три дня не брал инструмент в руки и считал невозможным, будучи не в форме, выйти на сцену.
Таким образом, моя радость по случаю успешного выступления на конкурсе была омрачена.
Соревнование было очень трудным. Премии присуждали не так, как теперь – по каждому инструменту три премии и два диплома, а по две премии, общих для всех инструментов. В результате трубачам не дали ни первых, ни вторых премий, но присудили три третьих: Орвиду, Воловнику (из Ленинграда) и мне. Диплом получил трубач Самохвалов из Киева.
В то время в нашей стране было всего два трубача-лауреата: Н.Полонский и С. Еремин, Тогда это звание котировалось очень высоко; оно налагало большую ответственность, но и предоставляло возможности проявить себя на концертной эстраде. Это был отличительный титул признания высшего мастерства. В начальный период моей концертной деятельности это звание мне очень помогло.
Война
Прошло всего полгода после окончания конкурса, и меня призвали в армию. Началась Великая Отечественная война.
Моя армейская служба проходила в Образцовом оркестре штаба Московского военного округа. Это была, по сути, третья моя армейская служба (первая – воспитанником, вторая – вольнонаемным музыкантом в Балалаечном оркестре ЦДКА с ноября 1936 года по ноябрь 1939 года).
Оркестр штаба Московского военного округа был укомплектован в основном профессиональными музыкантами. Из его состава был создан джаз-оркестр, которым руководил выдающийся музыкант Виктор Николаевич Кнушевицкий, создатель первого в нашей стране Государственного эстрадного оркестра.
Пожалуй, никогда в военных оркестрах не играли музыканты столь высокого класса, как во время войны. Служили все исполнители профессиональных оркестров призывного возраста – от молодежи до седовласых. Надо сказать, что служба военного музыканта изнурительна. А на духовом инструменте особенно трудна в зимнее время, когда приходится играть на улице на застывшем инструменте с обледенелым мундштуком. Но во время войны мы с этим не считались, наша ежедневная работа длилась часами. Понятно, что, кроме исполнения музыки, мы выполняли караульную, патрульную службу в прифронтовом городе, каким стала Москва к середине октября 1941 года и позже. Немцы каждую ночь бомбили город. Мы, вооруженные винтовками, дежурили на крышах домов, в местах скопления людей – бомбоубежищах, станциях метро. Некоторые носили с собой и свои музыкальные инструменты.
Наша профессиональная будничная работа начиналась рано утром. До декабря месяца она была довольно грустной. Исключением стал неожиданный парад 7 ноября на Красной площади по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции. Парад этот никак не готовился. Нас подняли в 5 утра, к 7 часам было приказано явиться на Красную площадь. Кроме нашего оркестра, насчитывающего 50 человек, там были оркестры полков НКВД – всего около 150 музыкантов. Этим маленьким сводным оркестром дирижировал автор популярного марша "Прощание славянки" В .Агапкин.
В параде участвовали части, находящиеся на переформировании. В их марше по Красной площади не было ничего парадного. Усталые, они не могли знать, что им, направляющимся на боевые позиции осажденной немцами столицы, предстоит сначала пройти маршем по Красной площади. Парад начался в 8 часов утра, в то время как обычно они начинались в 10 часов.
Предрассветный утренний туман, низкая облачность, метель и мороз делали погоду нелетной, что счастливо сопутствовало проведению парада с наименьшей вероятностью налета немецкой авиации.
В речи И.Сталина с трибуны Мавзолея прозвучали слова, которые запомнились, как вещие предсказания: "Еще пол годика, годик и фашистская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений". Смысл этой фразы тогда не казался реальностью. Он больше был как бы направлен на поднятие духа людей. Но месяцем позже наши войска нанесли врагу первый после начала войны сокрушительный удар и отогнали немцев от Москвы. Вдохновленным победой людям потребовалось больше музыки, Звуки нашего оркестра, единственного оставшегося в Москве из образцовых военных коллективов, раздавались на московских вокзалах, речных причалах, откуда сформированные части направлялись на фронт и куда прибывали беженцы и эвакуированные из оккупированных районов нашей страны.
Многие люди, порой и сами музыканты, не вполне оценивали роль и значение музыки на войне – как во время кровопролитных сражений на фронтах, так и в тылу. Но надо было видеть лица людей – бросивших все, едущих неизвестно куда стариков, женщин, детей, оставивших свои дома, упавших духом, для которых, казалось, жизнь кончилась – когда они слышали звуки духового оркестра. Услышав музыку, люди плакали, обнимались, кричали: "Музыка! Значит, жизнь, значит, не все конченой впереди победа!" Это было выражением отчаяния, смешанного с чувством надежды, возвращения к жизни. Глядя на это, невозможно было играть, слезы душили, сбивалось дыхание... Эти минуты незабываемы.
Однако, как это ни покажется странным, ни трудности и тяготы армейской службы, ни тревога и напряжение военных будней не отравляли нашу жизнь так, как это делал наш начальник и дирижер – Лев Георгиевич Юрьев (брат выдающегося трубача Леонида Георгиевича Юрьева).
Мало того, что он был бездарным дирижером и музыкантом, что особенно бросалось в глаза на фоне высокой исполнительской квалификации большинства оркестрантов, это был еще и редкостно неприятный человек. Для него не существовало никаких авторитетов, он не терпел компетентных суждений, не прислушивался к чьему-либо мнению. Люди для него были как будто механизмами, автоматами, призванными молча выполнять любые приказы. А приказы эти бывали порой нелепы ; до идиотизма.
Например, он мог скомандовать на репетиции: "Встать! "Ромео и Джульетту"... на месте шагом... марш!" – и мы играли эпизод аллегро из увертюры-фантазии Чайковского в темпе марша.
Таков был "творческий" метод нашего дирижера и начальника в работе с оркестром.
Злоупотребление своим положением развлекало его. Например, заметив отсутствие на моем пульте нот оркестровой партии, он объявлял: "Трое суток гауптвахты, если ноты не будут сейчас же на месте!" – И мои товарищи шли искать ноты, хотя это было заботой библиотекаря. Юрьев с нами разговаривал злобно, с перекошенным и слюнявым, как у бешеной собаки, ртом.
Некоторые его выходки граничили с садизмом. После ночных бомбардировок Москвы в оркестр звонили родственники, справлялись о своих родных и близких. Однажды после такой тяжелой ночи, а мы часто проводили их на крышах домов, одна женщина позвонила, чтобы справиться о здоровье сына. Юрьев, раздраженный звонками, ответил: "Он убит".
Это была его "шутка", И каждый день он позволял себе в разной форме оскорблять и унижать людей. Генерал Чернецкий называл службу в оркестре Юрьева "штрафным батальоном".
Мало того: наш командир был еще и трусом. Во время переезда оркестра на концерты в Горький в октябре 1941 года на наш эшелон напали немецкие самолеты. Была объявлена тревога.
Мы выскочили из вагонов, вооруженные старыми винтовками (образца, кажется, 1897 года), и из этих винтовок стали стрелять по пикирующим самолетам, но наш огонь им был – как слону дробина. А Юрьев в это время прятался в вагоне и кричал: "Прикрывайте меня!" Разумеется, терпеть такое положение было трудно, и в оркестре нарастало недовольство самодурством начальника. Но в условиях военного времени неподчинение командиру квалифицировалось как бунт, нарушение устава и присяги. Тогда группа музыкантов подала рапорт с просьбой об отправке их в действующую армию.
Разобраться в ситуации пришел генерал из политуправления штаба Московского военного округа. На собрании коллектива в лицо Юрьеву говорили: "Если мы окажемся на фронте, то первую пулю пустим в Юрьева!" Такое могут сказать лишь люди, доведенные до отчаяния. Казалось, что после этого собрания мы больше не увидим Юрьева в оркестре. Однако решение было иным. "Своего" в обиду не дали, а большую часть оркестра – лучших, смелых людей – отправили на фронт. Среди них были упомянутый уже Виктор, Кнушевицкий, гобоист Константин Швечков (после войны – ответственный работник Внешторга), Кирилл Никончук, тоже гобоист (после войны – профессор Ленинградской консерватории), тубист Владимир Календа (после войны – артист оркестра Московской областной филармонии) и многие другие. Некоторые – увы! – не вернулись обратно.
Таким образом, "честь мундира" была восстановлена и "порядок" в оркестре наведен. Но Юрьева все же вскоре из коллектива убрали. На его место был назначен Г.Запорожец -нормальный и требовательный человек. Инспектором оркестра Московского военного округа, то есть нашим художественным руководителем, вместо Панфилова стал Кругов, впоследствии трагически погибший при нелепых обстоятельствах. Он открыл дверь еще двигающейся машины, проезжая снежный сугроб, дверь захлопнулась... и убила его.
Между тем коллектив наш был дружным: молодые уважительно относились к старшим. Отцы и дети служили и трудились вместе. Среди старших по возрасту был у нас кларнетист-виртуоз Алексей Тихонович Игнатенко, он носил пенсне, до войны работал в оркестре В, Кнушевицкого и фантастично исполнял на кларнете молдавские танцы. Мы ласково звали его Люля, он всегда был в хорошем настроении, острил и веселил всех.
Однажды я обратился к ребятам с просьбой помочь композитору В.Пескину вернуть рояль, который вывез из его квартиры бывший ученик, певец Саша Конев, которому Пескин, уезжая в эвакуацию, доверил ключи. Конев инструмент не отдавал и скрывал его у себя дома. На просьбу живо откликнулись мои молодые коллеги. Не отстал от нас и Люля в пенсне.
Как-то ранним утром человек десять на грузовике (не помню, где мы достали машину) собрались ехать за роялем. 11-м стал Владимир Антушевский из Днепропетровской филармонии, валторнист от Бога, возвращавшийся под утро в казарму. 12-м был Алик Швиндлерман – наш соло– флейтист.
В 8 утра в квартиру Конева энергично вошел отряд вооруженных людей. Хозяин еще не успел одеться. "Мы за роялем Пескина приехали". Он опешил от неожиданности: "Вот инструмент". Мы, не говоря ни слова, без приспособлений, подняли рояль на руки, стащили его вниз и затем водрузили Пески ну на 2-й этаж известного в Москве дома бывшего Российского страхового общества, что на Сретенском бульваре.
Практика грузчиков, правда, у нас уже была. Мы ее приобрели, когда 17 октября 1941 года немцы прорвались к Москве, Был срочно эвакуирован штаб Московского военного округа, и мы грузили сейфы ничуть не легче концертного рояля Пескина.
Дружба и связи музыкантов военных времен оркестра МВО сохранились на долгие годы.
Интересно, что после войны мы неоднократно встречались с Юрьевым. Он частенько приходил в Центральный дом работников искусств на собрания творческого объединения музыкантов-духовиков, которое я возглавлял, и вел себя вполне достойно, как равный среди равных, приветливый и улыбчивый. И куда девались его злобно перекошенные губы? Общаясь с ним, я все думал о том, как странно порой обстоятельства деформируют личность. Для таких людей, как Юрьев, характерно умение приспосабливаться к среде обитания. И такие люди творили нашу историю – будто бы радея о добре, несли другим зло...
К Новому, 1942, году и после него работать стало немного веселее. Немцев погнали от Москвы. Мы играли на аэродромах при награждениях героев-летчиков, в лесах и освобожденных городах, где стояли на переформировании части, при вручении им гвардейских знамен. В освобожденный и совершенно разрушенный город Калинин (теперь Тверь) поехали играть для поднятия духа местных жителей, возвращавшихся из лесов. И нипочем для нас, музыкантов, были трескучие морозы лютой зимы 1941-1942 года, а ехал и-то в кузовах открытых грузовиков.
Конечно, трудно говорить о профессиональной форме музыканта, о каких-то серьезных занятиях во время военной службы. Хорошо, если перед игрой едва успевали разогреть мундштук и инструмент. Такой режим растраты исполнительских ресурсов, без их восстановления и накопления, вел к неизбежному снижению уровня мастерства, огрублению исполнительского аппарата, потере тонких ощущений губных мышц. Как результат этого, утрачивалась легкость звучания и многое другое.
Для восстановления игровых навыков требовались регулярные занятия и, естественно, отдохнувший организм. Ни того, ни другого у нас не было.
В поисках спасительного метода восстановления аппарата люди бросались на нечто сенсационное. В армейских оркестрах легко рождались легенды о том, что "кто-то когда-то умел делать такое, благодаря системе..." и начиналось что-то вроде эпидемии. Все "заболевали" новой системой занятий. Попадались на такое и мы. Я слышал о системе бес прижимной игры и смеялся, когда видел, как трубачи старались извлекать верхние звуки ("до" третьей октавы), не прикасаясь руками к инструменту, лежащему на скользкой поверхности крышки рояля. Нет бесприжимной игры! Есть легкая игра, но для извлечения любого звука, верхнего или нижнего, должна существовать определенная степень напряжения мышц всего аппарата, особенно губ, языка, дыхания, И до сих пор отдельные студенты пробуют эту систему, теряют годы, а главное – не всегда удается после этого вернуть "пострадавшего" на нормальный уровень.
На этом я не попался тогда, но попался на другом – на системе занятий Щербинина. Владимир Арнольдович был очень влиятельным музыкантом, воспитавшим много квалифицированных тромбонистов. У него была система занятий и разыгрывания на тромбоне под названием "Стандарты", включающая "колеса", или "кольца" (не помню точное название). Эта система была рассчитана на многочасовые ежедневные тренировки. Они, безусловно, закаляли аппарат, развивали регистры, но выдерживали эту систему далеко не все тромбонисты, многие от нее страдали, "Стандарты" безуспешно старались передать трубачам. Вот и я поверил в спасительную силу этой системы.
Смысл упражнения "колесо", или "кольцо", состоял в следующем: надо было с самого нижнего звука (фа-диез малой октавы) по хроматическому звукоряду медленно, легато и пиано подняться на квинту вверх и так же, не отводя мундштук от губ, спуститься обратно вниз и начать новый круг, прибавляя сверху еще полтона, и вновь спуститься вниз. С каждым новым кругом добавляя по полтона, надо было стремиться расширить "колесо" до 2,5-3 октав, а затем аналогичным путем вернуться обратно.
На эти занятия уходили часы труда. Теперь я понимаю, что большей бессмыслицы и варварства невозможно было вообразить. Но тогда я начал "наворачивать круги". Через неделю у меня напрочь перестали извлекаться вообще какие бы то ни было звуки – ни верхние, ни нижние, ни средние, ни громкие, ни тихие.
В отчаянии я обратился к Владимиру Арнольдовичу, с которым много лет нас связывали дружеские отношения. Он сказал: "Приходи, поможем. А эти (он имел в виду свои "колеса") брось играть".
Около месяца я не прикасался к инструменту. Еще больше времени ушло на постепенное приближение своим обычным методом к прежней игровой форме.
И в наше время есть подобные работы, рекламирующие развитие сверхвозможностей игры на трубе. Они отражают, в основном, крайний субъективизм их авторов и рассчитаны на ищущих легкого пути. А легких путей в нашей практике не бывает. Строить целиком свои занятия на этих системах опасно и чревато непредвиденными отрицательными результатами. Лишь отдельные страницы и мысли из этих работ могут быть испробованы индивидуально.
Моя третья служба в армии продолжалась до конца войны и дальше, до парада Победы 24 июля 1945 года. За армейские годы я дослужился до звания старшего сержанта. Еще будучи на службе, я выдержал конкурс в оркестр Большого театра и в декабре 1945 года начал работу в прославленном коллективе, которая продолжалась без малого сорок лет – как один день...
Печальным итогом войны для нашей семьи были две гибели моих младших братьев – Левы и Абраши. Лев, 1923 года рождения, пои]ел в армию добровольцем. Ему еще не было 18 лет. Через три месяца он в звании лейтенанта был отправлен на фронт в Белоруссию, и где-то под Смоленском их часть попала в окружение. Оттуда брат выбрался, к счастью, легко раненным. В 1942 году их армию направили под Орел, где вскоре развернулась ожесточенная битва на Орловско-Курской дуге, после которой немцы устремились к Сталинграду. Когда эшелон, в котором ехал Лева, остановился под Москвой в районе станции Бутово, он сумел мне дать знать, что мы можем повидаться. Я немедленно помчался на встречу с братом. Он был в полевой форме, лицо его, огрубевшее от мороза и ветра, было совсем другим – не светлым, мальчишеским, улыбчивым, каким я его видел всего полгода тому назад. Раненный в бедро, он хромал, взгляд его был суровым и озабоченным. Мы стояли на лесной опушке скрытые деревьями от железной дороги, разговаривали и поглядывали на часы. Я не мог допустить, чтобы он уехал от меня в неизвестность, готов был спрятать его, моего ребенка, в своем сердце. Но не мог же он стать дезертиром, хотя по закону должен был быть призван в армию годом позже. Мы попрощались. Я предчувствовал, что больше его не увижу, но не показал ему моих слез. Я и теперь плачу, описывая нашу последнюю встречу. В бою Леву в самое сердце поразила пуля снайпера. Это случилось под Орлом. Его фронтовые товарищи прислали нам комсомольский билет и фотографии, простреленные адской пулей. Похоронили его в безымянной братской могиле. Ему шел лишь 19-й год...
Младший брат мой, Абраша, 1925 года рождения, был одаренным музыкантом. Он тоже учился в ЦМШ у профессора М.И.Табакова и увлекался, композицией. По общеобразовательным предметам он учился в одной группе с Леонидом Коганом и Юлием Ситковецким. Несмотря на детский возраст – ему было 16 лет – Абраша начал играть в оркестре театра Моссовета, Осенью 1941 года вместе с театром эвакуировался в Среднюю Азию, не помню, то ли в Чимкент, то ли в Ташкент. Когда в 1943 году ему пришло время призываться в армию, я попросил начальника нашего оркестра Г.Запорожца взять его к нам. Получив согласие, написал Абраше, чтобы он ехал в Москву. Но что значит во время войны молодому человеку призывного возраста проехать полстраны с юга на север? Из города Чкалова, теперь, кажется, Оренбург, он прислал телеграмму: "Поезда высадили, пришли деньги". Послал до востребования денег сколько имел, но ответа от него не получил. По моей просьбе мой товарищ по оркестру, скрипач Самуил Кит, ехавший в командировку через Чкалов, интересовался судьбой моего брата в военной комендатуре, на вокзале... Остается только предположить, что его приняли за дезертира, скрывающегося от военной службы, и отправили на фронт в составе штрафного батальона, как это обычно делали, где он был сразу же убит. Абраша не был пригоден к строевой службе – он был близоруким и носил очки со сложными линзами.
Мы все, особенно мама, всю жизнь ждали его. Искали, наводили справки в армейских архивах, но нам неизменно отвечали: "Считается без вести пропавшим".
Абраша играл на трубе "Циммерман", которая была собственностью консерватории. После окончания войны, когда консерватория вернулась из Саратова в Москву, с отца, как гаранта несовершеннолетнего учащегося, потребовали возместить стоимость трубы погибшего сына...








