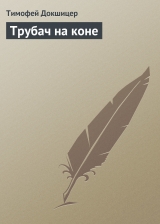
Текст книги "Трубач на коне"
Автор книги: Тимофей Докшицер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Моя семья
Еще до поступления в Большой театр я женился на девушке, с которой познакомился за гол до начала войны. Фаина Семеновна Хавкша тоже была студенткой училища Гнесиных.
Обладательница звонкого сопрано, она выступала в самодеятельных концертах города Кольчуги на Ивановской области и оттуда была рекомендована в училище как перспективная певица. С начального периода обучения ей стали "ставить" голос, менять дыхание и заучили так, что она вовсе потеряла былую уверенность и стала бояться выходить на сцену. С началом войны занятия были прекращены. Фаину эвакуировали в Горький. Я же остался служить в Москве. Более трех лет мы были разлучены, но почти ежедневно писали друг другу письма. А когда в начале 1945 года Фаина вернулась в Москву, мы стали мужем и женой. Жилья у нас не было, ютились то у знакомых, то у моих родителей, одно время снимали угол в общей квартире. Когда мое положение в Большом театре укрепилось, нам предоставили крохотную комнатушку в театральном доме в Щепкинском переулке, что позади театра. Мы были счастливы.
4 сентября 1948 года у нас родился сын Сергей, Он оказался единственным ребенком. Фаина была очень преданным мне человеком, с необычайно тревожной натурой. Она окончила Московский институт иностранных языков, хорошо знала английский язык, успешно работала в школе. Но неуверенность в себе была чертой ее характера, ей все казалось, что она малоквалифицированный педагог. Часто болела – результат двух неудачных родов, и работу в школе пришлось оставить.
Наследственность Фаининой семьи была фатальной, словно весь их род был обречен на вымирание. Ее отец умер молодым, родной брат Яков не дожил до 59 лет. Его сын Борис умер в 40 лет, Фаина умерла в 49. Судьба продолжала косить род...
Мы захоронили урну с прахом Фаины на кладбище Московского крематория. На двухметровом гранитном камне был высечен глубокий рельеф с изображением склоненной женской головы.
Художником, создавшим этот образ, была известная московская керамистка Монна Яновна Рачгус. Общие заботы и общая работа над памятником постепенно сблизили нас, Мы еще много дней провели на могиле, пока не была закончена скульптура и не установлен памятник. Знакомство с талантливым художником незаметно переросло в привязанность, а спустя два года мы с Монной роженились.
Моя семья продол жал а быть мне главной опорой и поддержкой. У сына Сергея сложилась вполне счастливая семейная жизнь. Его жена Ирина родила дочку, которую назвали Анной.
Счастливые родители растили любимое чадо. Отец обожал дочь. Мы с Монной и Сергей с семьей вместе проводили летние месяцы в Портновской, на подмосковной даче, выстроенной в прибалтийском стиле по проекту Монны Яновны. Дедушка с бабушкой выгуливали и баловали внучку, которой на одиннадцатом году жизни неожиданно суждено было стать сиротой, а ее маме – вдовой. Теперь Ирина с Аннушкой уехали в Америку и по-прежнему вдвоем проживают в Нью– Йорке.
Моя вторая жена, Монна Яновна, литовка по происхождению, родилась и училась в России.
Как и я, она сформировалась как творческая личность на русской культуре. Окончила Московский институт прикладного и декоративного искусства и стала заниматься керамикой. До этого мечтала стать актрисой и даже год проучилась в студии Ю.Завадского.
Мы с женой стали друзьями и по искусству, наши творческие профессии в чем-то привели к взаимовлиянию. В керамике Монны появились музыкальные сюжеты (она занималась керамикой художественной, а не бытовой): "Полифония Баха" с изображением элементов органа, "Летящая скрипка", темы каминных и настенных часов, которые были созданы на сюжеты "Пиковой дамы", "Кармен", "Марии Стюарт", гоголевского "Портрета", триптих "Экология" в защиту природы и многое другое. А в моей музыке расширились представления о художественных образах, навеянные полотнами художников от античных времен до модернизма, Монна владела богатой библиотекой книг и художественных альбомов, которые вот уже около 25 лет нашей совместной жизни я изучаю и духовно подпитываюсь.
Персональные выставки керамики Монны Рачгус, члена Союза художников России, проходившие в Москве и в Вильнюсе, сопровождались звучанием моих записей музыки Баха, Листа, Шопена, Рихарда Штрауса, Равеля, Дебюсси, Чайковского, Рахманинова... Монна – весьма эрудированный человек. Кроме того, она неравнодушна к социальной стороне жизни России, к политике, экологии. Участь "врага народа", постигшая ее отца в годы сталинских репрессий, тоже наложила отпечаток на ее восприятие нашей действительности.
Вот уже долгие годы мы с Монной всегда вместе в трудные и радостные минуты жизни.
Вместе разъезжаем по странам, где я в последнее время провожу в основном курсы мастерства.
Монна была со мной и в Роттердаме, когда я перенес тяжелейшую операцию на сердце. А шесть лет спустя, когда она оказалась в больнице на операционном столе, я вернулся из Америки после выступления на Саммит Брасс (Sammit Brass) на 4 дня раньше, чтобы перевезти ее домой. Но несколько дней спустя сам неожиданно свалился и попал в кардиологическое отделение. Монна, еще совсем слабая, опять ухаживала за мной.
Так, вдалеке от родины России, одни, мы и теперь поддерживаем друг друга и ни одного дня не проводим праздно. Заняты творческим трудом соответственно нашим возможностям. Время проводим в основном за письменным столом и на природе: я пишу или играю, Монна пишет, рисует или лепит.
Учеба в институте Гнеснных
Когда на конкурсе в Большой театр я играл «Концертное аллегро» Пескина, это сочинение не было известно Табакову. Кто-то из коллег Табакова – кажется, это был Ян Францевич Шуберт, фаготист Большого театра и преподаватель на кафедре института имени Гнесиных, созданной Табаковым, – поздравил Михаила Иннокентьевича с успехом его ученика, который на конкурсе в Большой театр играл новое, интересное сочинение композитора Пескина. Михаил Иннокентьевич, конечно, порадовался моему успеху, но сказал, что испытал неловкость (буквально это прозвучало: «Вынужден был хлопать глазами»), не зная, о каком произведении идет речь. Тогда я спросил, нет ли у него желания послушать «Концертное аллегро»? Он замялся, но ответил: "Хорошо.
Приходите".
Я уговорил Владимира Ананьевича пойти в консерваторию (Табаков тогда преподавал в консерватории и в институте) и сыграть Табакову незнакомое ему произведение. Мы пришли, долго ждали у дверей 26-го класса, где всегда занимался Табаков, но он не принял нас. На этот раз я испытал неловкость перед Пескиным и был оскорблен вместе с ним. Как видно, происшествие на заключительном концерте Всесоюзного конкурса не было забыто моим профессором. Почти год после этого инцидента я не ходил к Табакову.
Это было тяжело. Страдали мы оба. Тогда, помню, мудрую инициативу проявил мой товарищ Илья Границкий. В 1944 году он с первым приемом был принят в только открывшийся институт имени Гнесиных, в класс Михаила Иннокентьевича Табакова. Илья знал о сложившейся ситуации и , понимая, что мне нужен Табаков и я могу быть полезен ему (в годы войны, когда Табаков находился в эвакуации в Саратове, я по просьбе Елены Фабиановны Гнесиной занимался с его учениками, оставшимися в Москве), Илья постепенно подготовил Табакова к моему приходу.
В назначенный день я смиренно вошел, в класс и сел у двери. Михаил Иннокентьевич как ни в чем не бывало обратился ко мне и назначил время для занятий, В дальнейшем я стал вновь заниматься в его классе, всячески помогал ему, а затем стал его преемником в институте, где проработал 35 лет. Ничто больше не омрачало наших отношений до самой кончины Михаила Иннокентьевича.
Снова я совмещал учебу с работой. Так было всегда, начиная с моей службы воспитанником в кавалерии. Несмотря на работу в Большом театре, в учебе я не отставал, напротив, работал с опережением программы. Как участнику войны и работнику Большого театра мне предложили учиться по индивидуальной программе, и я закончил институт за четыре года вместо пяти (1946– 1950 гг.) да еще получил диплом с отличием.
В период учебы в институте я участвовал * международном конкурсе духовиков, который состоялся в 1947 году а Праге, во время I Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участвовали в нем кларнетисты и трубачи. Впервые наши духовики должны были представить советскую исполнительскую школу за рубежом и сравнить уровень мастерства у нас и в других странах. От Советского Союза участвовали в конкурсе 2 кларнетиста – В.Петров и И.Рогинский и 2 трубача – И. Павлов и я. "Первая ласточка" оказалась очень удачной: все мы стали лауреатами этого международного конкурса, заняв первые и вторые места.
Трубач на пьедестале дирижера
После окончания института, когда курс обучения духовика был завершен, я почувствовал, что не удовлетворен объемом полученных знаний. Мне казалось, что я сошел с поезда, не поехав до цели и полпути. Продолжать совершенствоваться в аспирантуре, куда я сдал экзамены, мне не разрешили под предлогом незаконности совмещения работы в Большом театре с учебой в аспирантуре, которая тоже считалась работой. Это был один из парадоксов нашей системы. К счастью, аналогичное положение не помешало моему коллеге по Большому театру кларнетисту Виктору Петрову в том же году приказом зам. министра культуры Калошина быть зачисленным в аспирантуру. Время в стране было трудное – 1951 год, разгар борьбы с космополитизмом, формализмом в языкознании, биологической науке. В следующем году возникнет гнусное «дело врачей», и героиня этого события – рядовая медсестра Лидия Тимашук, «разоблачившая» группу «наемных убийц», а на самом деле – выдающихся деятелей медицины, получит за свой «высокий подвиг» орден Ленина (после смерти Сталина ей спешно «устроили» автомобильную аварию)...
Я решил поступить на дирижерско-симфоническое отделение Московской консерватории.
Поступил со второго захода – после первой неудачной попытки год изучал гармонию, чтение партитур, совершенствовал игру на фортепиано.
Полученные на дирижерском отделении знания сыграли неоценимую роль в моей деятельности исполнителя-трубача. За годы учебы в консерватории я окунулся в глубины музыкальных наук, что расширило горизонты моих знаний и мое музыкальное мышление. Я с благодарностью вспоминаю своих учителей: Лео Морицевича Гинзбурга, Кирилла Петровича Кондрашина, Николая Петровича Ракова, преподававшего инструментовку, Илью Романовича Клячко, педагога по фортепиано, Сергея Васильевича Евсеева – он вел полифонию.
Дирижерскому делу я отдал более 10 лет своей жизни. Из них три года в Большом театре прошли в общении с такими музыкантами, как Александр Шамильевич Мелик-Пашаев, Юрий Федорович Файер, Борис Эммануилоеич Хайкин. Я был их ассистентом, дирижируя в очередь "Травиатой", "Вертером", "Фаустом", "Банк-Баном", балетом "Лауренсия".
Сейчас, оглядываясь назад, вспоминая, как увлеченно и настойчиво бился я за право продолжать свое образование на дирижерском отделении, я с большей ясностью могу оценить степень заблуждения или правоты своего решения тех лет.
Моим первым учителем и вдохновителем на дирижерском поприще был Кирилл Петрович Кондрашин. Это началось в тот год, когда дверь консерватории передо мной была закрыта, но дверь класса Кондрашина, начавшего тогда работать в консерватории, распахнулась. Я посещал уроки, присматривался, прислушивался, получал небольшие задания и готовился к повторному экзамену.
С Кириллом Петровичем я сотрудничал со дня поступления в Большой театр. Сыграл с ним много спектаклей, был участником созданного им молодежного оркестра, неоднократно гастроли– ровал за рубежом с оркестром Московской филармонии, который он возглавил после ухода из Большого театра.
При поступлении в консерваторию меня определили в класс профессора Лео Морицевича Гинзбурга. Параллельно в класс А.В.Гаука был зачислен Альгис Жюрайтис. Евгений Светланов был уже на втором курсе, а Геннадий Рождественский заканчивал консерваторию в классе своего отца, Николая Павловича Аносова.
До этого мне пришлось встречаться с Лео Морицевичем в творческой рабочей обстановке, когда он дирижировал программу с молодежным оркестром. Этот коллектив был создан в 1949 году специально для участия в фестивале молодежи и студентов в Будапеште. Оркестр в основном состоял из молодых музыкантов Большого театра. На фестивале мы играли симфонические программы и балетные спектакли Большого театра. Коллектив просуществовал несколько лет, участвовал в абонементных концертах Московской филармонии, сделал записи на радио.
С молодежным оркестром состоялся дирижерский дебют Святослава Рихтера. Он дирижировал Симфонией-концертом для виолончели с оркестром С.Прокофьева, а солистом был Мстислав Ростропович. Дирижировали этим оркестром и Давид Федорович Ойстрах, и Геннадий Рождественский.
Возвращаясь к программе, которую готовил с молодежным оркестром Лео Морицевич, хочу отметить его умную, кропотливую и тонкую работу над 4-й симфонией Брамса. Музыку я эту знал и считал – как и теперь считаю – очень сложной для дирижера, особенно в построении цельности формы и темповых соотношений.
Занятия в классе Л. М.Гинзбурга были необычными и не только трудными, но я бы сказал – неудобными. Мы должны были дирижировать произведения наизусть и без какого бы то ни было озвучивания (даже петь было запрещено), в немой тишине, лишь воображая звучание в себе и показывая его жестами. Этот метод, видимо, практикуемый в Германии, где Лео Морицевич сам обучался в 1920-е годы, требовал колоссальной концентрации внимания и глубокого знания материала.
На уроках, в мертвой тишине, вдруг раздавался чуть повышенный, раздраженный голос Лео Морицевича: "Ошибка! Пропустили триоль у гобоя, и он собьет вам весь оркестр. Повторяем..." Этим методом я был не на шутку озадачен. Правда, не я один. Поступивший со мной А .Джумахматов, теперь ведущий дирижер в Киргизии, тоже недоумевал: "Сколько же лет потребуется для освоения таким методом репертуара? Всей жизни не хватит".
К счастью, это был только начальный этап педагогической системы Лео Морицевича, задача которого заключалась в "настройке" памяти, слуха, воли и подготовке к сложной профессии дирижера. Дальше пошло легче: мы дирижировали в классе по нотам, а оркестр нам заменяли два пианиста.
Уже в первый год обучения состоялся мой дебют. Я дирижировал с оркестром и певцами оперной студии заключительную сцену из "Онегина". Затем исполнил только что появившуюся в печати неизвестную доселе 21-ю симфонию Овсяннико-Куликовского. Тогда я обратил внимание на некое несоответствие в партии труб: во второй части симфонии они играли терцовую мелодию на хроматическом звукоряде; а ведь в 1810 году (именно этим годом датируется написание симфонии) хроматической трубы еще не существовало, она была изобретена лишь к 30-м годам прошлого века. Но детективную историю творчества Овсяннико-Куликовского я расскажу позже.
Дальше я изучал симфонии классиков. Помню, как ошеломил меня своей простотой гениальный речитатив из финала 1-й симфонии Бетховена, особенно когда я услышал ее в исполнении австрийского дирижера И.Крипса и немецкого Г.Абендрота, гастролировавших тогда в Москве. Мне до сих пор кажется, что гений Бетховена можно определить по этой детали, построенной всего-навсего на звуках До-мажорной гаммы в одну октаву. Может быть, такая моя реакция была наивной, потому что ничего подобного в своей трубной литературе я не встречал, но и сейчас меня волнует этот эпизод, Лео Морицевич был эрудитом. Он хорошо знал музыкальную литературу и различные дирижерские концепции ее исполнения. Нередко из его уст можно было услышать: "А Тосканини (или Стоковский, или Мравинский) делал этот эпизод так-то..." Его педагогический метод был ясно сформирован и отточен, однако он никогда не стремился излагать его студентам и "разжевывать" всякие частности. На уроках порой казалось, что он недоговаривает, что-то таит в себе, и это беспокоило учеников. Но Гинзбург иногда мог скупо, одним лишь словом навести ученика на какую-то мысль и тем самым помочь ему открыть целый пласт понятий. Со временем я понял мудрость этого метода. Лео Морицевич считал, что мысль, истина, рожденная или открытая самим учеником, во много раз ценнее и глубже остается в его памяти, чем подсказанная со стороны, чужая – многократно повторенная в педагогическом процессе, а потому и не требующая предельного внимания. Легко доставшись, она легко и исчезает из памяти.
Перед моим дипломным концертом я уже имел некоторый опыт выступлений с оркестром в Москве и других городах. А программы строил так, чтобы можно было часть произведений дирижировать, а часть играть на трубе в сопровождении оркестра.
Несмотря на то, что объем дирижерской нагрузки с годами возрастая, я все же ежедневно, перед тем как открыть партитуру, занимался на трубе. Это уже стало моей физиологической потребностью – не говоря о том, что, оставаясь трубачом, я обязан был поддерживать свою игровую форму. Ненормальность такого положения рано или поздно должна была привести меня к внутреннему конфликту, заставить задать вопрос самому себе: "Кто я? Какой профессии должен посвятить себя безраздельно?" Итак, мой дипломный концерт состоялся в Большом зале Московской консерватории. Играл оркестр Большого театра – мои коллеги оказали мне великую честь. В программе – 6-я симфония Чайковского, Концерт для голоса с оркестром Р.Глиэра (изумительная колоратура Галина Олейниченко), увертюра Вебера "Оберон". Большой зал был полон, несмотря на дневной час.
Экзамен прошел удачно.
И опять же после окончания консерватории передо мной встал вопрос: "Кто я?!" В это время был объявлен конкурс в стажерскую группу дирижеров Большого театра. Меньше всего я думал о такой судьбе, а вернее, и думать себе не позволял стать дирижером Большого театра, не набравшись опыта. Но как же быть? Почти десять лет труда... Оставить все, уехать в провинцию и где-то начинать все сначала? После успешного конкурса Лео Морицевич сказал мне: "Вот теперь я не сомневаюсь в Вашей дирижерской карьере..." И тут мой профессор ошибся! Я не был дирижером по своей музыкантской природе и по данным своего характера. Да, я чувствую музыку, понимаю ее и могу воплотить на своем инстру– менте, но личностно (это слово часто произносил Лео Морицевич), а не через других людей.
Наверное, мне не дано было постичь таинства дирижерского искусства, которые заключены именно в этом – в передаче энергии ума и сердца другим людям, в умении своими мыслями, чувствами, настроениями воздействовать на них.
Может быть, истина в том, что личность дирижера скрывает в себе некие магические и гипнотические силы, которые отличают подлинного дирижера от красиво и правильно жестикулирующего музыканта. И если хорошие, даже выдающиеся исполнители, взявшись за палочку, показывают несостоятельность в дирижировании, то и среди дирижеров часто встречаются слабые музыканты.
Занимался дирижированием я самозабвенно, как на своем инструменте. К каждому спектаклю в Большом театре (операми дирижировал в филиале) готовился сам, проводил спевки с солистами, вводил новых исполнителей. Однако в процессе спектакля я редко чувствовал подлинно творческий ответ, идущий от артистов на сцене. Я старался, напрягался, страдал, но не мог получить то, что чувствовал сам. Может быть, причина заключалась в несовершенстве моего мастерства, молодости. Но не только в этом. Виновата была и оперная рутина. Спектакли шли годами, почти никогда no-настоящему не репетировались. В них укоренилось множество штампов: все всё знали и пели по инерции.
Как-то после спектакля "Травиата" я попросил зайти в дирижерскую комнату молодого хормейстера и спросил его: "Почему артисты хора не смотрят на руку, тормозят движение танца в первом акте?" Он ответил: "Прожектора рампы слепят, мешают смотреть".
А режиссер, ведущая спектакль, сказала: "Да они и не знают, кто дирижирует". Они бы знали, кто дирижирует, если бы за пультом стоял Голованов или Мелик-Пашаев! Была и еще одна причина, мешавшая мне. Речь идет о творческом компромиссе, заложенном в дирижерской профессии – одной из негативных ее сторон. Дирижеру никогда не хватает времени сделать не только все, что он хочет, но и то, что необходимо. И приходится часто надеяться на пресловутое "вечером будет". Об этом предупреждал меня Кирилл Петрович Кондрашин, который сам часто, неудовлетворенный, за неимением времени, объявлял конец репетиции.
Это как раз то, что несовместимо с творчеством музыканта-инструменталиста, прежде всего, солирующего артиста, для которого не существует ни физических, ни временных преград в процессе подготовки музыки к показу. Чего же можно добиться, если дирижируешь оперным спектаклем – сделанным кем-то и когда-то, пусть даже очень хорошо – без репетиции? После двадцатого-тридцатого спектакля меня стала тяготить дирижерская работа. Как-то в балете «Лауренсия» А.Крейна я заменил заболевшего Юрия Федоровича Фанера, потому что был его ассистентом при постановке. Но одно дело прокорректировать ноты и провести репетицию с оркестром, а другое – провести спектакль с балетом. Сколько я ни изучал в балетном классе хореографию, на спектакле никак не мог понять, где, когда и у кого бывает злополучный «раз». У одних он бывал наверху, то есть в полете, у других – в начале прыжка. В результате я напортил, сколько мог, моим любимым балетным девочкам и ребятам, искусством которых любовался и восхищался со своего оркестрового места все годы работы в театре.
Спектакль прошел благополучно. Как говорят, "закончили все вместе". Но напряжение было огромным и у меня, и у моих коллег, артистов оркестра. В одном месте я в ожидании движения балерины долго держал руку на весу. В этот момент не выдержали нервы у концертмейстера вторых скрипок Николая Георгиевича Панюшкина, и он за четверть до вступления всего оркестра один; что называется, "рванул" на скрипке аккорд. Не знаю, как я не свалился с пульта. Потом мы извинялись друг перед другом.
Бывший тогда заместителем директора театра по творческим вопросам Сергей Владимирович Шашкин предложил мне дирижировать этот спектакль еще. Но я поблагодарил и решительно отказался, вполне "удовлетворенный" дебютом.
В те годы в театре были заведены "контрольные" книги. Дирижер записывал в книгу свое мнение о том, как прошел спектакль, концертмейстеры оркестра – как провел спектакль дирижер.
Конечно, всегда отмечали "вдохновение маэстро", а ведущий режиссер вписывал замечания к постановочной части. Я знал, что дирижеры не всегда писали и давали оценки, а иногда просто расписывались. И я порой так делал, не задумываясь о том, что в этих книгах таится опасность ненароком задеть самолюбие артиста. А это область тонкая – можно и не заметить, как обидишь человека.
Однажды так и вышло. Партию Виолетты в моих спектаклях часто пела Глафира Деомидова – чудная певица, милый, улыбчивый) человек. Глаша была безотказным работником, часто заменяла заболевших, даже репетировала вместо них. А на свои партии, случалось, приходила утомленная, с осевшим голосом. Я решил, ее защитить и свою запись в книге начал так: "Деомидова спектакль пела не лучшим образом...", и дальше: "Репертуарную часть прошу не назначать солистку Деомидову на репетиции в день исполнения ею заглавной партии в опере "Травиата", Вот так, вместо помощи и защиты, неосторожно сформулированной фразой "не лучшим образом..." обидел человека. Были слезы, объяснения, извинения и объятия...
Годы дирижерской стажировки в Большом театре подходили к концу. Надо было решать, что делать дальше. Для меня было ясно, что с трубой я не расстанусь. Мой друг Яков Гандель, мудрый человек, часто обсуждая со мной мои дела, говорил: "Лучше быть звездным трубачом, чем второстепенным дирижером".
А Мелик-Пашаев: "Как же мы без Докшицера-трубача?" Да разве нужно было меня убеждать! Я никогда не считал себя настоящим дирижером, я только занимался этим делом.
Мой "кризис" разрешился сам по себе и неожиданно. В 1971 году закрыли филиал Большого театра, сократили около ста музыкантов и двух дирижеров – Г.Жемчужина и меня. И я почувствовал, что жизнь вернулась в нормальное русло.
Но я никогда не жалел, что столько времени отдал дирижерской деятельности. Пользу из этих занятий я извлек огромную, ведь я получил именно то, чего мне недоставало в моей испол– нительской работе. Мое мышление осталось дирижерским – в этом мой профессор Лео Морицевич не ошибся! Я никогда не мог ограничиваться изучением партий трубы при знакомстве с новой музыкой, мне нужна была партитура, чтобы видеть все, судить о музыке и исполнять ее. Я воспринимаю музыку не иначе, как в колорите оркестровых инструментов, хорошо знакомых мне, вижу мастерство дирижера и его слабости. Рефлекторно сам дергаюсь, когда дирижер теряет управление оркестром или тянется за ним.
Хотя я не занимаюсь дирижированием, дирижером себя ощущаю теперь больше, чем в те годы, когда проходил практику в театре. Дирижерское начало доминирует в моем сознании оркестрового исполнителя, концертанта, преподавателя, аранжировщика. Это помогло мне в дальнейшем развивать исполнительскую сторону моей деятельности трубача.
Итак, после 25 лет учебы наступила в полном смысле музыкальная зрелость. Для меня не было проблемы разобраться в музыке по партитуре, клавиру, сделать инструментовку, транс– крипцию. Уже другими глазами я смотрел на трубную литературу – меня удручала ее убогость. И поскольку главным в жизни оставалось все же исполнительство на трубе, то я активно взялся, за обновление репертуара. Одновременно начался период реализации накопленных знаний и передачи их другим.








