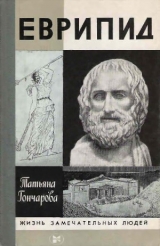
Текст книги "Еврипид"
Автор книги: Татьяна Гончарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
…Кто содеял – терпи!
Так нам Правда кричит, по заслугам платя,
Так научены мы
Трижды древним, проверенным словом.
Хотя прошло уже около четырех лет с тех пор, как Ареопаг был низведен до простого судилища по уголовным преступлениям, Эсхил все никак не мог с этим смириться. В трагедии «Эвмениды» поэт еще раз напомнил согражданам, при каких обстоятельствах был создан Ареопаг: вершить истинную справедливость, какую он проявил по велению самой Афины в отношении несчастного Ореста, убившего свою преступную мужеубийцу-мать и преследуемого за это свирепыми Эриниями – богинями мщения. Человек уходящего века, Эсхил связывал с нарушением закона, навеки положенного Афиной «своей державе», и порчу общественной нравственности, и обострение разногласий между эллинами. Суровому, религиозному, взыскательному к себе и к людям, ему тяжело было видеть, что «теперь для смертных богом стал успех, он выше стал, чем бог», что по мере роста могущества и богатства афинян все меньше и меньше ценятся нравственные достоинства человека и «от безбожья родятся наглость на свет и спесь». Постоянно взывая к Справедливости, Правде и Благочестию, он, потомок древних аттических царей, искал их не в домах богачей, а в бедных хижинах тех незаметных тружеников, на которых издревле и вечно зиждется каждое общество:
А правда светит и в домах,
Где стены черный дым коптит.
Она лишь с тем, кто сердцем чист.
Она бежит от золотого трона,
Грязь увидавши на руках владыки,
Она смеется над богатством чванным,
И все послушно замыслам ее…
И хотя, как сообщают античные авторы, «Орестея» произвела сильное впечатление на зрителей, многое в ней могло не понравиться набирающей силу рабовладельческой верхушке афинского демоса. По мере того как Афины превращались в крупнейший политический, торговый и культурный центр всей Эллады, по мере того как крепли и расширялись рабовладельческие отношения, вытесняя изжившие себя традиционные хозяйственные связи и устои, формировалась и новая мораль, отрицавшая такие, казавшиеся теперь обветшалыми добродетели предков, как умеренность, простота жизни, честность в делах, патриархальная преданность старозаветным обычаям. Нелепым казалось осуждение богатства теперь, когда товары и золото стекались в Афины чуть ли не со всех концов эллинского мира, и в театре Диониса было уже немало таких, которые имели все основания принять на свой счет презрительные выпады Эсхила, продолжавшего мерить жизнь вообще и каждого из своих соотечественников навсегда уходящими в прошлое нравственными мерилами марафонского времени:
Кто спеси полон, кто в дом добро,
О всякой мере забыв, несет,
Тем страшен Арес, покровитель мщенья,
Богатств несметных не надо нам —
Нужды бы не знать и сберечь без бед
Достаток скромный, покой душевный.
Никаким изобильем
Не откупится смертный,
Если правду великую
Попирает ногами.
Многим, особенно молодым, вольномыслящим и жаждущим новизны, могли показаться возмутительными поучения уже отжившего свое старца, его сомнения в пользе рационализма и убеждение в благой необходимости страдания и страха:
Иногда ко благу – страх,
Пусть же ревностным царем
Он блюдет престол души,
Разумению уча
Через горе.
Если сгинет в сердце страх,
То найдется ли народ
И найдется ль человек,
Чтобы чтил святую Правду?
Выражением проспартанских настроений казались также призывы Эсхила к миру и к прекращению раздоров между греками. И поэтому неудивительно, что недоброжелательство по отношению к нему все росло. Однажды во время представления его даже хотели побить камнями, и он вынужден был искать защиты у жертвенника Диониса. По-видимому, вскоре после постановки «Орестеи» против него был возбужден судебный процесс: Эсхила обвиняли в том, что он показал в одной из своих трагедий какие-то священнодействия, связанные с элевсинскими мистериями. К участию в этих мистериях допускались только посвященные, и разглашение их считалось преступлением. Принадлежащий к одному из древнейших родов Элевсина, Эсхил вполне мог быть причастен к этим таинствам, и, видимо, что-то из них нашло отражение в его творчестве, поскольку в суде он оправдывался незнанием запрета говорить о мистериях.
Гелиасты (судьи) были настроены непримиримо, и неизвестно, чем бы окончился этот процесс для шестидесятипятилетнего поэта, создателя более восьмидесяти трагедий и сатировских драм, если бы не его брат Аминий по прозвищу Кинегир, потерявший руку в Саламинском сражении. Он явился в суд и, протягивая обрубок с застарелыми страшными шрамами, в гневе напомнил гелиастам о том, как четверть века назад эвпатриды, в том числе и он со своим братом Эсхилом, не щадили себя в борьбе с варварами. Поэт был оправдан, но, оскорбленный, навсегда покинул Афины и уехал в Сицилию, где и умер два года спустя.
С его отъездом в театре Диониса на долгие годы воцарился Софокл, герои которого жили и действовали в соответствии с исконными законами человеческого бытия, твердо веря в его конечную гармонию. Убеждение Софокла в высшем смысле всего сущего было убеждением спокойного, жизнелюбивого человека, пребывающего в ладу с самим собой и другими людьми, преданного сторонника демократии, которую он считал идеалом общественного устройства. Да и смотреть его трагедии, написанные более простым, чем у Эсхила, языком, было интереснее: Софокл любил наряжать своих героев в пышные костюмы, ввел декорации – красочные полотна с изображением царских дворцов, морских или сельских пейзажей. Для двадцатитрехлетнего Еврипида трагедии Эсхила, как бы ни восставала его все отрицавшая натура против старозаветности певца Саламинского сражения, были незаменимой школой художественного мастерства и примером неподкупного служения Мельпомене. Безусловно, на него не могла не повлиять, хотя бы опосредованно, и сладкозвучная поэзия Софокла, но возникшее вскоре между ними и длившееся потом долгие годы соперничество помешало сыну Мнесарха оценить вполне по достоинству величие своего собрата по сцене.
В эти годы и Еврипид с его дерзким умом, взыскующим вечных тайн бытия, с его пылкой душой, обуреваемой молодыми страстями, начинает пробовать свои силы в искусстве трагедии. Он стремится излить в стихах свое восприятие мира – огромного, свежего, солнечного, полного звуков, красок и запахов весеннего мира двадцатичетырехлетнего, щедро одаренного человека, еще только вступающего в долгий бой с жизнью и преисполненного решимости выиграть этот бой. Отвагой, энергией, дерзостью была проникнута, как доносят до нас античные авторы, одна из его самых ранних трагедий – «Рес», написанная, возможно, под впечатлением похода во Фракию. И уже в этом, вероятно, еще несовершенном произведении был виден почерк великого будущего трагика, те характерные образы и ситуации, которые пройдут потом через все его творчество: последняя сцена «Реса» – застывшие в молчании солдаты, и лишь одинокая мать безутешно плачет над телом убитого сына…
Подобно своим предшественникам, он черпал сюжеты для трагедий из эпических поэм, сложенных за несколько веков до него, и особенно из «Киприй», где излагалась предыстория Троянской войны, события из жизни царских родов и героев Микенского времени. Для Еврипида, как и вообще для его современников, эти события были такой же неоспоримой реальностью, как недавняя война с персами, мифологические сюжеты принимались безусловно и не нуждались в доказательствах. Так, во время Пелопоннесской войны мифическое прошлое нередко служило обоснованием для всякого рода политических требований в настоящем. Но если для Эсхила и Софокла древние предания являлись прежде всего подтверждением того, как действуют и действовали всегда изначале заданные законы бытия, то для Еврипида с его чуткой душой, с обостренным восприятием чужого страдания этот мифический мир был огромным сонмищем ищущих, борющихся и страдающих людей, пусть живших давным-давно, но все равно мало отличающихся от его современников и от него самого. Принято говорить, что Еврипид наполнял современным ему содержанием традиционные сюжеты и образы, но вернее будет сказать, что в его представлении душа человеческая с ее звездными взлетами и бездонными падениями была всегда одной и той же, неизменной от сотворения мира. Ему хотелось постигнуть те основные причины, которые движут людьми в том или ином случае, раскрыть многообразие их характеров, душевных порывов и чувств. Стремясь донести до зрителей основную идею трагедии, он нередко весьма произвольно изменял традиционный сюжет, вводя в него новые мотивы и образы, соответствующие его творческому замыслу. Столь же свободен он был и в языке, не стесняясь простых, порой даже простонародных выражений, что казалось приверженцам старинных норм в театральном искусстве вульгарным и недостойным высокой поэзии.
Пройдет много лет, и Еврипид действительно явит себя «философом сцены», достойным последователем великих своих учителей, но пока, по крайней мере четверть века, основной, главной темой его трагедий будет любовь, которая казалась ему более важной, чем политика и война. Представляется возможным говорить о том, что на протяжении всей долгой жизни поэта его высокий, жаждущий познания ум вел нескончаемый мучительный спор с его пылким сердцем, созданным для всепоглощающих увлечений, открытым, как и у Сапфо, его бессмертной наставницы в поэзии, всей красоте вечносущего мира и всей глубине людского страдания. Этот спор остался неразрешенным, и в этом была, по-видимому, основная причина того, что, наделенный богами столь многим, сын Мнесарха никогда не был, в сущности, счастлив.
Считается, что свою первую трагедию, «Дочери Пелия», Еврипид поставил в 456–455 годах, в возрасте двадцати четырех – двадцати пяти лет. В этой трагедии, содержание которой известно лишь в пересказе античных авторов, он, которого всегда привлекало все необычное, романтическое, связанное с какими-то дальними землями и народами, обратился к преданию о плавании греков на корабле «Арго» в далекую таинственную Колхиду. Дочь колхидского царя и внучка бога Гелиоса волшебница Медея помогает грекам овладеть золотым руном, за которым они и приплыли, влюбившись в одного из этих искателей приключений, фессалийца Ясона. Медея, независимая, страстная, решительная и жестокая (так непохожая на нежных и кротких афинянок, покорно несущих свою судьбу и исполняющих мужнину волю), причастная к магическим тайнам, поистине отпрыск великого Солнца, спасает возлюбленного ценой предательства отца и убийства собственного брата, и уплывает на «Арго» навстречу неизвестности, навсегда порвав все связи со своим прежним миром.
Они прибывают в Фессалию, где дядя Ясона Пелий, воспользовавшись отсутствием законного властителя, воцарился в стране и был не слишком обрадован возвращением аргонавтов. Подозрительная всем, окруженная нескрываемой враждебностью родственников мужа, Медея оказывается в хитросплетении интриг: дочери Пелия делают все возможное для того, чтоб Ясон отвернул свое сердце от колхидской царевны, «своей варварской награды». Однако оскорбленная колебаниями и слабостью мужа, по существу, его предательством, внучка Гелиоса по-своему, жестоко и решительно, расправляется со своими врагами. Владея тайной превращать молодых в стариков и омолаживать старых, она предлагает дочерям Пелия испробовать свое волшебство на их отце – и тот умирает в страшных мучениях. Так, уже с первой своей трагедии Еврипид начинает страстную апологию гордого, обманутого сердца, не прощающего предательства в любви, а Медея, к образу которой он еще вернется впоследствии в одном из своих самых совершенных творений, открывает собой трагическую вереницу его героинь, для которых любовь значила больше, чем жизнь, и которые расплачивались собственной гибелью за страшную сладость праведной мести…
Между тем война разгоралась, однако среди братоубийственных распрей над Грецией вдруг опять нависла угроза вторжения персов – опасность, перед которой на время утихли взаимные недовольства. Дело в том, что еще в 460 году в подчиненном персам Египте вспыхнуло восстание, и ливиец Инар, возглавивший его и изгнавший захватчиков из Нижнего Египта, обратился за помощью к Афинам. Двести афинских триер подошли к дельте Нила и, разогнав персидские корабли, осадили Мемфис.
Персы временно отступили. Однако спустя шесть лет, сосредоточив большие силы у берегов Египта, они снова начали наступление, в результате чего большая часть афинского войска и кораблей была уничтожена. Инар был взят в плен и распят, а греки, запертые на небольшом островке, сдались варварам только после восьмимесячной осады. Это был позор, огромная неудача, весть о которой тут же облетела всю Грецию. Все в ужасе ждали, что мидяне вот-вот вторгнутся в Элладу, и Перикл обратился к союзникам, убеждая их, что не время выяснять отношения, что надо крепить свои силы – силы морского союза двухсот городов – и для блага общего дела лучше перевезти общесоюзную казну с Делоса в Афины, что и было сделано в 454 году.
Время было тревожное, все афинские граждане, особенно молодые, могли каждый день получить приказ двинуться куда-нибудь в Беотию или же на Эгину, защищать интересы своего государства, как готов был защищать их и сын Мнесарха, убежденный в том, что за торжество идеалов народовластия, за великое право быть гражданином блистательнейшего из городов Ойкумены можно и должно пожертвовать всем, даже самой жизнью, как жертвовали ею на благо отчизны многие из его юных героев. Долгие годы он оставался одним из тех, чьи «мириады копий» множили славу Афин, но и в эти тяжелые годы затянувшейся на полвека войны он был верен своему главному призванию и предназначению – трагической поэзии. Он продолжал много читать, черпая из старинных эпических поэм сюжеты для задуманных произведений и наполняя их терпкой, трепещущей и горькой на вкус плотью своего сложного времени.
Глава 3
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
Поражение в Египте и угроза новой войны с персами заметно ослабили позиции демократов, в народном собрании сторонники олигархии требовали возвращения Кимона и призывали к миру со Спартой. Вернувшийся в 451 году из изгнания и избранный стратегом, Кимон без труда добился перемирия на пять лет. Он убеждал афинян навсегда прекратить вражду со спартанцами, повторяя, что в случае гибели Спарты Эллада станет хромой, а Афины потеряют напарника в единой упряжке. Затем Кимон и его сторонники убедили народное собрание снова послать двести триер к Кипру на помощь египтянам, во главе флота стал сам Кимон. Доблестный стратег выиграл несколько сражений у Кипра и осадил город Китий, однако здесь его настигла тяжелая болезнь и он скончался в 449 году. Повинуясь его последнему приказу, войскам в течение тридцати дней не сообщали о смерти полководца, и они продолжали громить персов на суше и на море.
Неожиданная смерть Кимона ввергла в растерянность сторонников-аристократов, и, воспользовавшись этим, Перикл поспешил заключить мир с персами, по которому Персия оставляла за собой Кипр, но отказывалась от малоазийских владений и предоставляла полную независимость греческим полисам. Возмущенные эвпатриды сочли этот мир, несмотря на его выгоду для Афин, прямой изменой общему делу «защиты Греции от варваров». Сторонники олигархического правления и мира со Спартой, во главе которых стал теперь зять Кимона Фукидид, сын Мелесия из Алопеки, начали упорную борьбу против Перикла, выступая против его предложений в народном собрании и способствуя срыву многих его начинаний. Так, они были против планов Перикла созвать общегреческий конгресс в Афинах, чтобы принять решение «о греческих храмах, сожженных варварами, о жертвах, которые следует принести за спасение Эллады по обету, данному богам, о безопасном для всех плавании по морю и о мире». Это собрание должно было привлечь на сторону Афин те города, которые еще не входили в Морской союз, и еще более укрепить влияние города Паллады в эллинском мире. Однако этому воспротивились спартанцы, и конгресс так и не состоялся. В народном собрании Фукидид постоянно выступал против Перикла. призывая его к умеренности во внешних притязаниях.
В это время Еврипид уже был женат. Он женился на некой Хириле, дочери актера Мнесилоха, с которым был дружен. Вероятно, это был брак уж если не по любви, то, по крайней мере, по увлечению, поскольку трудно предположить какой-то расчет, увидеть какую-то корысть в женитьбе на дочери простого актера. Вообще же брак для афинянина того времени был прежде всего сделкой которую будущий муж заключал с родителями невесты, оговаривая заранее все условия брака и развода. Обычно пятнадцатилетнюю девушку выдавали за тридцатилетнего мужчину, чтобы она рожала и воспитывала детей, вела хозяйство и надзирала за рабами. Единственным развлечением замужней женщины, помимо не столь уж частых праздничных процессий да посещения театра два раза в году, было ходить к соседкам в гости или устраивать званые трапезы для подруг. Мужья редко бывали дома, занятые делами, политикой и военными походами, а свой досуг они предпочитали проводить в обществе прелестных, образованных и дорогостоящих гетер. Афинские гетеры, умеющие прекрасно петь и танцевать, играть на музыкальных инструментах и декламировать стихи старинных лирических поэтов, были не просто содержанками, в их обществе мужчины находили то, чего не было дома у жен. Было немало гетер, поражавших своей красотой, вкусом и дарованиями, они служили моделью художникам и скульпторам, вокруг них собирались поэты, философы и политики. Что же касается замужних женщин, то чем богаче и знатней они были, тем однообразнее и скучнее была их жизнь, протекавшая главным образом в гинекее, и хотя, по свидетельству античных авторов, афинянки любили выставлять напоказ свою добродетель, они были невеселы и раздражительны от затаенных горестей.
Каковы бы ни были причины, побудившие Еврипида жениться на дочери Мнесилоха, брак этот, сгубивший, как, возможно, считал сам поэт, «надежду целой жизни», не был удачным. Недаром поэт постоянно сетовал в своих трагедиях на тяжесть брачных уз, на непоправимость ошибки неравного союза: «На все судьба, иной так счастлив в браке, другому беда с женой», «Жизнь скоротать легче людям, что брака чужды». Впрочем, дело тут было, вероятно, не только в сварливости, взбалмошности или же неверности Хирилы (афиняне сплетничали, что обманутые мужья трагедий Еврипида – это он сам, неоднократно обманутый своей женой). Если вообще афинские мужья были духовно весьма далеки от своих спутниц жизни, то что же говорить о сыне Мнесарха, ученике Анаксагора и служителе муз, который все свободное от воинских обязанностей время отдавал размышлениям, чтению и сочинительству и был к тому же наделен от природы отнюдь не кротким нравом, нетерпеливый, резкий и высокомерный…
Однако Хирила родила ему троих сыновей, и это «детских глаз сиянье, радость видеть нежный цвет детей» было, по-видимому, тем, что связывало несчастливых супругов еще долгие годы, несмотря на то, что развод был в Афинах делом нехитрым: в любой момент муж мог отослать жену к родителям или же к опекуну, возвратив приданое и заплатив полтора процента за каждый прожитый в браке месяц. И пожалуй, дети были единственной настоящей любовью неспокойного духом поэта, которого сограждане нередко упрекали в безнравственности, в проповеди свободной любви:
В бедах дети – это сила,
Дети в счастии – улыбка,
На войне они отчизне
И опора и спасенье…
Не давай ты мне богатства,
Царских зал раззолоченных!
Дай мне вырастить на славу,
Дай взлелеять мной рожденных.
Жизнь бездетных ненавистна:
Этой жизни не желай,
С самым скромным достояньем
В детях счастье для меня.
Его, довольно равнодушного, как оно и следовало ученику клазоменского мудреца, к жизненным благам лично для себя, постоянно тревожила забота о том, как «выходить нежных, откуда взять для них средства к жизни», забота о том, чтобы из его сыновей вышли порядочные, трудолюбивые, достойные люди. Убежденному рационалисту, поклоннику просвещения, Еврипиду так хотелось верить, что хорошее воспитание и образование сделают более правильной и разумной жизнь его сыновей, защитят их хоть немного от превратностей судьбы, когда его самого уже не будет:
Всю жизнь при нас – усвоенное с детства,
Воспитывайте тщательно детей.
Беспокойство о детях, по-видимому, постоянно снедало его, и поэтому он, видевший в детях высшее счастье жизни, восклицает порой, измученный этой тревогой, готовый уже отказаться от этой радости-муки:
Но если налетом вырвет
Из дома их демон смерти
И бросит в юдоль Аида,
Чем выкупить можно эту
Тяжелую рану и есть ли
Больнее печаль этой платы
За сладкое право рожденья?
Боль о детях, и не только о своих, но о всех детях вообще, беззащитных маленьких жертвах тех неотвратимых трагических обстоятельств, из которых так часто слагается жизнь, эта боль, как открытая рана, всю жизнь кровоточила в сердце поэта. Он, так отлично усвоивший, что жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь, что все возникло из огня и все в него возвратится, не мог понять одного: зачем эта щемящая нежность при виде крохотных милых существ, зачем эта короткая огромная радость в вечном странствии людской души из неизвестности в неизвестность?.. Именно мысль о детях, «сладостных этих растениях», делала особенно трагичным осознание краткости земного бытия, и это стало одним из постоянных мотивов поэзии Еврипида.
Впрочем, для беспокойства о будущем сыновей имелись и вполне конкретные причины: и Афины и Спарта снова готовились к войне, полные решимости отстоять как свой образ жизни, способ правления и торговые интересы, так и право главенствовать во всем греческом мире. И поскольку афинян повсюду поддерживали силы демократии, а спартанцев – приверженцы олигархии, то разгоравшаяся с новой силой межэллинская война неизбежно принимала характер гражданской.
Афиняне были сильнее на море со своим флотом из трехсот боевых триер, а спартанцы считались непревзойденными бойцами на суше. Кроме того, в афинской казне хранилось к этому времени несколько тысяч талантов, а у спартанцев вообще не было больших денег. Поэтому Перикл, видя неизбежность новых военных столкновений, убеждал афинян не бояться лакедемонян, значительно меньше, по его мнению, подготовленных к войне. В 449 году спартанцы предприняли новый поход в Фокиду, входящую в Афинский союз, их поддержали все враждебные афинянам силы в Беотии, после чего в народном собрании были вынуждены умолкнуть даже наиболее упорные сторонники компромисса со Спартой. Между тем союзные города все чаще обращались к спартанцам с жалобами на притеснения со стороны Афин и требовали помощи.
В 447 году, два года спустя, снова начали военные действия фиванцы, под знамена которых потянулись изгнанники-аристократы из других беотийских городов, и заняли города Херонею и Орхомен, где у власти находились демократы. По настоянию афинского стратега Толмида, в Беотию была отправлена тысяча гоплитов под его командованием, а также отряд союзников. В битве при Коронее афиняне потерпели поражение, часть их была убита, часть попала в плен, погиб и сам Толмид, а беотийские города создали новый, враждебный афинянам Беотийский союз под гегемонией Фив. Вслед за этим восстала Эвбея, остров, из которого, по словам Фукидида, афиняне «извлекли больше выгоды, чем из самой Аттики». Когда в Афинах стало известно, что эвбейцы не пощадили ни одного человека на захваченном ими афинском корабле, Перикл решил сам возглавить военную экспедицию к острову. Однако едва он отбыл на Эвбею, пришло известие об олигархическом перевороте в Мегарах, причем был вырезан почти полностью афинский гарнизон. Тяжелым положением афинян немедленно воспользовалась Спарта, послав в Мегариду войско, во главе которого стояли малолетний царь Плистонакт и эфор Клеандрид. Из Мегариды спартанцы вторглись в Аттику в дошли уже до Элевсина, однако сражения не произошло: неожиданно для всех их войско покинуло пределы афинян. Распространился слух, что Плистонакт и Клеандрид были подкуплены Периклом, во всяком случае, их обвинили в этом по возвращении в Спарту и они вынуждены были бежать… В каком-то из этих походов участвовал, видимо, и Еврипид, добросовестно исполнявший свой воинский долг перед родиной, хотя, как и у многих других просвещенных и мыслящих афинян, у него не могла не вызывать тягостного и печального недоумения эта губительная для всех вражда между эллинами.
В тяжелых кровавых битвах, реалистическое описание которых встречается в его трагедиях, у поэта складывается мало-помалу ощущение преступности происходящего, и, хотя он, подобно большинству сторонников демократии, разделяет на первых порах воинственно-патриотический энтузиазм Перикла, в глубине его души все чаще шевелятся тяжелые сомнения в необходимости этой братоубийственной распри.
Афинский демос не видел пока особой опасности в расширении военных действий, твердо веря в то, что афиняне скоро одержат победу над пелопоннесцами. Против войны постоянно выступали лишь земледельцы, разоренные спартанцами. Перикл, обеспокоенный развитием событий, сумел уговорить народное собрание прекратить военные действия. Но хотя в 445 году был заключен договор о мире на тридцать лет на том условии, что Афинская архе и Пелопоннесский союз обязуются не вмешиваться в дела друг друга, глубинные причины войны не были и не могли быть изжиты. Эллада распалась на два лагеря, настолько же враждебных между собой, насколько олигархия была враждебна демократии, и новые столкновения между ними были неизбежны.
После заключения мира со Спартой позиции сторонников олигархического правления в Афинах сильно пошатнулись, однако Фукидид продолжал постоянно нападать на Перикла, избранного в 444 году стратегом, обвиняя его в тиранических наклонностях, в трате денег союзников, в том, что затеянные им строительные работы слишком дорого обходятся городу. Наконец народное собрание решило провести «суд черепков» и положить конец противоборству, столь вредно отзывавшемуся на делах полиса. В результате остракизму оказался подвергнутым Фукидид, защитник «прекрасных и хороших», он был вынужден удалиться в изгнание, а Перикл, став во главе государства, «сосредоточил в себе и сами Афины, и все дела, зависящие от афинян, – взносы союзников, армии, флот, острова, море, великую силу… и верховное владычество»… С этого времени начался «золотой век» Перикла, те пятнадцать лет, в течение которых афинская рабовладельческая демократия достигла своего наивысшего расцвета и на которые приходятся ее наиболее значительные свершения и достижения.
Утвердившись у власти, Перикл стал осуществлять такие преобразования в управлении полисом, которые сделали доступными для демоса самые высшие должности в государстве, окончательно подорвав позиции аристократии и придав новую силу упованиям таких сторонников просвещенного народовластия, как философствующий поэт Еврипид, которые надеялись, что теперь-то уже наконец простой трудовой народ, земледельцы, ремесленники и матросы станут действительными хозяевами полиса. Теперь основная роль в политической жизни принадлежала Совету пятисот, избиравшемуся из представителей трех первых аттических сословий и заседавшему открыто, так как афинский демос хотел знать не только окончательное решение, но и мнение каждого из выступавших в Совете. Совет пятисот ведал делами войны и мира, финансами, надзором за арсеналом, доками, флотом и торговлей, а также осуществлял надзор за должностными лицами. Служение обществу всегда считалось в Афинах священной и почетной обязанностью, и должностные лица награждались лишь венками да иногда упоминались в почетных декретах. И поэтому, когда Перикл внес предложение платить членам Совета по одной драхме в день (средний прожиточный минимум афинского ремесленника), многим из приверженцев традиционных установлений это показалось кощунством. Эвпатриды, опасаясь доступа к власти людей незнатных и бедных, обвинили Перикла в том, что он хочет просто подкупить народ, «нравственно развратить» его, и утверждали, что этот порочный проект таит в себе большую опасность, так как должности, которые раньше были просто почетными, теперь станут выгодными, и поэтому должностные лица будут угождать, обманывать, льстить народу, лишь бы не потерять своего места в Совете. Однако Перикл защищал свое предложение, указывая на то, что занимающиеся делами государства ежедневно терпят убытки, так как не имеют возможности заняться, как того требуется, своими собственными делами, и что долг государства – возместить им этот ущерб. После долгих споров и обсуждений решили оплачивать должности девяти архонтов, шести тысяч членов суда присяжных, а также платить жалованье эфебам, городским стрелкам и стражникам у верфи и на Акрополе. Таким образом, теперь даже бедные граждане могли заседать в Совете и в гелиее (суде присяжных), могли быть даже архонтами, если им выпадет жребий.
Стремясь «освободить город от ничего не делающей и вследствие праздности беспокойной толпы и в то же время помочь бедным людям, а также держать союзников под страхом и наблюдением», утвердившаяся у власти демократия начала широкую организацию на территории союзников клерухий – военно-земледельческих поселений, где афиняне из низшего, четвертого, сословия получили земельные наделы. (К этой мере афиняне, так же как и жители других греческих полисов, прибегали и раньше, выводя избыточное население в колонии и разряжая тем самым социальную напряженность в своих государствах.) Что же касается полноправных граждан, оставшихся в Афинах, то им, кроме оплаты должностей, выдавались время от времени всякие вознаграждения, наиболее бедным выдавался даже теорикон – деньги на посещение театра, поскольку театральным представлениям придавалось особое значение в нравственном и гражданском воспитании народа. Однако пользоваться этими благами могли очень немногие, так как полноправными гражданами считались лишь те, у которых и мать и отец были афинскими гражданами.
Афинский демос, который правил теперь Афинами, был лишь небольшим, ревниво оберегающим свои привилегии слоем. Ремесленники, производящие дорогие товары на вывоз, судовладельцы и трапедзиты, для которых после падения аристократии и подчинения союзников открылись широкие возможности обогащения, начинали понемногу заправлять в экклесии и Совете, и демократия, которой так долго и упорно добивался афинский народ, становилась все больше властью богатых рабовладельцев. Афиняне же победнее постепенно привыкли рассчитывать не столько на плоды своего труда, сколько на плату за должность гелиаста (получавшего в день два обола – сумму хотя и небольшую, но на которую вполне могла прокормиться семья) или же на какие-то раздачи, они скоро привыкли смотреть как на собственные деньги на форос союзников, были не прочь получить свою толику от богатой военной добычи и поэтому с одобрением принимали выносимые на их обсуждение проекты новых военных экспедиций и территориальных захватов. Это была демократия богатых рабовладельцев, ограниченная и неравноправная по самому своему существу, порождавшая паразитическую психологию и презрение к свободному труду, полная неразрешимых внутренних противоречий и потому таящая в себе даже в период наибольшего расцвета едва заметные ростки будущего упадка.








