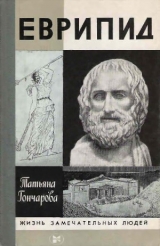
Текст книги "Еврипид"
Автор книги: Татьяна Гончарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Елена:
О Менелай… Любимый… Годы мук
В какую даль ушли… а наслажденье
Так свежо… О подруги! Он со мной.
Я нашла его, какая радость!
Я его, лаская, обнимаю…
Сколько дней, о милый, сколько дней!..
Менелай:
Как сладко мне в глаза твои глядеть!
На жребий не сержусь я больше, нет.
. .
О, ты моя, и твой я. Сколько раз
Сменилось солнце, прежде чем обманы
Богини осветило наконец!
Слезы я лью, только сладкие слезы:
От мук пережитых осталось
В них больше отрады, чем горя.
Здесь появляется жестокий египетский властитель Феоклимен – и над несчастными супругами вновь нависает опасность, однако сестра его, пророчица Феоноя, решает помочь Елене, поскольку считает, что «брату… услугу себе в позор не вправе оказать». И далее действие разворачивается как авантюрная, полная хитростей, обманов и переодеваний комедия: когда Феоклимен приказывает схватить и казнить нарушившего его запреты ахейца (не зная, что это сам Менелай), Елена, собрав всю свою находчивость и самообладание, просит у него корабль с гребцами якобы для того, чтобы справить согласно обычаю поминки по погибшему мужу в открытом море, обещая после этого выйти замуж за царя. Обрадованный этой неожиданной уступчивостью, Феоклимен охотно дает просимое и весьма милостиво обращается со схваченным ахейцем, которого столь желанная для него красавица называет своим земляком, принесшим ей печальную весть о смерти Менелая:
. . Ты принес
Приятные нам вести: так лохмотья
Одеждою приличной замени
Да забери припасов на дорогу:
Ведь исстрадался ты порядком, вижу…
Получив корабль и все необходимое, вновь обретшие друг друга супруги отплывают наконец к родным берегам, оставляя незадачливого египетского жениха сетовать на коварство женского пола и свою смешную доверчивость: «Женской хитростью обманут я несчастный». И только появившиеся, уж как водится, в финале драмы божества, в данном случае Диоскуры, уговаривают царя смириться с тем, что предначертано судьбою, и сдержать «свой гнев несправедливый».
Эти очаровательные вещицы (сам поэт то и дело дает понять зрителям, что происходящее на сцене – всего лишь шутка, минутный отдых среди становящейся порой невыносимой реальности) умножили славу Еврипида как поэта – и возможно, первого поэта Эллады – за пределами отечества, да и в самих Афинах молодежь не уставала восхищаться великим трагиком, декламируя наизусть и распевая прямо на улицах целые куски из его произведений, а те, что не были обделены от природы Аполлоном и музами, по мере сил и возможностей старались ему подражать. Казалось бы, он мог наконец почувствовать удовлетворение, вкусить сладость признания, но то ли потому, что это признание наступило слишком поздно, то ли потому, что своей поэзией ему не удалось достичь самого главного, на что он надеялся и о чем он мечтал, – сделать жизнь людей более правильной, разумной и человечной, но только старый поэт не испытывал, по-видимому, радости от растущей своей славы.
На своем долгом веку Еврипид слишком много размышлял о тех вечных и неразрешимых для смертного вопросах, которых, в сущности, лучше не касаться, если не рискуешь потерять себя в бездне познания и утратить простую радость бытия, и поэтому обожание молодежи, растерявшейся в противоречиях жизни, не могло для него значить особенно много. Все прелестные пьесы последних трех лет были для поэта не более чем изысканным развлечением – он сам то и дело мимоходом и иронически подчеркивал, что это, мол, так, всего лишь очаровательные сказки – последним солнечным бликом в той сумрачной полосе жизни, когда мысли каждого смертного, а тем более такого человека, каким был сын Мнесарха, обращаются все чаще и все настойчивее к мирам иным, более совершенным и вечным, чем этот, обманувший их самые лучшие и светлые надежды, или, по крайней мере, к поискам этих миров. Испытывая гнетущее неудовлетворение жизнью (как своей собственной, прожитой, как все чаще казалось поэту, совершенно напрасно, так и жизнью людей вообще, слишком неправильной и жестокой), Еврипид так хотел бы поверить в то, что эта жизнь не одна, что за ней последуют (если верить, например, Пифагору) тысячи тысяч других жизней, неизвестно только, более ли лучших и осмысленных, но, по-видимому, он так и не смог до конца в это поверить.
Трудно сказать достаточно определенно, верил ли он в бессмертие души: как и в большинстве других вопросов, он и в этом вопросе, столь важном для древнего человека, так и не сумел прийти к какому-то окончательному выводу и всю жизнь вел трудный и беспристрастный спор с самим собой. Знакомство с атомистическими теориями и космическими построениями натурфилософов не оставляло, казалось бы, места для веры в бессмертие души, однако в вечную сущность человека (разум ли, душу ли) верили и его учитель Анаксагор, и софисты, и Сократ: «О том же говорит и Пиндар, и многие другие божественные поэты… они утверждают, что душа человека бессмертна, и, хотя она то перестает существовать – это и называют смерть, – то снова рождается, она никогда не гибнет. Поэтому и следует прожить жизнь как можно более благочестиво». Несообразность земного бытия, его приводящая в отчаяние неустроенность заставляла этих, столь великих разумом людей искать какого-то объяснения и оправдания жизни в иных мирах, считать знание и добродетель своего рода воспоминанием о той истине, которую созерцала душа до своей земной жизни, и видеть в смерти лишь переход в иной, лучший мир, где открываются, если верить древним учениям, столь величественные и прекрасные картины занебесных сияющих просторов, по сравнению с которыми не стоит ни малейшего сожаления наша скудная и темная земля. И сын Мнесарха то поддавался мистическому очарованию этих представлений (ибо, как писал об этом впоследствии Платон, «если только человек не лишен рассудка, он непременно должен опасаться – ведь он не знает, бессмертна ли душа и не может этого доказать»), то сомневался в них:
Но ведь жизнь человека – мученье одно
И томительный труд непрестанный.
То другое, что жизни милее земной,
Черным облаком скрыто от наших очей.
И себе же на горе свое бытие
Под сверкающим солнцем любить мы должны,
Потому что не ведаем жизни иной,
И не слышим усопших, и сердце свое
Только сказками праздными тешим.
И «философу сцены», так и не сумевшему, подобно своему бессмертному учителю по прозвищу Ум, действительно отстраненно и в достаточной степени равнодушно взирать на беды отечества, поэту, так болезненно воспринимавшему все окружавшее его человеческое страдание, должно было казаться поистине необъяснимым и странным жизнелюбие его отдаленнейших предков, людей троянской эпохи, утверждавших без тени сомнения подобно гомеровскому Ахиллу:
О, Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся,
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый.
И поэтому, приближаясь к своему семидесятилетию, сын Мнесарха все чаще думал и говорил о «царстве мертвых», которое представлялось ему антиподом грешного царства живых, где успокоится наконец измученный человек (вернее, его бессмертная сущность), где он встретится снова с теми дорогими и незабвенными, которых он навсегда потерял, и скажет им то, чего не успел досказать в этой жизни. «А там отец поможет, в царстве мертвых», – успокаивает старуха Гекуба своего убитого крошку внучонка (отец, который так и не смог охранить малыша при жизни), утешая этим и себя самое, готовясь добровольно последовать за своими кровными и единственными туда, где не бывает коварства и не льется неостановимым потоком живая горячая человеческая кровь…
А иной раз, размышляя о смерти и бессмертии, приходил к мысли о том, что вечная жизнь дается (обязательно должна даваться, иначе где же он, этот утверждаемый Гераклитом извечный закон Мировой справедливости?) в награду лишь тому, кто здесь, на этой земле, был праведен и добр, не делал людям зла, но сам в то же время был обделен совершенно не только что счастьем, но даже простой и недолгой человеческой радостью:
Если б боги людей различали
В провидении мудром,
Мог бы добрый две юности видеть,
После смерти весной насладиться.
А дурные, в ком нет благородства,
Так бы и были:
Отжил век свой —
Да и в могилу.
Ему хотелось поверить, что дух его, столь мятежный и неспокойный при жизни, обретет наконец долгожданный покой, растворившись в эфире, как утверждали философы того времени, после того как тело возвратится туда, откуда пришло, – в кормилицу-землю («Нам дается тело не в собственность, лишь как приют для жизни – и пусть лежит в кормилице-земле»), но вряд ли он верил в это. Ему хотелось бы согласиться с Сократом, что главное в этой жизни – забота о душе («…раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее»), но он не мог согласиться и примириться с этим до конца – он был слишком земным человеком, всю жизнь мечтавшим о правильной и человеческой жизни именно в этом (может быть, даже единственном) мире. Его великий ум упорно стремился проникнуть в наиболее сокровенные тайны бытия – и это казалось непростительной для смертного дерзостью, опасным безумием многим из его соотечественников, которые, подобно неумолимому ко всякого рода умникам Аристофану, были твердо уверены в том, что есть в мире такие вопросы и вещи, которых смертный просто не должен касаться, иначе за этим неизбежно последует страшное, непоправимое зло, и не только для самого святотатца, но и для всего человечества.
И если четвертью века раньше философствующие вызывали недоуменное недоброжелательство, то теперь многие из них (и прежде всего те, кто чуть ли не открыто проповедовали «право сильного» и утверждали, что из всех форм правления самая разумная – это олигархия, поскольку демократия, мол, сдерживает развитие сильной, исключительной личности) внушали просто ужас. Потому что они не просто «учили» в частных домах или под сенью портиков, но решительно и энергично готовились воплотить свои теории в жизнь. В своих тайных гетериях они произносили присягу: «Я буду врагом народу и буду придумывать ему всякое зло, какое только могу», – и с нетерпением ждали своего часа, чтобы доказать клятву делом. Софист Ферамен, прозванный Котурном (обувь, которая годится на любую ногу) за свою политическую беспринципность; Антифонт, как говорили, автор ходившего по городу анонимного трактата – злобной сатиры на демократические порядки, несовместимые якобы с честностью и справедливостью; презиравший народ Критий – это были богачи новой формации, владельцы золотых приисков и заморских факторий, отвергавшие как обломки старинного коллективизма времен родового строя, так и современную им демократию. «Сильные люди» откровенно рвались к власти, и недалеко уже было то время, о котором так писал навсегда сохранивший верность идеалам умеренной демократии Фукидид: «Народ безмолвствовал и, лишенный свободы речи, был в такой панике, что считал для себя барышом и то уже, если не подвергался какому-либо насилию»; если же кто и осмеливался возражать, то тем или другим подходящим способом его немедленно умерщвляли, и над виновными или подозреваемыми в убийстве «не производилось следствия и не возбуждалось судебного преследования».
Пользуясь тем, что, кроме сохранившегося и еще довольно значительного слоя старинной аристократии, в Афинах к этому времени было уже немало людей, по тем или иным причинам недовольных властью демагогов, а также желавших возвращения Алкивиада, в счастливую звезду которого они продолжали верить, сторонники олигархического образа правления начали открытую агитацию, призывая к низвержению демократии. Так, военачальник Писандр, известный ранее приверженностью к демократии, но за последние годы круто изменивший свои политические убеждения, выступил в Народном собрании с речью о том, что единственным средством спасения родины он считает немедленное заключение союза с персидским царем, возвращение Алкивиада и передачу власти в государстве «немногим и лучшим лицам». Нашлось немало простых афинян, которые верили ему, помня о его былой верности народу, и были готовы принять его предложения в надежде на лучшие перемены в будущем, поэтому Писандру удалось провести через собрание некоторые постановления, расчищавшие путь олигархии. Все шло своим чередом к недоумению и ужасу истинных сторонников народовластия и патриотов, которые не могли уже ничего изменить в создавшейся обстановке (как говорил впоследствии в связи с этим Софокл), да и не представляли себе, что вообще можно сделать.
И если людям более молодым, таким, как благородный Аристокл, вошедший в бессмертие под именем философа Платона, преисполненным, по его собственным словам, стремления служить обществу, еще казалось, что положение можно исправить и вернуть город к прежним высотам могущества и процветания, то сын Мнесарха, так же как и немногие из еще остававшихся в Афинах его сверстников, в глубине души уже чувствовал отчетливо и скорбно, что прошлого не вернуть никогда, а будущее – о нем не хотелось даже думать… Создавший на своем долгом творческом пути так много неповторимых в своей индивидуальности и непохожих друг на друга героев, Еврипид воплотил в каждом из них частицу себя самого – сначала еще молодого, полного дерзости и необузданных чувств, потом поостывшего, пожалуй, несколько даже растерявшегося перед необоримой силой великой реки жизни, и, наконец, уже совсем старого, разочарованного и уставшего, которому хотелось бы никогда больше не видеть родного города и незаметным, ничего не имеющим и ни в ком не нуждающимся служкой в старинном запустевшем святилище мести лавровой веткой тихий храмовый двор в солнечных пятнах между причудливыми тенями древних платанов и маслин, как герой его трагедии «Ион», поставленной в 412 году, трагедии, как считается, наиболее иронической и загадочной из всего, написанного Еврипидом. Юноша Ион, не знающий своего родства, верный слуга предавшего его Аполлона (хотя потом в соответствии со счастливым концом, столь частым для Еврипида, бог исправил причиненное им зло), – это сам старый поэт, это та его ипостась, которая так и осталась неосуществленной, хотя всегда давала о себе знать. Рассуждения и мысли совсем молодого человека, не ведавшего еще никаких соблазнов, несмотря ни на что, прекрасной жизни – это горькие, запоздалые сожаления старика, прожившего, по его мнению, жизнь совершенно не так, как ему бы хотелось; поэт словно завидует своему герою, живущему той самой жизнью, какой следовало бы ему самому:
. нет приятней
Досуга человеку, а у нас
Найдется и досуг: хлопот немного.
С пути меня никто, злодей, не сбросит,
И уступать тому, кто ниже нас,
Дороги я не должен, что несносно.
Молюсь богам, беседую с людьми…
Служка Аполлона Ион – это то, чем хотел бы стать на склоне лет сам сын Мнесарха, никогда ни на мгновение не позавидовавший ни царскому жребию, ни власти тирана, ни богачу из богачей, дрожащему «при каждом шуме над сундуками сидя». Всю жизнь стремившийся к уединению, спокойной и созерцательной жизни, вблизи муз и природы, сразу же и навсегда отказавшийся быть «первым среди гребцов», Еврипид так и не смог осуществить этого если уж не полностью, то хотя бы в такой мере, как бессмертный Гераклит или же полностью отказавшийся от земных богатств Анаксагор; и он не смог этого сделать, думается, главным образом потому, что навеки связал свою жизнь с театром, со служением Мельпомене, которой невозможно при всем желании служить в одиночестве, подобно философу, астроному или же математику, и невозможно обойтись без пристального и безжалостного суда современников…
Согласно преданиям когда-то, в седые незапамятные времена некто Ксуф, человек неизвестного происхождения, искатель приключений и отважный воин, оказал Афинам важную услугу во время войны с Эвбеей, в награду за это получил руку царевны Креусы, дочери Эрехтейя, и вот их-то сын Ион и был прародителем всего ионийского племени. Со временем укрепившимся в своей мощи и славе афинянам показалось слишком уж скромным такое происхождение их прародителя – и тогда появилась легенда о том, что отцом Иона на самом деле был сам бог Аполлон, соблазнивший Креусу. В страхе перед гневом отца, царевна спрятала новорожденного в пещере под Акрополем, и тогда Аполлон попросил Гермеса отнести младенца в Дельфы, где тот, воспитанный храмовой жрицей, вырос служкой своего бессмертного отца, молчаливым и прилежным юношей, внешне как будто бы совершенно смирившимся со своим сиротством, но внутренне глубоко ощущающим одиночество, подобно другим сыновьям смертных женщин и богов, этим несчастным жертвам недолговечной прихоти своих всемогущих отцов:
Но такого не помню,
Чтобы счастье венчало
Порожденного девой
От союза с бессмертным.
В отличие от Эсхила и Софокла Еврипид не видит ничего священного в этих неравных и кратких связях, и влюбленный бог, остывающий вскоре к своей очередной возлюбленной (сколько их было у них, бессмертных!), похож у него на обычного покорителя женских сердец и разрушителя девичьих судеб (в «Меланиппе», «Данае», «Аэлопе»), этот жестокий, лживый, неверный «низкий любовник», в котором нет ничего величественного и истинно божественного. Подобно какому-нибудь афинскому ловеласу, Аполлон в «Ионе» стремится прежде всего скрыть следы собственных шалостей и делает тем самым еще более горестной и тяжкой судьбу соблазненной им Креусы. Вступив в брак с героем Ксуфом, она не имела больше детей, и супруги бесконечно страдали от этого. Они прибыли в Дельфы, чтобы вопросить оракула о своей бездетности, на что Локсий (Аполлон) так ответил Ксуфу: тот, кто первый попадется ему навстречу при вступлении в храм, тот и будет его сыном. Возмущенная тем, что муж хочет ввести в ее древний царский дом какое-то отродье (возможно, даже прижитое им от рабыни), Креуса решает любой ценой избавиться от новоявленного сына, покончить с ним мечом или ядом, ее замысел раскрывается, и в столь характерной для Еврипида в высшей степени драматической обстановке, когда мать, припав к алтарю, умоляет о пощаде сына-жреца, они наконец узнают и обретают друг друга. Все, как всегда, становится на свои места, наступает развязка ко всеобщему удовлетворению – развязка, которая становится все более частой для Еврипида по мере того, как он осознавал с бесконечным отчаянием и усталостью, что развязки подлинных трагедий человеческой жизни, до ужаса неправильной и непонятной, лежат где-то там, за гранью этого мира, в непостижимом и темном небытии…
И блистательный и вероломный Аполлон никакой не бог для него, взыскующего вечных тайн бытия ученика великих философов, так же как не боги для него и все остальные олимпийцы. Как может быть богом тот, о ком твердит хор: «Мне стыдно за бога», в порядочности которого (порядочности, необходимой для каждого обычного смертного) усомнился даже верный служка Ион:
Нехорошо… Могуч – так будь и честен.
Кто из людей преступит, ведь небось
Того карают боги… Как же, нам
Законы сочиняя, вы добьетесь,
Чтоб мы их исполняли, если их
Вы ж первые нарушить не боитесь?..
Итак, с олимпийцами все было, казалось бы, ясно и понятно, но оставалось по-прежнему непостигнутым самое главное – существует ли человек сам по себе, со всеми своими благими и дурными деяниями, ничему и никому не подвластный, и жизнь его, в сущности, неуправляемый хаос, или есть все-таки Некто или же Нечто, что придает этой жизни ее высший конечный смысл и руководит людским родом, столь далеким от совершенства? Об этом размышляет в трагедии юноша Ион – старик Еврипид, отрицая обветшавших олимпийцев, но надеясь, что все-таки он есть, тот Всемогущий и Вечный, который должен в конце концов превратить в гармонию сумрачный хаос бытия и всем воздать по заслугам («добрый будет награжден, только злым, покуда злые, счастья в жизни не видать»), иначе чем же жить?..
Но пока торжествовали только злые. Учреждение комиссии пробулов ни в чем не улучшило положения в городе, и сторонники олигархии настойчиво требовали передачи всей полноты власти в руки богатых людей как имеющих средства для того, чтобы спасти оказавшееся, как утверждали они, на краю гибели афинское общество. В 411 году приверженцы власти «немногих и лучших» произвели государственный переворот и добились от Народного собрания принятия новой конституции, разработанной в олигархических гетериях. Вместо прежнего Совета пятисот теперь был создан путем кооптации совет из 400 человек, «наиболее достойных и состоятельных граждан». Народное собрание было ограничено до пяти тысяч человек, тех, что имели средства на содержание вооруженного гоплита, однако и в таком виде оно не было ни разу созвано за все время правления олигархии. Были отменены всякого рода раздачи и оплата государственных должностей; новое правительство тут же начало переговоры со Спартой о мире, однако спартанцы потребовали в качестве основного условия прекращения войны полного отказа афинян от владычества на море, так что даже среди олигархов (каждый из которых жаждал первенства, а по существу, единовластия) возникли серьезные разногласия по этому поводу, и обстановка в городе продолжала обостряться. Как только весть об олигархическом перевороте донеслась до союзных городов, еще сохранявших верность своим обязательствам перед Афинами, сторонники олигархии в них стали также повсюду переходить в наступление и, низвергнув демократию, сразу же начинали искать союза с пелопоннесцами.
Все эти события развернулись в то время, когда афинский флот находился у острова Самос, и, когда моряки, в подавляющем большинстве приверженцы демократии, услышали о том, что власть в городе захватили олигархи, они наотрез отказались подчиняться новым порядкам. Узнав об этом, Алкивиад, живший тогда в Малой Азии, но не оставивший надежды вернуться когда-нибудь победителем в Афины, вступил в переговоры с Фрасибулом, стоявшим тогда во главе флота, и предложил ему свои услуги, уверяя, что он всегда был и есть убежденный сторонник демократии, а печальные обстоятельства его бегства из Греции объясняются лишь гнусными происками приверженцев олигархии. В итоге он был назначен главнокомандующим флота, уговорил персидского сатрапа Тиссаферна дать им крупную денежную субсидию и начал готовиться к продолжению военных действий против Спарты.
Горестное чувство поражения овладевало все больше сыном Мнесарха при виде того, как неостановимо рушилось то, что казалось святым и незыблемым, как в силу главного и непреложного закона мироздания, открытого бессмертным Эфесцем, все прямо на глазах превращалось в свою противоположность, и он то впадал в неистовый гнев, готовый ценой самой жизни отстаивать идеалы своей молодости, повергнутые жестокими и бесчестными, то устало затихал, подавленный собственным бессилием и, очевидно, неуправляемостью людского бытия, мутного и страшного потока жизни:
Ты, случай – бог: нас мириады здесь,
И каждого и каждый миг ты можешь
И мукою донять и наградить
За прошлое…








