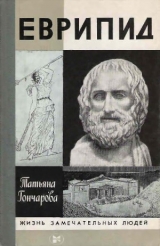
Текст книги "Еврипид"
Автор книги: Татьяна Гончарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Впервые в жизни сын Мнесарха выехал за пределы Аттики, стоял июль, самое жаркое время года, но в Олимпию со всех сторон Греции и даже из колоний спешили многочисленные участники состязаний и зрители. Сначала плыли по морю до устья реки Алфей, а потом вверх по реке. Здесь, в пелопоннесской Элиде, расположился священный город, в который никто не смел вступать с оружием в руках. Здесь были храмы Зевса и других богов, алтарь и сокровищницы различных государств Эллады, а также стадион – обширная площадка для выступления атлетов. Перед началом состязаний совершались жертвоприношения, потом был торжественный выход и представление всех атлетов; участвовать мог каждый свободный гражданин, не запятнавший себя преступлением или каким-нибудь порочащим поступком. Наградой победителю был лишь венок из дикой маслины, но это было огромной честью и для него самого, и для его города. По возвращении домой ликующая толпа сограждан встречала победителя, венок он возлагал на алтарь перед храмом главного божества и потом всю жизнь имел право на обед в пританее и почетное место на празднествах. Нередко в честь победителей на Олимпийских играх ставились статуи и слагались хвалебные оды. На все это, возможно, надеялся для своего сына и помнящий о предсказании бродячего пророка Мнесарх, однако Еврипида не допустили к играм по молодости. И хотя впоследствии он все же удостоился награды на одном из атлетических состязаний в Афинах, не это искусство было его призванием. У высокого, рослого, обладавшего привлекательной внешностью юноши была пылкая поэтическая душа, творческая натура, жаждавшая самовыражения, истинной школой для которой стал театр.
В это время в Афины возвратился Эсхил, но время его безраздельного царствования в театре окончилось, потому что уже на Великих Дионисиях 468 года первую награду получил двадцатидевятилетний Софокл, сын Софилла, состоятельного владельца оружейной мастерской, дотоле неизвестный афинянам как поэт и заслуживший впоследствии прозвище «аттической пчелы» за размеренную правильность отточенного стиля и творческую плодовитость. К этому времени многие юноши из хороших семей, тяготеющие к искусствам, пробовали свои силы в трагической поэзии, но казалось удивительным то, что уже раннее произведение поэта оказалось настолько совершенным. Все сидящие в этот день на прогретых весенним солнцем скамьях театра Диониса смутно чувствовали, что речь идет не о двух, одна чуть лучше, другая чуть хуже написанных традиционных трилогиях, но о разных видах трагической поэзии как таковой. Подошел конец состязаний, а судьи все никак не могли договориться, кому же присудить пальму первенства. И тут в театре появился Кимон с десятью другими стратегами, которые как раз вернулись с острова Скирос и хотели принести жертвы Дионису. Тогда решили спросить их мнения, и Кимон со своими товарищами присудил первую награду сыну оружейника.
Хотя умудренный жизнью Эсхил оставался как будто бы философски спокоен (ведь сказал же он однажды: «Я посвящаю свои трагедии времени»), в Афинах поговаривали о том, что старый поэт очень расстроен поражением и даже собирается обратно в Сицилию. Однако уже следующей весной его величавая муза снова повергла сограждан в трепетное и боязливое восхищение. Представленная им в этот раз «Эдиподея» (трагедии «Лаий», «Эдип» и «Семеро против Фив») словно напоминала афинянам, столь гордым своими успехами, о том, что все в этом мире подвластно Ананке – Судьбе, перед которой бессильны сами бессмертные боги и которую, как утверждал поэт, сын своего времени, не преодолеть никогда человеческой воле. Единоборство человека с судьбой, единоборство дерзкое, но фаталистически тщетное, было одной из главных тем всей греческой драмы, поскольку в жизни античного человека слепая случайность играла решающую роль и жесткие механизмы бытия казались поистине непознаваемыми, неподвластными воле и разуму.
Эсхил обратился в этих трагедиях к древнейшему мифу фиванского цикла о родовом проклятье, на сюжеты которого создавали свои произведения Софокл и впоследствии Еврипид. Когда-то, в седые ахейские времена, царь города Фив Лаий украл чужого ребенка. Отец ребенка проклял царя, это проклятье тяготело потом над всем его родом, и ни сын, ни внуки преступного Лаийя никакими ухищрениями ума не могли избежать предначертанной им заранее гибели. Получив предсказание о том, что он умрет от руки собственного сына, Лаий приказал убить своего только что родившегося ребенка, но его повеление не было выполнено, и подобранный пастухами младенец Эдип был усыновлен коринфским царем. Став взрослым, Эдип с ужасом узнает от оракула, что ему суждено стать убийцей родного отца и мужем собственной матери. Он покидает Коринф, стремясь избежать преступления, но по дороге встречает какого-то знатного старца и убивает его в результате случайной ссоры. Этим старцем и был настоящий отец его, Лаий. Затем Эдип попадает в Фивы, оставшиеся без царя, побеждает чудовище Сфинкса и в награду за это становится мужем царицы Иокасты, не зная, что она-то и есть его мать. Так исполняется предсказание оракула, сбывается проклятье отца, потерявшего любимое дитя, и непреодолимый, высший закон Справедливости, в силу которого никакое преступление на этой земле не остается безнаказанным и кара за грех только вопрос времени.
В «Эдиподее» проявилась особенно отчетливо трагическая ирония Эсхила, порожденная то ли его собственным жизненным опытом, то ли постигнутая умозрительно как один из законов смутного и зыбкого бытия того времени: чем больше его герои, и прежде всего злосчастный Эдип, стараются избежать своей страшной судьбы, тем ближе они продвигаются к гибели. Узнав в конце концов о том, что он все-таки стал убийцей отца и женился на собственной матери, Эдип ослепляет себя, чтобы не видеть обманного мира и не обольщаться тщетной надеждой, что можно что-то понять в этом темном хаосе, именуемом жизнью. Но злоключения царского рода на этом отнюдь не кончаются: оскорбленный своими сыновьями, Этеоклом и Полиником (рожденными им от собственной матери), Эдип проклинает и их, предрекая, что после его смерти они будут мечом делить отцовское наследство. Так оно и случилось, и в последней трагедии этой трилогии, «Семеро против Фив», Полиник, изгнанный братом и нашедший приют в Аргосе, идет войной на родной город, ведя с собой семь аргосских полководцев. Гибнут аргосские воины, гибнут и сами братья, сойдясь в поединке у древних фиванских стен, их губит проклятье слепого отца и рок, тяготеющий над их родом:
Отец! Отец! Его проклятье черное
С меня сухих – в них слез нет – не спускает глаз
И говорит, что лучше умереть скорей.
Гибнет и их сестра Антигона: нарушив приказ старейшин, она похоронила Полиника и потом покончила с собой, замурованная заживо в царской гробнице. Так кончается род совершившего преступление Лаийя:
Проклятья древнего не смирить,
Когда приходит возмездья срок.
И вот она настает, расплата…
В описании ужасов войны, ярости обуянных Ареем героев, в страстных и мощных стихах Эсхила еще довлел героический дух недавней войны, это писал человек, сам побывавший во власти ее грозного бога. Но это было не только воспоминание, это было и предвидение будущего, предостережение против братоубийственной вражды между эллинами, которая, как с горечью замечал старый поэт, растет с каждым годом и вот-вот может вылиться в открытое столкновение. Он боялся, что греческие города погубят друг друга, как братья Этеокл и Полиник, и хотел предостеречь от этого афинян.
Юноша Еврипид, как и большинство его сограждан, не мог не испытывать восхищения перед сумрачным гением марафонского воина, его титаническими образами, но он (что стало особенно ясно впоследствии, когда он обратился к тем же самым мифам и героям) видел и человека, и жизнь, и управляющие ею законы, и даже сам театр несколько иначе. Его манили, влекли к себе непознанные глубины людской души, остававшиеся огромной неразгаданной тайной не только для него, но даже для тех мудрецов и философов, которые так или иначе пытались объяснить устройство Вселенной и происхождение нашего мира. Уже в молодые годы сын Мнесарха смутно чувствовал, что силы, таящиеся внутри человека, не менее значимы для течения жизни, чем грозные силы беспредельного Космоса, что по природе своей они схожи между собой, что мысль человека, его любовь или ненависть, великая жажда нового, ведущая его ко все новым открытиям и приобретениям, – все это движет миром, и горе тому народу, где эта мысль дремлет в бездействии, горе и народу, среди которого ненависть возобладает над любовью. Возможно, что в эти свои молодые годы Еврипид и сам не смог бы достаточно ясно объяснить, почему его так привлекает к себе жизнь души и сердца, почему он ищет в любви разгадку многого из того, что творят и всегда творили люди, да и сама любовь понималась им далеко не философски – не как та великая Любовь к себе подобным, к которой воззвал, измученный и разуверившийся род людской спустя три с половиной столетия, но всего лишь как Эрос – непреоборимая страсть, влекущая мужчину и женщину, которая часто оказывается сильнее законов неписаных и писаных, которая рушит судьбы и колеблет государства.
И долго, довольно долго (и в этом его не раз обвиняли соотечественники, многим из которых, вероятно, было недоступно чувство любви в такой мере, какая выпала и на долю самого поэта и какой он наделил своих героев) Еврипид видел в великой священной силе, связующей мужчину и женщину, первопричину многого из того, что происходит в мире, не говоря уже о счастье или несчастье каждого из смертных. Он был еще слишком молод для того, чтобы вполне проникнуться непреходящей важностью тех вечных вопросов, на которые пытался ответить в своих сумрачных творениях великий Эсхил; о загадках сердца молчали философы; большинству окружающих его людей казалась непристойной сама тема любви и связанного с нею страдания, и лишь в прекрасных элегиях поэтов минувших веков сын Мнесарха находил то, что волновало, теснило, наполняло томлением его собственную душу. Он находил это в меланхолических размышлениях Мимнерма из Колофона, изящных стихах беспечного (или же казавшегося беспечным после стольких и стольких разочарований и утрат) Анакреонта, в песнях мятежного духом Алкея и, конечно же, в страстных излияниях Сапфо, и ему казалось удивительным, неправдоподобным, что для этих людей, живших задолго до него, в, казалось бы, более грубые времена, счастье любви, боль разбитого сердца тоже были самым главным.
Их изысканная лирика, поэзия утонченных людей, свободных от каждодневных забот о хлебе насущном и целиком погруженных в мир собственных чувств, расцвела в VII и VI столетиях на больших островах Эгейского моря, культура которых тогда была выше, чем в Афинах и других греческих полисах. Особенно славился своими песнями остров Лесбос, населенный издревле музыкально одаренными, склонными к поэзии эолийцами. Согласно преданию именно к этому острову приплыла по волнам от фракийского побережья голова Орфея, растерзанного менадами, и его лира хранилась с тех пор здесь, в святилище Диониса. И возможно, поэтому были так вдохновенны творения лесбосских поэтов Алкея и Сапфо, дочери Скамандропима и Клеиды, имя которой вошло на века в легенды. Супруга богатого митиленского гражданина, уважаемая согражданами, она главенствовала над Домом муз при святилище Афродиты и обучала пению девочек. В смутные годы гражданских междоусобиц, как женщина богатая и знатная, должна была искать на время прибежище в Сицилии. Но, вероятно, ни хор, ни семья ее – дочь Клеида, «родная, золотая, что весенний златоцвет», ни ее положение в городе не были для Сапфо главным, ее душа, жаждущая красоты нетленной и высшей, страдала от одиночества, и, как доносят предания, поэтесса покончила с собой, бросившись в море, от неразделенной любви к человеку, примечательному, в сущности, лишь тем, что его любила Сапфо.
Солон говорил, что не хотел бы он умереть, не услышав ее новых песен, а позднее Платон называл ее десятой музой: «Девять лишь муз называя, мы Сапфо наносим обиду: разве мы в ней не должны музу десятую чтить?». Для юного сына Мнесарха, душа которого пела и плакала вместе с бессмертной Сапфо, не было никакого сомнения в том, что эолянка была самой музой поэзии, умевшей вместить в четыре строки всю боль одинокого сердца, взыскующего совершенства, но так и не нашедшего его:
Знаю, не дано полноте желаний
Сбыться на земле, но и долей дружбы
От былой любви – утоленье сердцу
Лучше забвенья.
Пройдут годы, и в лучших, самых проникновенных и скорбных стихах Еврипид повторит свою учительницу, свою вневременную современницу, а пока он читал, учился, упражнялся в гимнасии, строя, как свойственно молодым людям, большие планы полной достойных свершений жизни. И уже Эрос, «истомчивый, горько-сладостный, необоримый змей», всесильный бог, который глядел в свое время на нежного Ивика «влажно мерцающим взглядом очей своих черных», которому верно служили Анакреонт и Мимнерм, этот ветреный бог уже обманчиво обещал и ему – как тысячам тысяч юношей и раньше и позже – повести его, радостного и всеприемлющего, по тем нездешним лугам, о которых пела десятая муза, где «розы пышно раскрылись; льют сладкий запах анис и медуница»…
Глава 2
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ, МЕЧТАЯ О МЕЛЬПОМЕНЕ
Когда Еврипиду исполнилось восемнадцать, он стал считаться эфебом – молодым человеком и, включенный в общий список афинских граждан, поступил на военную службу. По традиции, эта служба должна была проходить вне города, в деревнях, крепостях и лагерях на границах Аттики, где эфебы почти круглые сутки проводили в полях и горах, охотясь и тренируясь, питаясь растениями и дикорастущими плодами, приучаясь переносить голод, усталость, спать на земле, закутавшись в плащ. Они учились обращаться с различным оружием, маршировать и строить лагеря, а также были обязаны наблюдать за безопасностью окрестных деревень и дорог. Однако ко времени эфебии Еврипида от значительной части этих установлений уже отошли: многие юноши, и особенно из состоятельных семей, не желали жить в общих лагерях и собирались все вместе лишь на учениях в назначенное время. В промежутках же между учениями, щеголевато одетые в тонкие ткани, тщательно причесанные и благоухающие дорогими маслами, эфебы играли в кости, ходили на заседания суда и в гимнасий, пировали, напиваясь допьяна с танцовщицами и флейтистками. Но были и такие, которые в свободное от воинской службы время стремились пополнить свое образование, читали и посещали лекции заезжих философов, участвовали в ставших обычными к этому времени публичных диспутах, и Еврипид скорее всего был одним из них, хотя, безусловно, и он был не чужд обычных утех и радостей молодости. Однако это приятное времяпрепровождение сразу же кончалось, едва от властей поступал приказ выступить в поход к границе или еще того дальше – в какое-то из поселений на самой окраине греческого мира, и вот тогда-то эфебы и должны были показать, чего они стоят как воины и будущая опора отечества.
В месяце Боэдромионе (сентябре), в первый год отбывания эфебии, юные воины в полном вооружении отправлялись в храм Аглавры, чтобы произнести там следующую клятву: «Клянусь никогда не наложить позора на это священное оружие и никогда не бросать своего места в битве. Клянусь сражаться за моих богов и за мой очаг и один, и вместе со всеми. Клянусь не оставлять после себя отечество свое умаленным, но более могущественным и более крепким. Клянусь повиноваться всякому приказанию, какое только будет мне дано мудростью представителей государства. Клянусь подчиняться законам как ныне действующим, так и имеющим быть изданными народом. Клянусь не допускать никого нарушать или колебать эти законы и обещаю сражаться за них и один, и со всеми. Клянусь чтить культ моего отца и в свидетели клятвы призываю Аглавру, Эниалия, Ареса, Зевса, Фалло, Авксо и Гегемон». Эти древние слова произносил вместе с другими афинскими юношами и сын Мнесарха и потом всю свою долгую жизнь оставался им верен, какие бы тяжкие сомнения ни одолевали его и какими бы нелепыми или несправедливыми ни казались ему порой те законы и приказания, которые он поклялся исполнять и защищать в храме Аглавры.
Существует версия, что Еврипид был в том отряде, который был послан на помощь афинской колонии на реке Стримон, осаждаемой окрестными варварскими племенами. Грекам часто приходилось выступать на защиту от полудиких соседей своих многочисленных колоний, разбросанных по всему Средиземноморью, по побережью Мраморного и Черного морей. Эти колонии, похожие, как сказал об этом впоследствии Цицерон, на своего рода кайму, пришитую к обширной ткани варварских полей, освобождали города-метрополии от избыточного обедневшего населения, давали прибежище тем, кто потерпел поражение в политической борьбе, они были очагами и проводниками греческой культуры на всех окраинах тогдашней Ойкумены. Афинская колония на реке Стримон в тот год подверглась особенно сильному натиску фракийцев, так что ее население было почти истреблено. Это был первый выход юного сына Мнесарха за пределы привычного эллинского мира, тем более сильными должны были быть впечатления от прекрасной природы Фракии, от столкновений с воинственными варварами, о которых он знал до этого понаслышке и которых видел лишь в качестве рабов, попадавших время от времени из своих горных долин и лесов на невольничий рынок в Афинах. Впечатления эти отразились впоследствии в его трагедии «Рес».
Хотя со времени эфебии и потом почти сорок лет Еврипид сражался, отстаивая интересы Афин, и с варварскими племенами, и с соседями-греками: беотийцами, фиванцами, эгинцами – военная служба так и не стала для него чем-то большим, чем выполнение гражданского долга, и он не достиг на этом поприще каких-либо достойных упоминания успехов. Не испытывал он также тяготения к общественной деятельности и не был охотник проводить время в суде или на площади, слушая известных ораторов и с жаром, что было свойственно большинству афинян, обсуждая те или иные события политики. Двадцатилетним юношей, окончив эфебию, он пытается обрести себя в творчестве, полный стремления посвятить себя служению Аполлону и музам, стремления, которое, очень возможно, вызывало недоумение и недовольство родителей (ведь недаром во многих из своих более ранних трагедий Еврипид то здесь, то там язвительно иронизирует по поводу несносного себялюбия стариков, их слепого стремления навязать молодежи свой жизненный опыт сомнительной ценности). Подобно многим талантливым людям, сын Мнесарха пробовал себя в молодости в разных искусствах, занимался живописью и музыкой – увлечение, которому он остался верен всю жизнь и которое отразилось позднее в богатом музыкальном сопровождении его трагедий. Есть даже версия, что какие-то картины, написанные Еврипидом, были найдены впоследствии в Мегарах. В необоримой тяге к знаниям, которую Еврипид сохранил до самой старости и благодаря которой он стал, по свидетельству современников, одним из самых просвещенных афинян, он читал философские сочинения и трактаты логографов, старинные эпические циклы, так называемые «Киклические поэмы», и модные в то время описания каких-либо путешествий в далекие неведомые земли. Возможно, уже в эти годы он начал собирать свою знаменитую библиотеку, хотя книги, папирусные рукописные свитки, стоили очень и очень недешево и приобретать их могли позволить себе только состоятельные люди (так, первую библиотеку в Афинах собрали Писистратиды, наследники знаменитого тирана).
Развитию разносторонних увлечений Еврипида (так же как и других молодых людей, и родовитых и незнатных, но равно жаждущих знаний, которых в Афинах становилось все больше) в немалой степени способствовало то, что в Афинах, превращавшихся понемногу в культурный центр всей Эллады, поселилось к этому времени немало образованных людей, поэтов и философов, историков и художников, из других греческих областей, и особенно из ионийских городов Малой Азии. Духовная жизнь афинян становилась все более многообразной и насыщенной, развиваясь в преодолении отживших традиций и представлений по мере того, как демос, оттесненный на время на задний план политической жизни, вновь начинает борьбу за право решать дела государства, а вожди демократии, и первый из них – Перикл, сосредоточивают вокруг себя все передовое и ищущее. И Еврипида, хотя он никогда, на чем сходятся все биографы, не принимал особенно активного участия в общественной жизни, не могло не радовать оживление сторонников демократии, не могла не интересовать та решающая битва, которую они начали против оплота богатой знати – Ареопага. И у него, как у большинства сторонников народовластия, вызывало насмешливые сомнения с таким ожесточением отстаиваемое Ареопагом право вершить справедливость от имени самой Афины, поскольку продажность и не слишком высокая нравственность многих из них были известны в городе всем и каждому.
Недовольные политикой Кимона демократы только и ждали повода для выступления. Таким поводом явилось предложение Кимона послать отряд афинских гоплитов на помощь спартанцам, которые оказались в это время в очень тяжелом положении в связи с сильным землетрясением в их области, а также с восстанием илотов (крепостного населения, появившегося в результате частично же подчинения додорийских обитателей этой земли, частично же в процессе социального расслоения, долговой кабалы и постепенного порабощения богатыми землевладельцами своих бедных соседей). Это восстание, известное под названием Третьей мессенской войны (464 год), быстро охватило всю Лаконику и Мессению. Илоты, покинув поля, укрепились на горе Итоме, и спартанцы никак не могли заставить их сдаться. Тогда-то они и обратились за помощью к Афинам, но Кимону только с большим трудом, вопреки вождям демократии и прежде всего Эфиальту, человеку решительному и напористому, удалось убедить народное собрание оказать эту помощь. Три тысячи афинских гоплитов, прибывшие к Итоме, не смогли изменить положения. Больше того, их заподозрили в тайных сношениях с илотами и отправили обратно в Афины, нанеся этим обиду и большой политический ущерб Кимону. Лишь на десятый год осады илоты сдались, выговорив себе право свободного ухода из Пелопоннесса.
Воспользовавшись этим, сторонники демократии, и первый из них Эфиальт, перешли в наступление на привилегии родовой знати, и в 462 году народное собрание приняло закон, лишавший Ареопаг большей части его прежних прерогатив. Кимону, подвергнутому остракизму, пришлось удалиться в изгнание (461 год), и теперь все дела в Афинах решал афинский демос и те, кто его возглавляли, Эфиальт и Перикл.
Перикл, сын Ксантиппа, героя воины с персами, стал тем человеком, общественным и политическим деятелем, который довел до наивысших успехов свершения афинской рабовладельческой демократии, превратив родной город в Око Эллады и оставив по себе славную память в веках. Ведь недаром, согласно преданию, его матери был сон, что она родила льва. Новый вождь афинского демоса был из очень знатного рода, по матери – родственник знаменитого реформатора Клисфена, получил прекрасное воспитание, питал интерес к философии и искусствам (он учился у софиста Дамона и слушал лекции философа Зенона из Элеи) и, как пишет об этом Плутарх, «стал на сторону демократии и бедных, а не на сторону богатых и аристократов – вопреки своим природным наклонностям, совершенно не демократическим». Возможно, что так оно и было. Но в то время для каждого, кого беспокоила судьба Афин или же манила к себе политика, становилось все более очевидно, что только демократия способна обеспечить полису дальнейшее развитие, и, что только опираясь на народ, можно что-то сделать и как-то выдвинуться. Землевладельческая аристократия уже не могла претендовать на то, что она представляет собой хозяйственную основу общества: хлеб, как и многие другие продукты питания, теперь ввозили главным образом с берегов Эвксинского Понта. Многочисленные суда доставляли в Пирей рыбу, сушеные фрукты, мед, масло и вино, не говоря уже о дорогих тканях, шерсти, украшениях и прочем, почти со всех сторон Средиземноморья, даже из далекой Кирены (Северная Африка). В Канфаре, одной из гаваней Пирея, склады ломились от различных товаров, афинский порт стал перевалочным пунктом, куда прибывали, платя огромные пошлины, купцы со всей Ойкумены, так что ежегодный товарооборот достигал порой колоссальной суммы – двух тысяч талантов. И не аттическим земледельцам, порядком разоренным войной, так что многие из них навсегда покинули родные поля и переселились в Афины, не им, а ремесленникам, производящим множество товаров на вывоз, мореходам, богатеющим день ото дня судовладельцам и дельцам – вот кому пришло время решать дела полиса, определять его пути и положение в Греции.
Постепенно Перикл сосредоточил в своих руках все дела в полисе, стараясь в то же время оставаться справедливым и кротким в обращении с народом, терпеливо снося насмешки и даже оскорбления от граждан, чем-либо им недовольных. Его безусловная честность, бескорыстие в служении городу, преданность демократии снискали ему любовь и уважение большинства твердо верящих в него афинян. Стремясь довести до конца начатое вместе с Эфиальтом (убитым в 461 году), Перикл продолжал теснить аристократию, стремясь расширить права малоимущих и неимущих афинских граждан: так, через несколько лет, в 457–450 годах, должность архонтов, бывшая ранее привилегией знати, стала доступной для свободного гражданина любого происхождения. Среди всех этих важных дел Перикл не утратил, однако, интереса к искусствам и философии, к одаренным, образованным людям, таким, как софист и музыкант Дамон, скульптор Фидий, философ Анаксагор, в обществе которых он любил проводить свой досуг.
С укреплением демократии стал более заметным отход от многих традиционных представлений и верований, казавшихся просвещенным афинянам уже устаревшими. В поисках объяснения мира молодежь все чаще обращалась к различным философским учениям, стремясь постигнуть веками накопленную мудрость. Люди поколения Еврипида, верящие в себя и в набирающую силы демократию, стихийно тяготели к материалистическому объяснению мира, тому объяснению, основы которого заложили еще в прошлые века натурфилософы: Фалес, считавший воду главным элементом многообразного и в то же время единого мира, Анаксимандр с его учением об апейроне – бесконечной, бессмертной, находящейся в вечном движении первостихии и его последователь Анаксимен, для которого воздух являлся первоначалом всего сущего, а наш мир был лишь одним из бесконечного множества неизвестных миров. Стремящиеся познать закономерности жизни читали Ксенофана, философа и поэта, утверждавшего, что из земли все возникло и в землю все обратится, и сомневавшегося в том, что миром правят божества, похожие своим видом на людей. Философы этого времени, середины V века, такие, как Левкипп, стремились развивать дальше концепции ионийцев, отстаивая атомистическое устройство мира и считая, что в основе вселенной лежит бесконечное множество находящихся в вечном движении элементов…
Афиняне Еврипидовой юности жили в своем большинстве просто и даже скудно: одевались без роскоши, завтракали обычно горстью маслин с лепешкой, обедали гороховой или ячменной похлебкой, вареными овощами и рыбой, мясо ели только по праздникам, пили разбавленное вино, обитали (и даже такие аристократы, как Кимон) в грубо сложенных, низких домишках, но многим из них, ровесникам битвы при Саламине, были присущи дерзость мысли и безоглядная смелость, с которой они пытались проникнуть в великие тайны вселенной. Этот век дал немало просвещенных людей, для которых осмысление мироздания и человеческого бытия казалось не менее, а может быть, даже более важным, чем их собственная жизнь с ее каждодневными заботами и удовольствиями. К таким принадлежал и Еврипид, о чем говорит и его творчество, и весь его жизненный путь, поскольку уже в молодом возрасте он обратился (насколько это позволяло ему положение афинского гражданина и воина) к поискам смысла и закономерностей жизни, к изучению философии. И возможно, что он сделал бы немало в этой области, следуя своим знаменитым учителям (тому, кто давно уже не существовал, – Гераклиту, и тому, кто жил рядом с ним, – Анаксагору), если бы не манила его задача еще более сложная – соединить философию с поэзией, сделать театр еще большей школой просвещения сограждан, приобщения их к тем вечным истинам, которые открывались ему самому на долгом пути познания жизни.
Гераклит, к основным положениям которого постоянно обращался впоследствии в своем творчестве сын Мнесарха, был властителем дум того времени. Он поражал уже современников гениальностью своего разума, проникавшего в глубины вселенной, хотя многое в его трудах и речениях было неясно и понимаемо с трудом, за что философ был прозван Темным. Он жил полувеком раньше Еврипида в Эфесе, по преданию, вел аскетический образ жизни, стоял в стороне от политики и часто уединялся в горы, целиком погружаясь в свои размышления. Его учение о диалектике – внутреннем диалоге всего сущего увенчало собой вековую работу мысли ионийских натурфилософов, в свою очередь, многое почерпнувших из наблюдений египетских и вавилонских жрецов. В своем сочинении «О природе», написанном изысканным, сложным, полным афоризмов языком, Гераклит утверждал, что «мир единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим», что все во вселенной, в том числе и человеческая мысль, развивается в вечной борьбе противоречий и что эта «борьба – отец всех вещей». Все относительно, все преходяще, учил гениальный Эфесец, но из единства противоречий и образуется скрытая гармония мира.
Пойдя дальше своих предшественников, Гераклит стремился постигнуть не только законы великого Космоса, но и того микрокосмоса, который заключен в каждом из смертных. Возможно, что и Еврипида (трагедии которого – это трагедии всепоглощающих страстей, более сильных, чем сам Рок, трагедии человеческого сердца, его падений, взлетов и заблуждений) привлекала прежде всего та часть философии Гераклита, которая объясняет природу человека. Веря в существование души, которую он представлял себе как одно из состояний огня – первоначала всего сущего, Гераклит придавал огромное значение разуму, считая его основным орудием познания мира. В способности разума к обобщению, синтезу, к сведению в одну мысль разнородных явлений мироздания и бытия великий философ видел разницу между умными и глупыми людьми: умный стремится познать общее, глупый удовлетворяется деталями.








