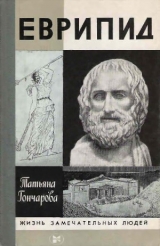
Текст книги "Еврипид"
Автор книги: Татьяна Гончарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Я зависти небесной не боюсь
И солнцу говорю: «Гляди – я счастлив».
Узнав в конце концов о смерти Алкесты, смущенный Геракл решает искупить свое невольное кощунство и вырвать «цвет цариц» у смерти. Совершив это, он приводит царицу во дворец и просит Адмета временно приютить ее, скрытую под покрывалом, выдав за свою рабыню, полученную в качестве приза на состязании. Какова же была радость царя и всеобщее счастье, когда он узнает в незнакомке утраченную и вновь обретенную жену. Так благодаря Гераклу трагедия завершается счастливым концом.
В этой трагедии есть уже все, что характерно для драматического мастерства Еврипида и будет присутствовать так или иначе в каждом из его последующих произведений: и отзвуки софистических споров (в перебранке Адмета с отцом), и вызов традиционным устоям, и психологическая углубленность характеров, какой не знали Эсхил и Софокл. Подтачиваемый тщательно скрываемой слабостью, Адмет открывает собой длинную вереницу внутренне несостоятельных царей и героев, а жалкий птенец, мальчик Евмел, у которого зависть богов отнимает опору всей его жизни – мать, найдет потом повторение во всех маленьких жертвах людской и божьей жестокости в трагедиях Еврипида:
Сыну ж зачем сиротой,
Зная, велела ты жить?
.
Мать, послушай меня,
Сына послушай, молю.
Это к холодным губам
Твой детеныш приник.
Любовь и страдание, связанные нерасторжимо, эти вечные спутники человека – зачем они даны ему? Эта тайна всю жизнь волновала беспокойного сердцем сына Мнесарха, тайна, постичь которую он так и не смог.
Глава 4
«ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
Хотя военные действия между Афинами и Спартой на время прекратились, обстановка продолжала оставаться напряженной, и с огрублением нравов, неизбежно сопутствующим тяготам войны, все больше появлялось таких, которые открыто выражали сомнения в пользе философии, а также поэзии, воспевающей любовные страдания, а не героические свершения на благо отечества. И действительно, нетленное сияние вечных истин, непреложная ценность законов бытия, открытых великими философами, как будто бы немного померкли в удушливой пыли сражений, когда казалось порой, что людям так никогда и не подняться выше насилия и крови, без конца проливаемой ими от сотворения мира:
Удары щит о щит, и крик, и стон
Поднялись вихрем тяжким… И напор
Копейщиков аргосских очень скоро
Прорвал ряды афинские… потом
Враг отступил… по грудь на грудь вторично
Сошлись мы с аргосцами… И бой
Упорный загорелся. И убитых
Тут полегло немало…
И когда трагический поэт Еврипид – живой, хранимый богами! – вновь оказался у себя дома и надолго засел в своей комнате, заваленной рукописями, папирусами, театральной бутафорией, и стал перечитывать, чтобы успокоить взмятенную душу и разбегавшиеся мысли, любимые места из Гераклита, он совсем по-иному увидел теперь и открытую им диалектику, и закон – в сущности, очень страшный закон – извечной борьбы противоречий: «Безумные, поймите долю смертных: вся жизнь – борьба». Но шли дни, проводимые за чтением бессмертных философов и старинных поэтов, Симонида, Мимнерма, Эзопа, душа его успокаивалась и омывалась, точно усталое тело от липкого пота и пыли военных походов, сын Мнесарха опять возвращался в свой мир – тот, для которого и только для него одного он был создан, – и вера в жизнь, надежда на лучшее снова одерживали верх над тяжелыми сомнениями, над все чаще дающей о себе знать усталостью:
. и в жизни смерч,
Как в поле ураган, шумит не вечно:
Конец приходит счастью и несчастью…
Жизнь движет нас бессменно вверх и вниз,
А смелый – тот, кто не утратит веры
Средь самых тяжких бедствий: только трус
Теряет бодрость, выхода не видя…
Все снова, казалось, вошло в свои берега: город процветал под мудрой эгидой Перикла; дети росли, радуя быстрым умом и успехами в ученье; служение музам целиком заполняло блаженный досуг, и не хотелось думать о том, что все это может внезапно окончиться и он снова наденет доспехи. Однако несколько лет войны не прошли для поэта даром: медленно, но неуклонно в нем росло неуважение к согражданам, недоверие к людям вообще, людям, которые звереют от запаха вражеской крови; он еще больше, чем прежде, чуждался общественных дел и, очень редко появляясь на площади, вступал в разговор лишь с немногими, уклоняясь от обсуждения городских сплетен и всякого рода новостей, до которых были падки афиняне. Ему, привыкшему к общению с философами (и живыми, и уже покинувшими этот мир, но обретшими бессмертие), часто было просто нечего сказать тому или иному из сограждан, озабоченных перипетиями политики или же ценами на рынке, и поэтому о нем все чаще говорили как о человеке излишне высокомерном, невоспитанном и мизантропе.
Впрочем, Еврипида особенно не волновало общественное мнение, что отмечают все биографы, и он, возможно, был даже рад тому, что ненужные приятельские связи, пирушки и всякого рода собрания, до которых он был такой неохотник, не нарушали его уединения, целиком посвященного Высокому и Прекрасному, тому осмыслению, познанию закономерностей человеческой жизни, средством которого была для него трагедия. Пытаясь нащупать эти закономерности, он погружался в глубины навсегда ушедшего времени, запечатленного в мифах, и эти сказания (древнейшие дофессалийские легенды о живших когда-то на землях Эллады благородных титанах, создателях циклопических построек, остатки которых еще можно было видеть; о бессмертных обитателях Олимпа, сокрушивших титанов, богах могущественных и прекрасных, но как своим видом, так и поступками очень напоминавших непостоянных в своих чувствах и действиях смертных людей; и наконец, предания совсем недавнего времени, о царях и героях Троянской войны), весь этот огромный и сложный, уже исчезнувший и в то же время на века оставшийся мир стал постепенно для сына Мнесарха столь же знакомым, реальным и близким, как и окружавшая его жизнь. И хотя там, где раньше была Троя, теперь паслись овцы и ползали черепахи, мужчины и женщины из царского дома Приама словно бы продолжали жить дальше в тех людях, которых разгоревшаяся война (оказавшаяся, пожалуй, пострашнее Троянской) ввергла в такие страдания и беды, которых, может быть, не знали и герои Гомера. В словах и поступках этих мифических героев Еврипид стремился найти и выделить те общие для людей всех времен и народов закономерности, которые казались ему аксиомами, а если не находил их или же внутренний мир этих древних царей, цариц и героев представлялся ему недостаточно сложным, он сам наделял их в своих трагедиях теми чертами, которых, по его мнению, им недоставало. Поэтому в общем достаточно символические образы ахейских пращуров и их троянских врагов, колхидских и египетских царевен, малоазиатских властителей чуть ли не хеттского времени, о которых остались лишь смутные воспоминания, представали в его творениях настолько подобными тем, что заполняли в дни Леней или Великих Дионисий амфитеатр, что это казалось недопустимой вольностью, неоправданным нарушением священных законов трагедийного искусства.
Его герои жили в мире таком, каким представлялся он самому Еврипиду, – в мире, где нельзя безнаказанно проливать чью бы то ни было кровь (и поэтому ахейцы расплачивались за подвиги победителей Трои) и нарушать, даже во имя благополучия племени, тот высший закон справедливости и милосердия, благодаря которому, и только ему одному, до сих пор держится общество, как бы люди ни пытались низвергнуть этот великий закон. Миром его трагедий, таким сложным, противоречивым и в общем неуправляемым, движут не боги и даже не судьба, а те непознаваемые, часто темные силы, что таятся в душе человека, перед которыми порой бессилен сам человек и которые губят его безжалостнее и страшнее, чем боги. Эта великая тайна манила поэта всю жизнь: почему время от времени в людях вдруг поднимаются, точно смерчи, демонические страсти, сея смерть и разрушение, проносятся и стихают, оставляя после себя обломки человеческих жизней и судеб?.. Он пытался найти разгадку трагического в самом человеческом сердце, и это казалось натяжкой, излишними умствованиями его соотечественникам, которым не нравилось узнавать какие-то из собственных черт в этих странных героях угрюмого поэта с их раздвоенным, растроенным, расчетверенным внутренним миром, растворившихся в бездне сомнений, сокрушаемых собственными слабостями и ошибками… Это раздражало еще и потому, что жизнь вокруг, казалось, прочно вошла в свою колею и афинское общество благоденствовало благодаря демократии и политическому гению Перикла.
Он пользовался непререкаемым авторитетом у народа, убежденного в его честности, бескорыстии и глубочайшем патриотизме. По свидетельству античных историков, первый стратег никогда не заискивал перед собранием, не говорил ему в угоду и даже нередко с гневом возражал тому или иному оратору, твердо придерживаясь той политики в делах внутренних и внешних, которая представлялась ему наиболее правильной и целесообразной. Появляясь среди народа лишь по временам, он каждый раз вызывал невольное восхищение своим умным, красивым лицом, недоступным смеху, спокойной походкой, скромной одеждой и ровным голосом; в народном собрании выступал не по всякому делу, проводя свои многие начинания через друзей. И как бы ни злословили по этому поводу комедиографы, все в Аттике, да за ее пределами, были согласны, что прозвище Олимпиец (данное Периклу то ли за его успехи в государственных и военных делах, то ли за те бесподобные сооружения, которыми он украсил город) как нельзя более пристало всегда величавому и невозмутимому первому гражданину Афин. Он правил во имя народа, но никогда не шел у него на поводу, и жизнь его, как пишет Плутарх, «несмотря на его могущество, осталась чистой и незапятнанной».
Стремясь укрепить давние связи со странами Понта, откуда доставляли в Афины хлеб, рыбу и лен, пеньку, смолу, шкуры, воск, мед, строевой лес и рабов и куда отправляли из Аттики посуду, различные украшения, лампы и произведения искусства, Перикл во главе могучей эскадры предпринял в 437 году поход к берегам этого моря. Демонстрируя мощь афинского флота и оказывая на всем пути поддержку местным грекам-колонистам (так, в Синопе отряд под командованием Лисимаха походя сверг тиранию), афиняне через Эгейское море, Геллеспонт и Пропонтиду дошли до далекого побережья Кавказа и, возможно, даже побывали в Крыму. В этом же году они закрепились и на Фракийском побережье, в устье реки Стримон (в бытность свою эфебом там побывал Еврипид), где на месте поселения «Девять дорог», на путях из Геллеспонта в Македонию, был построен город Амфиполь. Одновременно, чтобы усилить влияние Афин и на западе, Перикл задумал основать в Италии, на месте разрушенного кротонцами города Сибариса, новую колонию афинян и их союзников под названием Фурии; это дело пришлось по душе многим, и ему вызвались в этом помочь историк Геродот, архитектор Гипподам и даже софист Протагор, написавший для нового города демократические законы. И хотя военное превосходство афинян (их огромный флот в четыреста триер и армия в двадцать семь тысяч человек, в которой служили все граждане в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет), а также их монополия на торговлю в Эгейском море вызывали все большее недовольство союзников, преимущества Морского союза, способствовавшего развитию и процветанию многих входящих в него городов и островов, оказывались в большинстве случаев сильнее недовольства и около двухсот небольших греческих государств продолжали регулярно выплачивать установленный форос и содержать афинские гарнизоны.
В эти счастливые годы преуспевания и могущества деньги рекой текли в казну государства на Парфеноне: форос союзников, пошлины, взимаемые в Пирее с привозимых купцами товаров, доходы от рудников и различных промыслов. Афинские ремесленники поставляли свои товары (ткани, оружие, лампы, краснофигурные и чернолаковые вазы, ювелирные украшения) в самые различные области эллинского мира, вызывая зависть и гнев пелопоннесских конкурентов, и особенно Коринфа. И хотя труд ремесленников не считался в Афинах почетным занятием для свободного гражданина, Перикл покровительствовал людям физического труда, привлекая их к осуществляемым им строительным работам и считая, что каждый каменотес, плотник, кирпичник или кровельщик может с успехом сочетать занятия своим ремеслом с исполнением политических обязанностей гражданина Афин. Государство заботилось и об обездоленных: для сирот, калек и нетрудоспособных выделялось по одному-двум оболам в день, что позволяло им вести жизнь хотя и скромную, но все же не унизительную для свободнорожденных. За счет казны воспитывались сыновья тех, кто погиб на войне. Но в то же время различного рода раздачи, все более частые и пышные зрелища, оплачиваемые в основном богатыми людьми, бани, гимнасии, общественные врачи и особенно все увеличивающееся число рабов, освободивших значительную часть афинян не только от тяжелого труда на земле или в мастерской, но даже от домашней работы, – все это способствовало постепенному развитию паразитической психологии у многих из граждан, тяготению к праздности и роскоши. И если раньше богатый дом и щегольство в одежде считались признаком олигархических наклонностей, то теперь многие богатые люди, не стесняясь, стремились превзойти друг друга в роскоши, вызывая зависть и тщетные попытки подражать у людей менее обеспеченных. Скромность образа жизни вызывала насмешливое презрение, и такие непритязательные во всем умники не от мира сего, как философ Анаксагор или же посредственный, по-видимому, трагический поэт Еврипид, казались попросту лишенными нормального здравого смысла.
Как отмечают его биографы, Еврипид и в этом, уже довольно зрелом, возрасте продолжал ревностно заниматься философией и риторикой (и это тоже должно было казаться странным тем, кто знал сына Мнесарха, ибо его никогда не видели на ораторской трибуне), обучаясь последней у Продика Кеосского и, конечно же, у Протагора, который в 432 году опять появился в Афинах, – и это был настоящий праздник для всех любителей красноречия, ибо, как писал об этом впоследствии философ Платон, мудрость Абдерита притягивала даже больше, чем божественная красота знатного юноши Алкивиада, о котором в ту пору вздыхали десятки поклонников. Возможно, где-то именно в эти годы имел место знаменитый спор Протагора и Сократа о добродетели, то собрание мудрецов «золотого Периклова века» в доме богача Каллия (там были Гиппий Элидский, Продик, Критий, Алкивиад и сыновья Перикла), которое через многие годы воссоздал в одном из своих диалогов Платон. Многим в Афинах эти собрания казались весьма подозрительными, а комические поэты уверяли, что нищие продавцы ложной мудрости ошиваются в доме богача главным образом в надежде на то, что и им перепадет что-нибудь от богатого стола.
В эти последние два года мира и благополучия Еврипид, по-видимому, был особенно близок с Протагором; в его доме великий софист читал свое знаменитое сочинение «О богах», в котором, в частности, говорилось: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни». И даже если Абдерит признавал возможным существование какой-то высшей силы, стоящей над миром и управляющей им, то уж никак не считал такой силой традиционных олимпийцев, так же как и скептически относящийся к гомеровским богам сын Мнесарха. Обычно их беседы сводились к проблемам нравственности, ибо с каждым годом становилось все очевиднее, что по мере того, как росло благополучие Афин, в которых утонченная образованность соседствовала с невежественным консерватизмом и суевериями, по мере того, как увеличивалось количество денег в казне, рабов и дорогих вещей в частных домах, по мере того, как изживала себя традиционная полисная мораль, умалялись и даже как будто бы исчезали вовсе прежние качества афинян и казавшиеся вечными добродетели. И если столетием раньше все более или менее твердо представляли себе, что такое добро, честность, долг, постигая это не путем личных размышлений и философских бесед, а усвоив с раннего детства по стихам Гесиода и Солона, по идущей из глубины веков традиции, то теперь это знание словно исчезло куда-то и надо было всему давать новое определение, воспитывать новое понимание.
Оказалось, что добродетели, правильному образу жизни нужно учить – и вот эту-то роль воспитателей добродетели взяли на себя софисты, а также такие их последователи, как поэт Еврипид. Добро надо делать не из страха перед карой богов или общественным мнением, а потому, что оно добро, учили они, «и в этом деле – в добродетели – не должно быть невежд, или же иначе и не быть государству». Понимая добродетель как наилучшее нравственное состояние, способствующее активной и полезной деятельности каждого человека, считая даже мудрость только одной из важнейших частей добродетели, они настаивали на том, что нравственность необходимо поднять всеми возможными средствами, что «необходимо всякому так или иначе быть причастным добродетели, в противном случае ему не место среди людей».
«Добрым быть нелегко», – изрек когда-то мудрец Питтак; «Но добродетель от нас отделили бессмертные боги тягостным потом», – писал патриарх Гесиод; «Добродетель можно и должно воспитывать», – утверждали софисты. Об этом же говорил с каждым годом все яснее и настойчивее и Еврипид со сцены театра Диониса, и диалоги его героев во многом повторяли споры софистов об истине, правде и смысле жизни, что делало подчас тяжелыми для восприятия его трагедии, и не нравилось зрителям. Афиняне не только не спешили поучиться разумному образу жизни у новоявленных учителей, но с возмущением отрицали за ними такое право, советуя им ограничиться преподаванием риторики (это еще куда ни шло, поскольку выступать в Народном собрании и в суде хотелось бы каждому) и изучением грамматики.
Афинянам попроще казались просто опасными попытки софистов и тех, кто следовал им, разобраться в таких вопросах, которых вообще дозволено касаться лишь очень немногим, и уж, конечно, не фракийским или кеосским бродячим торговцам сомнительной мудростью, а именно – в вопросах гражданского права и государства как такового, в котором софисты видели не древнейшее установление богов, их мудрый дар людям, а – или сознательную организацию людей с целью взаимного блага, основанную на незыблемых нравственных нормах, на чувстве стыда и правды, или даже добровольный «договор» между людьми, который может быть расторгнут, если он перестанет устраивать всех. Неискушенным в философии и не слишком-то образованным людям (а их в городе было большинство) было непонятно противопоставление законов природы и общества. Тем, кто все больше проникался сознанием своего превосходства над варварами-рабами, казались ненужными и даже опасными гуманизм софистов, их отрицание насилия и апелляции к справедливости, к законам «естественного равенствам всех населяющих землю людей. А их релятивизм, который чувствовали, по-видимому, даже те, кто толком-то и не разбирался в сущности философских построений, такие тезисы, как утверждение Горгия о том, что «ничто не существует, а если и существует, то непознаваемо, а если познаваемо, то не может быть передано и объяснено другим», внушали просто страх.
И действительно, сама мысль о том, что бытие и небытие, в сущности, тождественны и равноправны (мысль, привлекательная для всех софистов, но пока не у всех них главенствующая), хотя и свидетельствовала о той глубине познания, к которой стремились наиболее сильные и смелые умы того времени, но в то же время размывала границы этого мира и делала словно бы совершенно несущественными не только дела и заботы обычных смертных, столь далеких от совершенства, но и даже само их существование… Все эти мудрствования раздражали не только комических поэтов, но и – что было гораздо серьезнее – людей, заправляющих теперь делами города, и только покровительство Перикла мешало им поставить на место зарвавшихся умников (чье очевидное всем нечестие могло навлечь на афинян страшные беды) или даже попросту вышвырнуть их за пределы Аттики.
Что же касается Еврипида, то для него большинство из тех истин, которые внушали софисты, не вызывало никакого сомнения; ко многим из них он пришел, по-видимому, сам еще до знакомства с Протагором или Продиком, изучая писания Гераклита, и он тоже пытался донести их до сердца и разума афинян, хотя пока еще не так настойчиво и прямо, как впоследствии, лет десять-пятнадцать спустя. Подобно своим учителям Протагору и Продику, он был преисполнен почти мистического благоговения перед Словом – великим Логосом, преобразующим смутный Хаос жизни в стройную систему мироздания, перед этим первым орудием разума (а может быть, и его формой), и он не видел ничего предосудительного в том, чтобы обучаться искусству говорить за дорогую плату, – ведь не жалко же людям тратить гораздо большие деньги на вещи, часто бесполезные:
. . зачем,
О, смертные, мы всем другим наукам
Стараемся учиться так усердно,
А речь, единую царицу мира,
Мы забываем? Вот кому служить
Должны бы все, за плату дорогую
Учителей сводя, чтоб, тайну слова
Познавши, убеждая – побеждать!
Однако театр, который Еврипид стремился сочетать с философией и который стал его главным призванием, диктовал свои собственные условия, и тот, кто мечтал, кто надеялся стать в нем первым, должен был в той или иной мере этим условиям подчиняться. «Организуя из года в год игры и жертвоприношения, мы доставляем нашей душе возможность получить многообразное отдохновение от трудов», – утверждал Перикл, покровительствовавший театру в той же мере, как и всем прочим искусствам, и не жалевший денег на пышные празднества, которые вызывали почтительное удивление у иноземцев и тайное возмущение у союзников, подозревавших, что вся эта роскошь оплачена в значительной степени ими. Театр был призван воспитывать, возвышать, успокаивать душу, вселяя в нее высокое умиротворение и трепетное подчинение вечным и непреложным законам бытия, и в этом смысле произведения трагического поэта Еврипида вызывали нередко большие сомнения как у устроителей очередных Дионисий или Леней, так и у самих зрителей.
Впрочем, независимо от того, какие задачи ставили перед театром политики или же сами поэты, священные состязания в честь Диониса с каждым годом все больше превращались в развлечение, с нетерпением ожидаемое народом весь год. В дни представлений зрители заполняли театр с рассвета до самого вечера, там же ели и пили, принося еду с собой или же покупая у тут же снующих многочисленных лотошников. Одетые в праздничные одежды, сверкая накрахмаленными и тщательно отутюженными складками льняных белоснежных гиматиев, афиняне с нетерпением ждали появления любимых поэтов и актеров. Перед самим представлением выносились для всенародного обозрения золото, форос союзников; затем на орхестру выходили вооруженные юноши, чьи отцы сложили головы за отечество, и глашатай торжественно провозглашал, что, вскормив их, афинский народ теперь поручает достигших совершеннолетия богине счастья. Потом награждали золотыми венками отличившихся в течение года граждан и, наконец, окропляли алтарь Диониса кровью свиньи. После этого звуки трубы возвещали о начале той трагедии, автору которой выпал в этот раз жребий выступать первым. Не привыкшая ни в чем себя стеснять афинская публика тут же давала свою оценку представленным пьесам, поэтам и исполнителям, не жалея восторженных криков и рукоплесканий для своих, всем известных любимцев, и шикала, свистела, стучала ногами, если что-либо ей не нравилось. Бывали случаи, когда актеров прогоняли со сцены камнями, грозились избить самого поэта и требовали прекратить немедленно пьесу, слишком, на взгляд зрителей, непристойную или же жестокую. И, как доносят до нас античные авторы, такая печальная участь постигала трагедии Еврипида значительно чаще, чем творения прочих поэтов, и заставляла его втайне недоумевать и завидовать Софоклу, продолжавшему вызывать неизменное и почтительное восхищение сограждан.
Они были соперниками на сцене почти сорок лет, эти два великих поэта античности, каждый год выставляя на суд афинян свои равно бессмертные творения и идя бок о бок в искусстве, хотя каждый своим, неповторимым путем, и, как сообщают их современники, между ними всегда пролегало холодное недопонимание. Вряд ли можно отрицать то, что Еврипид порой испытывал чувство зависти к своему более счастливому собрату по служению Мельпомене, во всяком случае, он замечал – мимоходом, но с горечью, а может быть, даже с легкой насмешкой над собственной слабостью, – что «и Музы двух мирных за пальму поссорят певцов». К тому же уж очень они были разные люди и разным было их понимание цели, содержания и смысла искусства трагедии. Воспитанный «в богатстве и холе», сведущий в музыке и даже как будто бы в медицине, наделенный огромным поэтическим дарованием, но в то же время не чуждый и делам города, доброжелательный и приятный характером, сын Софилла пользовался любовью и уважением афинян в той же мере, в какой резкий и угрюмый Еврипид вызывал их недоумение и раздражение. Безусловный сторонник демократии и друг Перикла, Софокл по мере своих сил поддерживал его политические начинания, «честный гражданин на службе у полиса»: еще в 443 году он был избран казначеем Делосского союза, а во время войны с Самосом был назначен стратегом, хотя, как поговаривали в Афинах, Перикл использовал его больше для переговоров, чем для сражений, не особенно доверяя его воинским талантам. Если верить Плутарху, великий устроитель Афин немного посмеивался над жизнелюбием своего просвещенного друга – служителя Муз, над его нескрываемым тяготением к различного рода удовольствиям, однако чрезвычайно высоко ценил его как поэта, считая, подобно большинству афинян, поистине совершенством трагедийного мастерства его возвышенные произведения.
«Гомер греческой драматургии» (так называли его современники), Софокл видел в служении Аполлону свое жизненное предназначение и, стремясь способствовать развитию театра, даже создал в Афинах Общество почитателей Муз. За свою долгую жизнь он написал 123 трагедии и сатировские драмы, из которых до нашего времени дошло только семь. Творения его восхищали современников своей светлой гармонией и простотой, столь далекой от сумрачного величия Эсхила и необузданной страстности Еврипида. Он редко выводил на сцену богов, почти не применял театральные машины, в его трагедиях нет пышных въездов царей, торжественных процессий и таинственных призраков, но за этой сдержанностью в использовании чисто внешних эффектов стояло бесконечно глубокое проникновение в закономерности бытия, в сокровенные тайны природы человека. Его «ищущие величия» герои, в которых проглядывают благородные черты лучших людей «Периклова века», стремятся преодолеть фатальную ограниченность человека, его подчиненность обстоятельствам в своем поистине героическом утверждении вечных законов Справедливости. А если они и заблуждаются, то только от неведения, и даже в самом бездонном страдании не утрачивают лучших человеческих черт, веру в жизнь, в ее высший, пусть не всем и не сразу открывающийся смысл.
И представляется странным, что как в античности, так и до сих пор бытует мнение, что Софокл избегал-де касаться в своих трагедиях «низких тем» и в них почти не видны основные проблемы его сложного времени. Напротив, даже те семь трагедий, которые сохранило для нас равнодушное время, свидетельствуют о том, что душу и ум этого утонченнейшего из афинян, почитаемого соотечественниками за образец совершенства внутреннего и внешнего, волновали те же самые вопросы, обсуждению которых посвящали свои вошедшие в бессмертие собеседования мудрецы и философы, и главный из этих вопросов – о добродетели. Просто сын Софилла по-своему отвечал на тот поиск высокой нравственности, гуманизма и справедливости, к которому обратились в тот период распада старинных устоев лучшие эллинские умы, и ответ его не лежал на поверхности, хотя был зачастую значительно более емким и точным, чем у софистов или же у Еврипида. Его правда казалась более светлой и убедительной большинству соотечественников, зрителей приводили в восхищение стоические в самой страшной своей судьбе герои Софокла (их долгие годы играли актеры Тлеполем, Клидемид, Каллипид) с их внутренней гармонией и поистине божественной силой, и по сравнению с ними подчас внушали отвращение и ужас подточенные собственными слабостями, растерзанные неуправляемыми страстями фигуры (не всякий даже решился бы назвать их героями в привычном понимании этого слова), которых без чувства меры и без стыда, как считали сограждане, продолжал выводить на сцену Еврипид. Многим в Афинах казалось возмутительным, что такие пьесы, как поставленная весной 431 года «Медея», вообще допускаются для представления.
В этой трагедии, представленной вместе с не дошедшими до нас «Филоктетом», «Диктисом» и сатировской драмой «Жнецы» и получившей, как обычно, третью награду (в городе поговаривали о том, что это всего лишь бездарное подражание «Медее» Неофрона, ничем особо не примечательного трагического поэта этого времени), Еврипид опять обратился к судьбе колхидской царевны Медеи, которая, «Ясона полюбив безумно», покинула свою далекую родину и заплатила в конце концов за свою любовь самой страшной для женщины ценой – жизнью своих детей. Это не только и не столько трагедия разбитого женского сердца, но трагедия попранного доверия, бессилия человека перед холодной, равнодушной к чужим страданиям подлостью, когда «священная клятва в пыли, коварству нет больше предела». В сущности, это ответ поэта на тот самый вопрос, который так часто обсуждали софисты, его учителя и друзья, на тот вопрос, который мало-помалу стал столь существенным для всего афинского общества, – вопрос о порядочности, о честности, о добродетели, наконец, и о страшной расплате за их безумное ли, расчетливое ли попрание…
После того как Медея расправилась с Пелием и его дочерьми, она вынуждена была покинуть Фессалию и «в Коринфе убежища искать с детьми и мужем» (как о царице Коринфа писал о Медее в своих песнях и Симонид). Но вот проходит какое-то время, и Ясон решает оставить «варварку», безродную, ничего не имеющую, к тому же слишком умную и независимую, и жениться на юной и кроткой эллинке, царевне Коринфа, чтобы унаследовать, когда придет срок, владения ее отца. Отчаянию, презрению, горю Медеи нет предела: словно обезумев от обиды, она то «кричит о клятвах и руки попранную зовет обратно верность»; то с недоумением всматривается в прошлое, не понимая, как она могла увлечься таким ничтожеством, как Ясон; то лихорадочно обдумывает страшные планы мести и зовет смерть, сломленная предательством того, кроме которого у нее нет никого из близких на всем белом свете:








