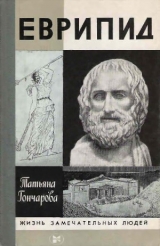
Текст книги "Еврипид"
Автор книги: Татьяна Гончарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Хотя Еврипид не появляется в этой комедии непосредственно на сцене, и сам Аристофан, и его герой Стрепсиад отмечают глубокую близость его трагедий к учению Сократа, считая, что нравственная порча от них идет не меньшая, чем от умствований Кривды. Намекая на хорошо всем известный ответ оракула, Федиппид спрашивает отца:
…Признать готов ты Еврипида
Мудрейшим из поэтов всех?
На что Стрепсиад только сокрушенно охает:
Мудрейшим? Ах ты, горе!
Как обругать тебя?..
Для аристофановских персонажей, так же как для большинства простых афинян, и Сократ с его «даймоном», и Протагор, считавший, что краткость человеческой жизни не позволяет выяснить до конца вопрос о существовании богов, и Еврипид, искавший в глубоких сомнениях и мучительных метаниях духа объяснения конечной цели мира и бытия, – все они равно были нечестивыми безбожниками и развратителями молодежи. В народе, и особенно среди крестьян, сохранивших во многом мифологизирующее мышление патриархального земледельца, была еще крепка вера в олимпийских богов, но для просвещенных, философски образованных людей уже было ясно, что божества в таком виде, как их рисует поэзия Гомера, всего лишь плод человеческого воображения, и если есть Некто, движущий миром, то искать его надо отнюдь не на Олимпе и он ни в чем не похож на те прекрасные статуи, что украшают древние храмы Эллады. Но даже такие люди при всей своей вере в возможности человека и его разум, даже они не могли полностью отказаться от мысли, что жизнью рода людского управляет кто-то свыше, хотя трудно, может быть, даже невозможно понять, что представляет собой эта великая и неразгаданная сила:
Бог, или случай, или демон.
Но как глубоко ни спускайся,
Силясь постичь смертных природу, ты, —
Видишь ты только, что боги
Туда и сюда нами мечут,
Тут утонул ты, а вынырнул там,
И судьба над расчетом глумится.
Отход от традиционных верований и старых Богов, столь возмущавший то ли сохранивших былое благочестие, то ли стремящихся казаться благочестивыми сограждан, был не легкомысленным пренебрежением святынями отцов, но трудным поиском мысли, борьбой души, во всяком случае для Еврипида, поиском и борьбой, которые длились всю жизнь и так, по-видимому, остались неразрешенными. Теперь, обращаясь к его творчеству, одни видят в нем убежденного рационалиста, безбожника, воинствующего ниспровергателя традиций, другие же считают, что он был человеком глубоко религиозным. Верно и то и другое, ибо презрительный отказ от олимпийской религии, насмешки над гомеровскими богами, жрецами, оракулами и гаданиями («И что такое прорицатель? Мало он скажет правды и, сказав удачно, налжет…») сочетались у сына Мнесарха с глубинной, необъяснимой верой в некий Высший закон, который есть Высшая справедливость и который правит нашим столь далеким от совершенства миром – «тот закон, что властвует над нами, ведь по закону верим мы в богов и правду от неправды различаем».
Что же касается Зевса ли, Аполлона ли, других ли привычных богов, то вряд ли они могли, по мысли поэта, мудро править людьми, поскольку сами они несправедливы, жестоки, лживы и непостоянны, о чем свидетельствуют все их дела, отраженные в древних сказаниях. Они словно завидуют людям в коротком их счастье и никогда не поддержат в беде:
Я часто, боги, призывал уж вас
И с ласковой и с горькою мольбою:
Не вечно же обязан я страдать,
Хоть раз удачи требовать я вправе.
О да, одну мне милость окажите —
И ей навеки счастлив буду я.
Однако эта милость так и не была оказана ни самому поэту, ни большинству его многострадальных героев, которых с упорной мстительностью преследовали прекраснотелые олимпийцы, ведущие себя зачастую хуже, чем грешные и слабые люди. Один из его героев, Беллерофонт, рассуждает так: кто видит все то зло, насилие, что творится на земле, тот поймет, что никаких богов нет и все рассказанное о них – пустая сказка. Он поднимается на небо, чтобы воочию убедиться, есть ли там какие-то боги, но падает оттуда и разбивается, наказанный за свое неверие.
И в этом весь Еврипид: кичащийся свободомыслием вначале почти всегда терпит у него поражение в конце. Что это? Игра тезисов и антитезисов, воспринятая от софистов? Выработанное в течение долгой жизни убеждение в том, что любая попытка пошатнуть устоявшееся сопряжена с печальным исходом? Или же так и не нашедшая выхода борьба веры и неверия в его сложной и беспокойной душе?.. А может быть, это отражение той глубинной диалектики всего сущего, которую как никто другой чувствовал Еврипид и которая была недоступна его согражданам, упрекавшим поэта в противоречивости и даже нарочитом стремлении поддразнить их. Так, Сенека рассказывает, что однажды, когда один из героев Еврипида начал поносить богов и отрицать верования старины, возмущенные зрители потребовали удалить актера и прекратить представление. Тогда сам Еврипид вышел к публике и просил народ подождать до конца, до тех пор, пока безбожник не понесет заслуженное наказание (наказание, бывшее, возможно, лишь уступкой общепринятым мнениям да желанию поэта видеть, несмотря ни на что, поставленными свои выношенные и выстраданные трагедии).
Но годы шли, поэт старел, и, хотя он по-прежнему то и дело нападал на вероломных и себялюбивых богов, что «наш волнуют ум, чтоб в ослепленье детском мы чтили их», вопрос о существовании божественной силы становится для него все более важным. Вслед за своим бессмертным учителем Анаксагором он представлял себе эту силу в виде вселенского Разума, частица которого включена в каждом смертном, та самая «искра божия», которая и отличает его от животных:
Кто б ни был бог, исторгший нашу жизнь
Из смутного существованья зверя,
Хвала ему: он поселил в нас разум,
Через язык дал мысли понимать.
Размышляя о тернистом пути, по которому развивается род людской, не в силах уже объяснить рационалистически то, что он видел вокруг себя, смириться со злом, которое медленно убивало его и против которого он оказался бессилен, старый поэт хотел бы поверить, что она существует, какая-то конечная цель, все это оправдывающая, и что есть некто Великий, кто за все это в ответе, как бы его ни называли:
О Зевс! Что говорить про род людской,
Про ум его! Мы от тебя зависим,
Творим лишь то, чего желаешь ты.
Еврипиду хотелось верить, и с каждым годом все сильнее и необходимее, что страдание, и его собственное, и всего человечества, оправдано, что каждый в конце концов получит по заслугам, ибо бог ли, Высший ли закон, вселенский ли Разум справедлив, но скорее всего ему не удалось поверить в это и он ушел из своего непонятного и жестокого мира, так и не удостоившись божественной благодати – удела простых и наивных душ.
Философы и поэты могли сколько угодно спорить и рассуждать о природе богов и об их взаимоотношениях с людьми, а грозный Арес продолжал между тем собирать свою страшную жатву. Не прошло и двух лет после битвы у Делия, как Афинам был нанесен новый тяжелый удар: спартанский полководец Брасид захватил и склонил на свою сторону ряд союзных афинянам городов Халкидики. Важнейшим из них был Амфиполь, вся вина за падение которого была возложена стараниями Клеона на Фукидида, сына Олора (он стоял во главе эскадры, отправленной охранять побережье от спартанцев, но не сумел оказать союзному городу своевременную и достаточную помощь). Фукидид был обвинен в измене и вынужден удалиться в изгнание, где провел двадцать лет, живя на доходы от золотых приисков во Фракии, унаследованных им от своих знатных предков, и работая над «Историей пелопоннесских войн» – полной предельного реализма и вместе с тем глубочайших философских обобщений летописью своего печального времени.
Отпадение халкидских городов заставило растерявшихся от столь многих неудач афинян вступить в переговоры со Спартой, в результате чего было заключено перемирие сроком на один год. Однако Клеон, все еще не оставивший надежды вернуть утраченное и не считаясь с тяжелым положением внутри самих Афин, двинулся в 422 году на Халкидику и там в ожесточенной битве у Амфиполя нашел свою смерть.

• Гомер.

• Крепостная стена Трои.

• Диадема из клада Приама.

• Сосуд из клада Приама.

• Пилос. Фреска с изображением музыканта. Тронный зал Кносского дворца.

• Дворец в Пилосе.

• Аристофан.

• Маска раба.

• Комическая маска.

• Маска гетеры.

• Хор всадников. Ваза. IV в. до н. э.

• Сократ.

• Платон.

• Сбор оливок. Изображение на амфоре. VI в. до н. э.

• Еврипид.

• Электра и Орест на могиле Агамемнона.

• Отплытие Елены.

• Елена и близнецы Диоскуры (стела из Спарты).

• Похищение Елены (этрусская урна).

• Алкивиад.

• Подготовка к скачкам на колесницах.

• Состязание колесниц.

• Священный круг Олимпии.

• Руины храма в Олимпии.

• Состязания в беге. Ваза.

• Вручение награды победителю. Краснофигурная гидрия.

• Cицилия. Акрополь Селиунта.

• Сицилия. Храм в Сегесте.

• Дельфы. Портик у входа в святилище Аполлона.

• Дельфы. Ваза Гелона, вдали храм Аполлона.

• Дельфы. Сокровищница афинян.

• Милет.

• Дельфийский возничий. Первая половина V в. до н. э.

• Святилище в Самофракии.

• Ландшафт Южной Македонии.

• Дионис (Вакх).

• Участница дионисийских шествий.

• Танец в святилище Диониса. Аттическая ваза, V век до н. э.
Глава 7
РАЗДАВЛЕНЫ МЫ ТЯЖЕСТЬЮ ПЕЧАЛИ
Воина продолжалась, но шестидесятилетний Еврипид навсегда оставляет оружие, чтобы отдать последние пятнадцать лет своей жизни тому, что было ее содержанием и смыслом, – трагической поэзии. Эти годы напряженной работы были, по-видимому, самыми плодотворными, поскольку большинство сохранившихся произведений Еврипида приходится именно на этот период. Теперь согласно афинским законам он считался геронтом и мог рассчитывать на заслуженный покой и уважение, но старость не принесла ему умиротворения. Напротив, его испытующий ум устремился теперь всецело и неостановимо к поискам истины, и эти последние годы в Афинах, пожалуй самые сложные в его жизни, становятся для поэта годами отказа от многих изживших себя представлений, мучительной переоценки ценностей и окончательного крушения тех немногих иллюзий, которые еще могли сохраниться у готового порой впасть в отчаяние перед неустроенностью бытия ученика бессмертного Анаксагора. То, что поэт видел в эти годы вокруг себя, – увы! – так мало соответствовало или же вовсе не соответствовало умозрительно постигаемым вечным истинам, ему все больше казалось, что на его глазах на ступает тот самый пятый «железный век – век безысходных страданий», когда, как пророчили древние мудрецы, навсегда удалятся от людей их самые ценные человеческие качества, собственно, то, что и отличает их от всего иного, живущего на земле, что подходят те страшные времена, о которых писал бессмертный Гесиод, земледелец и поэт, а может быть, даже и провидец:
Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.
. . .
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от
Смертных, совесть и стыд. Лишь одни жесточайшие,
Тяжкие беды людям останутся в жизни. От зла
Избавленья не будет.
Освободившись от воинских обязанностей, которые он, верный юношеской клятве в храме Аглавры, добросовестно исполнял целых сорок лет, Еврипид совершенно отошел от общественных дел и вел уединенный образ жизни, целиком погрузившись в размышления и творчество. Он почти не бывал в Народном собрании, что, конечно же, не осталось незамеченным его недоброжелателями, предпочитая проводить дни за книгами в своей комнате или же прогуливаясь за стенами города. Со времени его полной надежд юности Афины превратились в большой, протянувшийся почти до самого моря город с прекрасными общественными зданиями, украшенный мощными тенистыми деревьями и увенчанный точно пронизанным светом беломраморным Парфеноном. На Агоре, где находились здания суда и совета, рядом с трибуной и статуями героев-эпонимов, в тени разросшихся платанов и тополей, посаженных когда-то Кимоном, располагались торговцы сыром, овощами и рыбой, горшечники и башмачники (для каждого рода товаров был свой особый ряд), здесь с утра толпился народ, делая покупки и обмениваясь новостями. За Агорой располагались кварталы ремесленников, мастерские, по-прежнему невзрачные и довольно тесные жилища афинских граждан.
По обеим сторонам дороги в священную рощу Академа, по которой обычно прогуливались афиняне, возвышались каменные стелы в честь павших героев, а в самой Академии, между старыми маслинами и вязами, тут и там стояли каменные жертвенники и статуи муз, Геракла, Эрота, Гефеста и Прометея. Когда-то здесь был старинный гимнасий для незаконных детей, где занимался атлетикой будущий спаситель Эллады Фемистокл. В тени тополей, на берегу тихой и мелководной, реки Кефис, пересыхающей в самые жаркие месяцы, любили проводить время афинские мудрецы, бегущие от суеты и напряженности раздираемого распрями города. Здесь они могли спокойно побеседовать о зле и добре, о природе добродетели и пользе просвещения, обо всем том, до чего не было дела большинству их сограждан, занятых делами более прозаичными. Обо всем том, о чем часами беседовали Еврипид и его друг Протагор, пока тот не покинул Афины, осмеянный Эвполидом в его комедии «Параситы». В этой комедии, страшно понравившейся афинянам, толпа вечно голодных нахлебников – философов, артистов и поэтов – осаждает дом богача Каллия, стараясь беззастенчивой лестью и шутовством раздобыть себе обед. И первый среди этих бездельников, живущих за счет богатых покровителей, – Протагор, самый голодный и бесцеремонный из всех, утверждающий, что парасит должен быть находчив и остроумен, иначе его выставят за дверь. Да, в глазах многих и многих великий софист, провозгласивший мерой всех вещей человека, был всего лишь нахальным бездельником, равно как и все подобные ему лжемудрецы, которые своей бесконечной болтовней о всяких ненужных вещах прикрывали, по мнению своих соотечественников, свое нежелание и неспособность к делам, действительно полезным и необходимым для общества…
С горьким чувством глубокого одиночества встречал сын Мнесарха свою старость: с женой Хирилой он к этому времени развелся, друзей у него почти не осталось, собственные дети плохо понимали его, силы были уже не те и будущее не сулило ничего обнадеживающего. Далеко ушло то невозвратное время, когда с пренебрежением молодости, которой все кажется, что ее-то уж минует чаша сия, он свысока посмеивался над стариками – они, мол, «часто смерти просят, а стоит ей приблизиться, никто уж умирать не хочет», над теми, что «питаньем, и кутаньем, и всяким чародейством продлить стремятся жизнь, борясь с теченьем времени». Теперь он сам превращался в такого старика, которому, «словно Этны тяжелые скалы, долу голову старую клонят», и не было, в сущности, никого, кто хотел бы и мог облегчить и скрасить позднюю осень его неспокойной жизни. Как вообще это свойственно людям мыслящим, привыкшим безжалостно анализировать не только то, что творится вокруг, но и каждый свой собственный день, Еврипид все чаще испытывал глубокое неудовлетворение прожитой жизнью, сознавая, что век его близится к концу, а то, что он хотел понять для себя и объяснить потом другим, не только что не объяснено, по даже не понято до конца. Он с горечью признавался себе, что наделал немало ошибок и никогда не был счастлив:
Увы! Зачем нам, смертным, стать нельзя
Вновь юными и стариться вторично!
Коль что-нибудь бывает худо в доме,
Устроим все по-новому, подумав,
Иначе в жизни. Если бы давалась
Нам два раза и молодость и старость,
Могли бы мы ошибки жизни первой
Исправить…
Однако «слепые надежды», те самые, которыми наделил некогда людей богоборец Прометей, все никак не хотели оставить стареющего поэта, тяжелые дни проходили, и Еврипиду снова казалось, что ему все-таки удастся достичь взаимопонимания с соотечественниками и даже, может быть, личного счастья. Где-то в эти годы он женится второй раз на женщине гораздо моложе его, и эта новая иллюзия любви воскрешает на время романтическую струю в его поэзии; иллюзия любви нежной и умиротворенной, как поздняя осень в окрестностях Афин, когда бурые старые холмы тихо дремлют под уставшим за долгое жаркое лето солнцем и свернувшиеся коричневые листья шуршат под ногами. Позади все бури, все грозы изнемогшего в разочарованиях сердца, все нетерпение страстей, и остались тихая радость близости и невысказанное даже себе самому стремление избежать одиночества…
В 421 году был заключен так называемый Никиев мир (подписать его было поручено стратегу Никию) на пятьдесят лет и состоялся обмен пленными, так как после кровопролитного сражения под Амфиполем благоразумие, казалось, одержало верх и в Спарте и в Афинах. Конечно, наивным было бы надеяться действительно на целых полвека мира, однако думать об этом как-то не хотелось, и сторонники прекращения войны торжествовали победу. Этой великой радостью была пронизана комедия «Мир», поставленная Аристофаном на Городских Дионисиях 421 года вместе с «Земляками» Левкона и «Параситами» Эвполида (получившего первую награду). Эта новая комедия Аристофана тут же напомнила афинянам еврипидовского «Беллерофонта», герой которого пытался взлететь на небо на крылатом коне Пегасе, стремясь проникнуть в чертоги олимпийцев. Здесь же на небо вознамерился взлететь земледелец Тригей, «виноградарь… не чинодрал, не сплетник и не кляузник», разоренный войной. Он решает раздобыть во что бы то ни стало Мир, вернуть на землю богиню Ирену и выкармливает огромного навозного жука, чтобы подняться на нем к самому престолу Зевса, «чтобы спросить, что делать затевает он с народом всем Эллады злополучнейшим».
Однако Тригея встречает один лишь Гермес, оставленный сторожить барахлишко олимпийцев, в то время как сами они удалились «в мирозданья щель глубинную», чтобы не видеть бесконечных свар и не слышать бесконечных жалоб людей. Вместо себя они оставили Раздор, «чудовищного демона», который низверг богиню мира в страшную пещеру и правит теперь на земле. Стремясь освободить прекрасную богиню, Тригей предлагает всем поселянам собраться вместе и вытащить ее из пещеры. И вот земледельцы со всех сторон Греции – беотийцы, мегаряне, афиняне и другие – все вместе освобождают прекрасную Ирену, чтобы опять можно было спокойно жить и грудиться, «вернуться поскорей на хутор и перекопать лопатой залежалый чернозем», а после долгого жаркого лета, омытого праведным потом, «жатва, угощенье, Дионисии, Софокла песни, флейты, соловьиный свист» и «стишонки Еврипида» (не унимался беспощадный комедиограф).
Совершив свой подвиг, Тригей возвращается на землю (а его жук остается на небе, возить в случае чего олимпийцев), прихватив с собой двух пригожих девчонок, Жатву и Ярмарку, первую для себя самого, а вторую – отвести в Народное собрание, где от желающих заполучить ее не будет отбоя. И вот опять Тригей дома, так и горит поработать всласть на своем клочке земли, поесть хорошенько и поспать с красоткою Жатвой:
«Оры милые», – пою я,
И настоечку хлебаю,
И за лето становлюсь
Жирен, гладок и лоснист.
Для великого комедиографа только крестьяне, трудом своих рук из века в век возрождавшие к жизни кормилицу-землю, были истинным народом Аттики, а не афинская чернь без определенных занятий и средств к существованию, заполнявшая скамьи театра Диониса: «Народ непутевый толпится у сцены. Здесь воришек не счесть. Так и шарят, чего б утащить или чем поживиться!» И он воспевал вдохновенно «сокровища все, что война отняла», – великое счастье работать на своем поле, подрезать и окапывать лозы, запасать на зиму орехи, а в ненастную погоду, когда закончен сев, пригубить с соседом домашнего винца, вспоминая события минувшей страды и обсуждая виды на будущий урожай. Со всей мощью своего неповторимого гения, со всей страстью стремящейся остановить навсегда уходящую патриархальность души Аристофан отрицал всех политиков и демагогов, потревожив бесцеремонными насмешками даже тень великого Перикла и откровенно радуясь гибели Клеона («того кожевника, что ворошил Элладу всю»), рисуя отрадную, но – увы! – утопическую картину всеобщего мира и благоденствия:
Рынок весь нам доверху добром завали!
Ранним яблоком, луком мегарским, ботвой,
Огурцами, гранатами, злым чесноком.
. .
Беотийцев увидеть позволь нам опять
С куропатками, с кряквами, с гусем, с овцой.
Пусть в корзинках притащат копайских угрей,
А кругом мы толпимся, кричим, гомоним,
Рвем из рук и торгуемся.
Это был словно крик из души земледельцев: и тех, кто еще не утратил надежды собрать когда-нибудь новый обильный урожай, и тех, кому в жалких лачугах Афин оставалось лишь вспоминать об оливковых рощах и гранатовых деревьях, вырубленных спартанцами, о своих заросших сорняками огородах…
Никиев мир, воспринятый многими как великая милость богов, казалось, давно уже отвернувших свой лик от Эллады, вселил на какое-то время надежды и в сердце Еврипида, и он приветствовал прекращение войны преисполненными патриотического пафоса трагедиями, такими, как не дошедшие до наших дней «Эгей», «Тезей» или же «Эрехтей», в которых поэт обратился к древним преданиям об устроителе Афин – герое Тезее, и первых афинских царях. Ему так хотелось верить, что вместе с войной прекратится и все то, что делало его жизнь просто невыносимой в последние десять лет, – жестокость, доносы, высокомерное невежество новоиспеченных богачей и все растущая нищета разоренного, обманутого народа, что Афины снова вернутся на завещанный им самими бессмертными праведный путь – путь бесконечного созидания:
Избран, о город, тобой
Праведный путь: вы бессмертных
Чтите, Афины, – так
Вечно творите…
Ему даже казалось, что найдутся наконец и вожди, равные Периклу или Фемистоклу, которые поведут народ Аттики к новым славным свершениям, помогут ему восстановить былое достоинство и благополучие. Именно такого вождя Еврипид видел какое-то время в прекрасном Алкивиаде, наделенном богами всеми возможными для человека совершенствами, который многим в Афинах показался в эти годы залогом спасения города и возрождения его пошатнувшейся мощи.
Трудно сказать достаточно определенно, что двигало этим до удивления красивым молодым аристократом, когда он вступил в борьбу с самим Никием, добиваясь власти в городе: жажда ли денег, поскольку он был баснословно расточителен, желание ли первенства, всегда снедавшее Алкивиада, или же политика стала для него еще одной из тех азартных игр, которым он отдавался до самозабвения с детских лет. В чем-то он, казалось, напоминал героев саламинского времени – своим блеском, удалью, разносторонними способностями, но в то же время все эти качества страдали каким-то изъяном, готовые вот-вот перейти в свою противоположность: блеск – в фальшь, удаль – в бесшабашность, широта взглядов – в полнейшую беспринципность. Это был уже не герой, а блестящий авантюрист. Сын знатного и богатого гражданина Клиния, он по матери принадлежал к роду Алкмеонидов, был племянником Перикла и постоянно выказывал себя сторонником демократии, хотя, как показали дальнейшие события, его политические симпатии не отличались особым постоянством. Владелец конных заводов, известных далеко за пределами Аттики, Алкивиад не раз одерживал победы в конских состязаниях, и когда, разгоряченный отчаянной скачкой, он первым достигал заветной мечты, казалось, что это юный бог, гордо выпрямившийся на колеснице, спустился на время на грешную землю по каким-то своим, не терпящим отлагательства делам.
Он был щедро одарен от природы и весьма образован, однако «с делами и речами государственного мужа, с искусством оратора и мудростью сочетались непомерная роскошь повседневной жизни, разнузданность в попойках и любовных удовольствиях, пурпуровые, женского покроя одеяния, волочившиеся в пыли городской площади». В 422-420-е годы Афины были буквально покорены Алкивиадом (за исключением тех немногих, что, подобно язве Аристофану, считали блестящего молодого человека не более чем «толстозадым говоруном»), поскольку тот имел счастливую способность внушать доверие и определенные надежды и богатым и бедным, и аристократам и худородным, все видели в нем спасителя и вождя: уж он-то придумает, как спасти город, и вернет назад все, что потеряно в последние годы. Хотя находились и такие, которые считали, «что двух Алкивиадов Греция не вынесла бы»…
Под обаянием этого прекрасного баловня судьбы находился какое-то время и Еврипид (возможно, блестящий аристократ напоминал ему чем-то героев его детства, победоносных Мильтиада или же Кимона) и даже написал в его честь оду. Это было во время Олимпийских игр 420 года, проходивших с особенной пышностью, потому что люди Эллады бесконечно радовались долгожданному миру и спешили воздать хвалу милостивым и вечным богам. Как в большинстве случаев, когда дело касалось Алкивиада, не обошлось без скандала: прибывший в Олимпию, он был сначала исключен из игр по обвинению в насилии, но потом это как-то замялось, и он принял участие в конских состязаниях. Как всегда несравненный и блистательный, на своих бесподобных лошадях, Алкивиад завоевал первую, вторую и третью награды, что случалось нечасто. Среди тех, кто приветствовал победителя, был и Еврипид. Много лет минуло с тех пор, как отец Мнесарх привозил его сюда, долговязого, сильного юнца, надеясь, что прохожий халдей не соврал. Но похоже, что тот бродячий гадатель был не из самых проницательных: Еврипиду так и не пришлось одерживать победы на играх в честь Геракла, да и на состязаниях во славу Диониса первая награда почти всегда доставалась не ему…
Жизнь прошла, и вот теперь разочарованным и, как говорили все, угрюмым стариком он славил прекрасного сына Клиния с венком дикой маслины на словно мраморном челе, этого не знающего поражений любимца богов: «Тебя хочу воспеть, о сын Клиния! Победа прекрасна. По несравненно прекраснее то, что выпало тебе, единственному среди всех эллинов: прийти на колеснице первым, прийти вторым и третьим, стяжать успех без труда и, с увенчанным оливою челом, дважды услышать свое имя в устах громогласного глашатая».
В этом же году Алкивиад был избран стратегом и усилил борьбу против Никия, считая заключенный им мир невыгодным и ненужным для государства. Не стесняясь называть вещи своими именами, он призывал сограждан к покорению новых земель и новых народов, чтобы восстановить пошатнувшееся благосостояние: «Мы не должны точно высчитывать размеры желательной для нас власти. На той высоте могущества, какой мы достигли, необходимо предпринимать меры против одних и не давать воли другим. Потому что нам самим угрожает опасность подчинения противнику, если мы сами не будем властвовать над ним». И вот, побуждаемые пламенными речами Алкивиада, от которых у них начинали кружиться головы, афиняне начали готовиться к новому походу, собираясь выступить против ненавистных спартанцев, едва начнется весна. Напрасно Никий, казавшийся таким старым и вялым, уже отслужившим свое рядом с полным энергии и дерзких планов сыном Клиния, призывал сограждан к благоразумию – его время кончилось, он был больше не нужен. Нужны были новые «хлебные дороги», плодородные, желательно не заселенные земли, и возникшие к этому времени серьезные разногласия между Спартой и Аргосом казались удобным предлогом для вмешательства Афин. Столь искусные в различных ремеслах, превзошедшие других эллинов во многих искусствах, потомки Тезея аплодировали «Миру» Аристофана, но мечи их и копья лежали наготове, чтобы вновь, в который уже раз, обагриться кровью соплеменников.
И все это не могло не ужасать сына Мнесарха: жизнь человеческая вообще и особенно жизнь его соотечественников, полная непоправимых ошибок, все больше казалась ему неуправляемым хаосом, над которым не властны законы разума и добра. Он отвернул свою душу от блестящего Алкивиада, лучшего из ораторов и стратегов, потому что – и это становилось все очевиднее – все его совершенства и достоинства были подвластны все тем же страшным богам, сделавшим почти невыносимым людское существование, – золоту и власти.
Всегда стремившийся жить сам по себе, Еврипид старался теперь жить именно и только так, никого не поддерживая в политической борьбе, и это было небезопасно потому что «лица, не принадлежащие ни к одной партии истреблялись обеими сторонами». Как и Сократ, он хотел бы стать выше политики, но это было невозможно, как невозможно стать вне жизни, оставаясь живым. Хотя им обоим, возможно, и казалось, что это им все-таки удалось, – трагическому поэту, по целым дням не покидавшему своей комнаты, и словно бы бездомному философу, считавшему несовместимым служение своему загадочному даймону с участием в какой-либо общественной деятельности. Сократ говорил впоследствии: «Неужели я, по-вашему, мог бы прожить столько лет, если бы вплотную занимался общественными делами, и притом так, как подобает порядочному человеку, – спешил бы на помощь справедливым и считал бы это самым важным, как оно и следует?» И это же мог сказать о себе и сын Мнесарха, которого выводила из равновесия любая несправедливость, возмущала любая ложь, повергали в неистовый гнев корыстолюбие и мздоимство, так что, даже если бы он и захотел испробовать себя на общественном поприще, вряд ли что из этого бы вышло.
Так, он имел смелость утверждать (и многим согражданам это казалось странным и возмутительным), что и рабы тоже люди и что в непостижимых заранее превратностях бытия, зыбкость которого стала особенно ясной во время войны, каждый свободный может сделаться завтра рабом и его не спасут ни богатство, ни знатность происхождения, разве только он сам предпочтет славной смерти позорную долю раба. Рабство, в нем была одна из главных причин преуспеяния Афин, но в нем же таился источник их будущей гибели, и тем, кто обладал способностью видеть взаимосвязи вещей, это было уже заметно. К этому времени рабов в Афинах было уже не меньше, а, может быть, даже и больше, чем свободных, граждан. В основном это были варвары из Фракии, Фригии, Пафлагонии, Карии и Иллирии, с берегов Понта Эвксинского и из далекой Колхиды, а также сицилийцы, лидийцы и сирийцы. Они работали в эргастериях, на строительстве, в рудниках и на верфях, а также в домах состоятельных афинян, выполняя наиболее тяжелую и грязную работу. К концу Пелопоннесской войны появились также рабы-греки, плененные или же пригнанные из завоеванных областей. Нередко такой раб мало в чем уступал своему господину в образованности, и тогда он мог быть воспитателем детей, секретарем, писцом или же экономом. На невольничьем рынке можно было сравнительно недорого купить молодого, сильного и красивого раба, и, как обещали сторонники новых военных кампаний, недалеко уже было то время, когда каждый афинянин будет владеть десятками отборных невольников.








