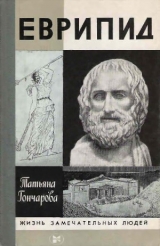
Текст книги "Еврипид"
Автор книги: Татьяна Гончарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Что же касается вечных истин и конечного смысла человеческого бытия, до которых продолжали доискиваться Еврипид и Сократ, то до всего этого не было дела массе невежественных, полуголодных и отчаявшихся людей, запертых в Афинах, как на острове, все это вызывало лишь раздражение и злобные насмешки:
Есть в стране зонтиконогих
Неизвестное болото.
Грязный там сидит Сократ,
Вызывает души.
А то насилие, против которого, несмотря ни на что и вопреки всему, восставали два этих безумца не от мира сего, сделалось к этому времени, по существу, единственным средством продлить свое существование и для тех, кто выдвигал в Народном собрании планы новых захватов, и для тех, кто с надеждой внимал им. И если нищий и праздный сын Софрониска утверждал, что «худшее на свете зло – это творить несправедливость» и что, «если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее», он предпочел бы переносить, – это было его дело. Большинству же афинян уже было поздно разбираться в том, что из совершаемого ими можно назвать злом, они давно уже потонули в совершенных ими ошибках и промахах и теперь уже просто не видели иного выхода. Золотое сияние Периклова века, века художников, философов и благородных народных вождей, растворилось в небытии, уже готовы были погаснуть его последние отсветы, и те, кто еще хотел и был способен творить и мыслить, спешили покинуть Афины. Многие же из тех, кто не смог оставить отечество, были впоследствии уничтожены.
К этому времени, по-видимому, и Еврипид начинает подумывать о том, чтобы уехать из Аттики. Весной 408 года он последний раз представляет для постановки на празднике Диониса традиционную трилогию, от которой до нашего времени дошел лишь «Орест». Как сообщают хронисты, постановка этой трагедии, во многом напоминавшей нашу оперу богатым музыкальным сопровождением и длинными ариями на «лидийский лад», была зрелищем красочным и великолепным. Даже в эти тяжелые годы афиняне не жалели денег на театральные представления. Расходы эти распределялись главным образом среди богатых граждан, которых к концу войны стало ничуть не меньше, а даже как будто бы больше. Хозяева больших эргастерий, производящих товары на вывоз, ламповщики, ювелиры и оружейники, зажиточные торговцы и судовладельцы почитали за честь финансировать Великие Дионисии или Панафинеи, подобно аристократии прошлого, теперь изрядно обескровленной. Хотя, конечно былой пышности уже не было: навсегда ушли те времена, когда в театре выставляли перед представлением богатую добычу или дань, привезенную союзниками, чтобы многочисленные гости, наполнявшие амфитеатр, воочию убедились, как богаты Афины и как они сильны. Теперь чужеземцев почти не было, Афинская архе распадалась, и число союзников можно было пересчитать по пальцам одной руки.
И вот снова, в который уже раз, афинские зрители возвратились в древний Аргос, в те пласты навсегда ушедшего времени, от которых они привыкли отсчитывать свою историю. Только что окончилась Троянская война, и победители, как предвещала Кассандра, Приамова дочь, в своих бредовых пророчествах, платят сполна за совершенные злодеяния: коварно убит неверной женой Клитемнестрой и вероломным Эгисфом царь Агамемнон; исполняя веление Аполлона-Мстителя, дети царя, Орест и Электра, убивают преступную мать. Однако, исполнив этот страшный приказ, Орест гибнет и сам в силу непреложных законов человеческого естества – «материнская душит сына кровь». И если Эсхил и Софокл видели в несчастном сыне царя Агамемнона сурового мстителя, героического в своем подчинении богу и, безусловно, достойного оправдания, то у Еврипида это раздавленный собственным преступлением, жалкий, безумный больной, как «труп, под солнцем позабытый», это даже уже не человек, поскольку его личность распадается у всех на глазах. Это тот грешник-матереубийца, один из тех, о страшных муках которых в подземном мире (даже если они и раскаивались потом всю жизнь в совершенном преступлении) писал впоследствии Платон: «…они кричат и зовут, одни – тех, кого убили, другие – тех, кому нанесли обиду, и молят, заклинают, чтобы они позволили им выйти… и приняли их. И если те склоняются на их мольбы, они выходят и бедствиям их настает конец, а если нет, их снова уносит в Тартар… и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у своих жертв; в этом состоит их кара…»
Ореста терзают Эринии, «темнокожие девы мщения» у них собачьи лица, волосы – змеи, глаза Горгоны и распустившиеся по воздуху крылья. Изможденный, нечесаный, в запятнанной материнской кровью одежде, он вот уже шесть дней не ест и не пьет и только в недолгом сне находит забытье от ужаса совершившегося. Все двери в городе заперты для него, аргосцы требуют смерти матереубийцы. Но вот Эринии ненадолго отпускают свою жертву, и перед зрителями уже совершенно новый Орест – отчаянный, словно бы обрубивший все связи между собой и людьми, лихорадочно громоздящий преступление на преступление, как будто бы даже ни в чем не раскаивающийся и жаждущий лишь одного – любой ценой вырваться из когтей приближающейся смерти. И если первый Орест, безумная жертва божьего веления, способен возбудить сострадание или жалость, то этот второй Орест, лихорадочно ищущий выхода, готовый на все, ведомый скорее демоном, чем богом, омерзителен и страшен, несмотря на все аргументы, подтверждающие как будто бы в силу формальной логики его правоту.
Орест и Электра, соучастница преступления и любящая сестра, стремящаяся хоть чем-нибудь облегчить муки брата, ожидают в царском дворце решение народа, который собрался на сходку, чтобы решить, побить ли камнями матереубийц. У них остается одна лишь надежда – заступничество их дяди Менелая, который должен вот-вот возвратиться в Аргос из троянского похода. Елена, причина этой ужасной войны, уже возвратилась и боится высунуть нос из дворца, ненавидимая народом. Однако, опасаясь народного гнева, побуждаемый своим тестем Тиндаром, суровым спартанцем в черной траурной ризе, Менелай уклоняется от заступничества даже во имя своего брата, великого Агамемнона. Тогда Орест по совету Пилада, своего друга и нареченного Электры, решает сам предстать перед народным собранием и требовать справедливости. Однако народ непреклонен: никакие доводы разума, никакие апелляции к фатальности злоключений рода Атридов не могут в глазах людей оправдать ужас содеянного – не может быть справедливым меч, которым пронзает сын вскормившую его грудь. И единственная милость, на которую могут рассчитывать матереубийцы, – это лишь право покончить с собой. Этот важнейший эпизод трагедии – собрание аргосцев (эпизод, которого нет ни в мифах, ни у Софокла и Эсхила) позволяет Еврипиду ввести в произведение контраргумент настолько же сильный, как и основной аргумент – воля бога. Убеждение в том, что злодейства злодейством не исправить, что никому не дано безнаказанно преступать закон человечности, оказывается не менее сильным, чем приказание Аполлона. И опять, как всегда у Еврипида, здесь ведут нескончаемый спор две правды – правда сердца и правда ума, спор, который поэт так и не смог разрешить за всю свою долгую жизнь.
Орест и Электра считают себя правыми и невиновными, но голос совести твердит им, что они погибли, погибли еще до того, как аргосская сходка обрекла их на смерть. Неотвратимость этой гибели прекрасно понимает Электра, несмотря на всю ту деятельность ради спасения, которую брат и сестра лихорадочно развивают на всем протяжении трагедии: «Сгибли мы, мать, мы мертвы», «Гибнем мы, ночь, гибнем»… Однако и здесь убежденный последователь Гераклита остается верным постигнутой им раз и навсегда диалектике жизни: уничтоженные морально, прекрасно сознавая невозможность жить дальше со столь страшным преступлением на совести, Орест и Электра тем не менее отчаянно цепляются за жизнь и идут ради нее на все. Они убивают Елену (оправдывая себя тем, что карают ее «от лица Эллады… за вдов и сирот»), захватывают заложницей молоденькую Гермиону, свою двоюродную сестру, и угрожают ей смертью, чтобы заставить ее отца Менелая, потрясенного столькими страшными и неожиданными бедами, помочь им бежать из Аргоса. Раз пущенная кровь льется неостановимым потоком, который вот-вот захлестнет Ореста и Электру, тоже словно бы обезумевшую от отчаяния и неотвратимости своей страшной судьбы:
Бейте, губите, разите!
Меч двулезвийный
В тело ее погружайте!
Погибая, несчастные потомки преступного Атрея словно хотят увлечь за собой и всех остальных, к концу трагедии в них уже не остается ничего не только что возвышенного, но и просто человеческого.
И вот когда действие достигает наивысшего напряжения: Орест, Пилад и Электра, стоя на кровле дворца, собираются поджечь его балки, Орест держит меч у нежного горлышка невинной Гермионы, а внизу Менелай в отчаянии не знает, что ему предпринять, вот тут-то появляется Аполлон, «бог из машины», чтобы все уладить и устроить: «Я ж дела Орестовы улажу, потому что приказ убить был точно мой приказ». Но этот традиционный благополучный конец выглядит крайне искусственным. Чтобы все завершилось действительно ко всеобщему удовлетворению, всемогущему Аполлону надо сделать так, чтобы Орест смог забыть грудь матери, которую та обнажила перед ним, умоляя о пощаде, чтобы Электра опять стала кроткой девушкой, поджидающей нареченного, и начисто позабыла, как она ликовала при виде крови Елены, как заманивала в ловушку Гермиону. Чтобы Менелай мог осознать, решить для себя самого, для чего же он вытерпел столько тягот многолетней войны, для чего уничтожили Трою, если он не выкупил, как в конце концов оказалось, этой страшной ценой любимой жены. Надо было все позабыть и все простить, чтобы можно было жить дальше. Но забыть это было невозможно, и появление Феба тут ничего не меняло – так, дань поэтическим схемам и невозможность распутать логически клубок зла и насилия, сплетенный злосчастными Атридами…
«Орест» не понравился афинянам: здесь все было так же запутано, непонятно и неразрешимо, как и в самой жизни, и не хотелось думать о том, что насилие всегда было уделом людей, даже тех, дела которых стали легендой. А может быть, в мечущихся в поисках спасения, громоздящих убийство на убийство, во всем отчаявшихся Атридах афиняне узнавали себя, которым, в сущности, тоже оставалось надеяться лишь на то, что явится какой-то всесильный «бог из машины» и остановит, спасет их на самом краю…
Благовонной короной своей
Увенчай поэта, победа,
И не раз, и не два, и не три
Ты увей ему белые кудри,
– разнеслись в свежем весеннем воздухе конечные строфы трагедии. Но победы, как всегда, не последовало.
Мало кто из сидящих в тот день на нагретых весенним солнцем скамьях афинского амфитеатра еще помнил первые трагедии Еврипида – почти полвека войны и гражданских распрей унесли столько и столько славных мужей, его сверстников, мало кто знал правду об Анаксагоре, Аспасии, Фидии, Протагоре, что могли о них знать суеверные и невежественные крестьяне, переполнившие город в эти последние годы? Что могли они знать о всех художниках и мудрецах уходящего века, о тех, кому Афины были обязаны своим блеском и славой не в меньшей степени, чем доблестным стратегам. Их знали больше по слухам и сплетням, по досужим вымыслам сочинителей комедий-однодневок. И Еврипид был один из них, из тех, кто считает себя почему-то вправе навязывать согражданам свою ложную и хвастливую мудрость. Городу были нужны другие люди, такие, как беспримерный Алкивиад, которого осенью этого года афинский народ радостной толпой встречал в Пирее: прекрасный, словно бессмертный бог, отважный муж возвратился на родину с богатой добычей – захваченными в морских боях пелопоннесскими кораблями и ста талантами золота. Сограждане с восторгом приветствовали героя, он казался своим и беднякам, и аристократам, и вряд ли бы кто особенно воспротивился, вздумай он стать тираном и возложить на себя неограниченную власть в государстве.
А Еврипид – он был не нужен. Не нужен городу, во имя которого он сорок лет сражался с варварами и соседями-греками, не нужен народу, к душе и разуму которого он полвека тщетно взывал в своих трагедиях, не нужен даже собственной семье, слишком далекий от мирских забот, слишком великий, чтобы излучать тепло и нежность. Чувство глубокого личного поражения, овладевшее им постепенно, делало для него все более тягостным какое бы то ни было общение с людьми, и свои последние афинские годы поэт жил почти что отшельником, проводя целые дни в размышлениях и работе в своем любимом гроте на Саламине. Как сообщают античные авторы, рядом с этим гротом существовало когда-то даже такое вот изображение на камне: Муза со свитком в руке подводит Еврипида, полного старика с большой бородой, к сидящей на скале нимфе. Несколько поодаль стоит Гермес, что должно было указывать на предназначение пещеры как приюта для «уединенных занятий мудрой поэзией»… И саламинский грот был, должно быть, действительно приютом, прибежищем для этого мудреца, перемудрившего в какой-то мере себя самого, ибо прожив столь долгую жизнь, он так и не научился жить в ладу с людьми, даже с наиболее близкими. В семье его был полный разлад: со своей второй женой, Милитто, он тоже не очень-то ладил, в городе сплетничали о том, что Еврипид, мол, хочет покинуть Афины из-за позора, так как и эта его жена не отличается добродетелью. Взрослые сыновья не понимали отца, он раздражал их своевластием, мрачным характером, а главное, тем, что он, дожив до седин, так и не смог, не научился и не хотел жить так, как живут все. Трудно сказать, был ли он богат, вероятнее всего, не был, но тем не менее его обвиняли в скупости. И даже младший сын – поэт не всегда мог найти общий язык со своим гениальным отцом.
К этому времени никто уже, по-видимому, особенно не заботился о том, что он ест и пьет, как он спит. Сознавая, что времени у него осталось в общем немного, а сделано еще так мало и мир остается для него такой же огромной загадкой, как в то далекое время, когда он, еще молодой, полный сил и надежд, допытывался у ионянина по прозвищу Ум о секретах мироздания, Еврипид работал даже больше, чем в молодости. Он с горечью должен был признаться себе, что тайна Жизни не прояснилась для него с годами и он уже очень близок к тому, чтобы, подобно Сократу, считать неоспоримым лишь одно: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Поэтому сын Мнесарха не мог позволить себе тратить быстро бегущие последние годы на болтовню в Народном собрании, на дрязги с семейными (которые его не любили), на заботы о сладком куске и мягкой постели. Все это, как оказалось, было не для него, и если старый поэт думал когда-либо о своей, не такой уж далекой кончине, то он не мог не вспоминать учителя Анаксагора, которого, если верить преданиям, смерть застала на проезжей дороге, или же своего иронически мудрого друга Протагора, нашедшего последний покой в глубине моря. Город мешал ему думать, люди раздражали бессмысленной и жестокой суетой своей неупорядоченной жизни, и лишь созерцание бескрайних просторов Миртойского моря, которым он любовался, работая в своем саламинском убежище, вселяло надежду на то, что все-таки она есть, непостижимая для человека гармония мира. И трудно сказать, было ли это добровольное одиночество злом или благом: старое тело его взывало к теплу и уюту, но дух как никогда нуждался в том, чтобы отвергнуть, отбросить, презреть суету бытия. Чтобы подняться до понимания сущностных истин миропорядка, о которых он, видимо, продолжал размышлять до тех самых последних часов, когда старые Мойры перерезали истонченную нить его жизни, Еврипид должен был навсегда отказаться от личного благополучия (хотя в юные годы он, возможно, наивно стремился сочетать и то и другое), как должен был Анаксагор отказаться от родового добра, как должен был, если верить преданиям, ослепить себя философ Демокрит, чтобы, подобно царю Эдипу, яснее увидеть сущность вещей, отвергнув соблазны видимого. Ведь «именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в несравненно большей степени, чем любой другой из людей», и «душа философа, – как утверждал, если верить Платону, Сократ, – решительно презирает тело и бежит от него, стараясь остаться наедине с собой».
Только теперь, подходя к концу своей длинной и трудной жизни, трудной не какими-то особыми тяготами и бедами, болезнями, утратами или нищетой, но тяжелейшей внутренней борьбой, поисками смелого разума и метаниями гордого, свободного духа, только теперь сын Мнесарха до конца понял смысл древнего изречения о том, что искусство требует жертв. И жертвой этой бывает нередко вся жизнь, отданная во славу того неведомого и всемогущего бога, который заставлял его вновь и вновь, несмотря на горечь непризнания и поражений (написав около девяноста драм, он при жизни всего лишь четыре раза удостоился первой награды), браться за стилос. Он служил Мельпомене, ни на что не рассчитывая, ничего не прося и не отступив ни на шаг от своего жизненного предназначения:
Нет, не покину, Музы, алтарь ваш;
Вы же, Хариты, старца любите!
Истинной жизни нет без искусства…
Зеленью плюща белые кудри
Я увенчаю. Лебедь весь белый,
Но не мешайте петь ему, люди!
Ему так хотелось быть счастливым и радостным в своем великом служении Красоте и Добру («Иначе как, будучи угрюмым самому, других пленять?»), хотелось быть светлым и умиротворенным, все понимающим и прощающим, но этого было ему не дано. Не дано было даже забыться, хотя бы на время, в мире своей поэзии и отрешиться от той всеподавляющей скорби, рожденной несовершенством человеческой жизни, которой были пронизаны его великие творения и которая превратила в трагедию, не менее впечатляющую, чем злоключения Атридов или потомков Эдипа, его собственную жизнь:
. никто не придумал
Гармонией лир многострунных
Печали предел ненавистной,
Печали, рождающей смерти,
Колеблющей ужасом царства,
Печали предел положить…
Почти аскетический образ жизни сына Мнесарха, его добровольное уединение на Саламине казались весьма подозрительными его согражданам, которые, вероятно, думали так же, как и герой Аристофана: «Поверь мне, мой Федиппид, такой страшный человек, как сын Мнесарха, никуда не годится ни в нравственном, ни в политическом отношении. В людях, до такой степени удаляющихся от общества, непременно есть что-нибудь дурное, требующее от них такого отчуждения». Теперь уже очень трудно, невозможно определить, какая ничтожная доля правды была в недоброжелательных пересудах сограждан и была ли она в злобных сплетнях, ползущих по городу. И в то же время афиняне в высшей степени снисходительно относились к похождениям Софокла, не утратившего в своем очень и очень почтенном возрасте (он был старше Еврипида на пятнадцать лет) тяготения к женщинам, любившего бывать на дружеских пирах, повеселиться и имевшего незаконного сына Аристона от гетеры Феодориды Сикионской. Софокл, любезный и приятный в обращении, был окружен любовью и уважением сограждан даже после скандального процесса, затеянного против него законными сыновьями. Сыновья эти, раздраженные мотовством старика, требовали от судей отстранить отца от управления имуществом как выжившего из ума. Говорят, что, не утруждая себя особыми аргументами, Софокл прочитал присяжным своего «Эдипа в Колоне», и в результате обиженные сыновья получили строгий выговор от суда за недостаточное почтение к своему гениальному отцу. И Софокл продолжал жить так, как ему хотелось. Про него говорили, что его посещают сами боги.
Так в чем же причина того, что афиняне были столь снисходительны к творцу «Эдипа», любившему и умевшему пожить в свое удовольствие, и так нетерпимы к создателю «Медеи», жившему последние двадцать лет главным образом мучительным поиском истины? Вероятно, в силу той же самой причины, по которой и сами они, Еврипид и Софокл, на протяжении почти полувека являвшие вместе на суд афинян свои трагедии, за всю свою долгую жизнь так и не стали друзьями, даже не сблизились, хотя и уважали друг друга. Так, античные авторы сообщают, что, когда Софокл потерпел кораблекрушение во время своей поездки на остров Хиос и при этом погибло несколько его трагедий, Еврипид написал ему следующее: «Несчастье с драмами, которое всякий назовет общим несчастьем для всей Греции, тяжело, но мы легко утешимся, зная, что ты остался невредим». Оба они на склоне лет жили частной жизнью (после смерти Перикла Софокл постепенно отошел от участия в политике и военных делах), считая главным служение музам. Оба с неодобрением относились к губительным политическим авантюрам демагогов последней четверти этого века и осуждали войну. Оба они были мудры, но их мудрость была совершенно различной – и в этом-то было все дело.
Софокл принимал мир таким, как он есть, твердо веря в его изначале заданный смысл; жизнь представлялась ему налаженной и освященной традициями системой отношений между людьми, между человеком и богами, между человеком и законом, и это придавало линейную ясность его гениальным творениям. Смерть и жизнь, зло и добро, необходимое и случайное – все представало в его мировидении как нерасторжимые звенья одной бесконечной цепи, которую никому не дано нарушить ни в чем. Он был религиозным в глубочайшем понимании этого слова, верил в некий высший Закон, который правит людьми и богами, которого не избежать, не обмануть и подчинение которому есть высшая мудрость. Он сомневался в полезности знания, считая, что истинная сущность вещей все равно никогда не раскроется для человека. И его герои жили и действовали в соответствии с этим высшим Законом, являя собой достойный пример для афинских зрителей, слабых живых людей, запутавшихся в неразрешимых противоречиях бытия. Он верил в высшую гармонию мира той светлой верой, не замутненной излишними мудрствованиями, которой не было и не могло быть у мятежного духом ученика Анаксагора и Протагора, для которого неустроенность человеческой жизни порой заслоняла ее самоценность.
Не человека, а бога считал он мерой вещей, свято веруя в непоколебимость традиций, задачу искусства видел в том, чтобы славить все «доброе и чистое» и, по словам Аристотеля, «утверждал, что сам изображал людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они есть». В высшей степени почтительно относящийся к нему Аристофан говорил, что «уста Софокла покрыты медом», и для афинян казалось бесспорным, что писать лучше, чем сын Софилла, невозможно, так же как невозможно увидеть мир мудрее и яснее. Еврипид же, как и Сократ, все пытался коснуться каких-то заветных струн в сердцах окружающих его людей, струн, которых, возможно, у многих из них даже не было, и вызывал этим все большее раздражение и гнев. В эти тяжелые годы Софокла тоже не раз приглашали покинуть Афины, но он наотрез отказался, считая, что, «кто через порог тирана переступит, тот раб его, хотя бы и свободным родился». Он не мыслил себе жизни вне Афин, и, прекрасно, по-видимому, осознавая всю близость поражения, был готов разделить с родным городом его печальную участь.
Что же касается Еврипида, который с каждым годом и с каждым днем чувствовал себя все более чужим и ненужным в Афинах, против которого вот-вот могли возбудить судебный процесс (слишком много обвинений выдвигали против него, вольнодумца и богохульника, озлобленные несчастьями сограждане), то он все же решает принять приглашение македонского царя Архелая или же восхищавшихся его поэзией сицилийцев. Он приходит к этому решению после долгих колебаний и мучительных раздумий, отразившихся в его последних трагедиях. Так, в «Финикиянках» царица Иокаста спрашивает своего изгнанного из отечества сына:
Скажи, дитя, отчизну потерять
Большое зло для человека, точно?
И несчастный Полиник отвечает ей:
Огромное: словами не обнять.
Покидая родные Афины, блистательный город его полной надежд гордой молодости, сын Мнесарха понимал, что жизнь его, в сущности, на этом кончается, потому что ему, выросшему среди образованных, смело мыслящих людей, воспитанному бессмертными философами-учителями, вряд ли удастся сохранить себя среди неотесанных, грубых варваров, «лишенных свободных речей», падающих ниц перед деспотом-самодержцем («Да, жить среди глупцов… какая пытка!»), но возможности жить как-то и дальше в Афинах у него уже, видимо, не было. И вот в середине 408 года он навсегда покидает великий свой город, где ему теперь не с кем было особенно прощаться и не о ком было особенно жалеть, чтобы вернуться сюда через несколько лет бронзовым бюстом в театре Диониса.








