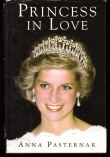Текст книги "Геи и гейши (СИ)"
Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Вот почему бесполезно искать Бога в мире – и опасно разрушать мир, пытаясь найти Бога вовне: ибо, разрушив зеркало мира, ты разрушишь себя в качестве верного отражения. И кто, скажи, тогда займется поиском?
В знаке Льва
Имя – АРСЛАН
Время – между июлем и августом
Сакральный знак – Лев
Афродизиак – шафран
Цветок – крокус
Наркотик – гашиш
Изречение:
«Культуры во все времена рождают символы. Символы, объединяясь и усложняясь, превращаются в знаки. На исходе двадцатого века, задыхаясь под тяжестью поверхностного знания, человечество в безумной надежде на спасение выткало такие плотные знаковые сети, что ни один информационный поток не минует этого метафизического сита».
Максим Ненарокомов
«Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим сущность ислама».
«И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога».
Велемир Хлебников
ДЕСЯТЫЙ МОНОЛОГ БЕЛОЙ СОБАКИ
Бог возникает – если отвлечься от предзнания – как гипербола тех качеств, что человек обнаруживает в себе: но не раньше, чем он начинает познавать их и культивировать, тем самым осмысляя и утверждая свое отличие от природы. Отделение человека от природы, таким образом, рождает в человека понятие о себе самом и через него – представление о Боге как о своей превосходной степени.
Снова система зеркал. Человек смотрится в зеркало природы, на ее фоне видя себя и отличая себя от фона благодаря ореолу, ауре, еле зримой мантии царя. Однако возникающие в его сознании собственные качества уже потому ущербны – часть от целого – и не идеальны, что их можно обозреть, охватить восприятием самого человека. Но и человек, в свою очередь, может интеллигибельно «взять» самого себя не сам, а (парадокс барона Мюнхгаузена и болота) через Высшее Существо. И все-таки думает, оценивает сам. Отсюда – «человекобожество», которое, может быть, значит как раз то, что человек – вовсе не то, что он о себе помыслил, что человек куда больше, чем он есть, что он – не он, а иное. Инаковость человека – он сам для себя проблема, сам для себя непостижим, одновременно «вывернут» в бесконечность и «свернут» в своем восприятии себя.
Бога можно познать после стирания этих внутренне-внешних границ – именно этим занимается дзэн.
Так дофилософствоваться можно и до отсутствия Бога. Но на самом деле именно Бог создает «плотную идею» человека в качестве идеального объекта Своей любви как бы способом вывернутого митоза. Этот и есть рождение Сына или Возлюбленного, остальное – творение. Твари все и вся – и четыре элемента, или стихии: огонь, воздух, земля и вода (а в придачу пятый элемент Люка Бессона – любовь), и четыре мира: камень, деревья, животные и человек (также и пятое существо, о нем позже), и сами люди в их множественности, конкретности и проявленности.
Ведь если Бог одновременно трансцендентен и имманентен человеку, то, значит, отсюда следует, что человек обладает обоими этими качествами в страдательной, так сказать, форме. Тогда Христос – символ и залог этой двоякой функции.
Вот что знаменует собой игра зеркал.
…Но это ничего ровным счетом не дает для осознания природы Любви.
– Да, многое начало случаться из того, что никогда не случалось прежде, – говорил Белой Собаке худенький, легкий на ногу Мариана, со сноровкой бывалого горца карабкаясь по скале. – Вот и на свое собственное сдвоенное отражение полюбовался. На свою любовь. А еще говорят, что мертвые не воскресают! Да это происходит постоянно, просто некому взглянуть на это дело со стороны. Ведь когда я воскресаю, то воскресаю вовсе не «я». Я по имени Мариана – это тот, кто мечтал стать грозным Божьим воином, но слишком слаба оказалась моя рука, да и дух подкачал, как обнаружилось в дальнейшем. И вот я куда чаще лечил раны, чем наносил их, выхаживал взрослых деток, был поводырем слепых… а под конец понял, что все это время только и делал, что отважно и беззаветно воевал на Его стороне. Но теперь я получил увольнительную с фронта и, наконец, могу поразвлечься: посмотреть на то, что видать с изнанки пестроцветного ковра, который называется природой, миром и ближней жизнью. И, кто знает, может быть, мне еще не раз приведется увидеть воочию ту любовь, с которой меня разделили и не смогли до конца разлучить, потому что сам я стал ею.
И он запел песенку, слегка сентиментальную и грустную, которую сложил в то время, когда судьба приковывала его к летейским делам:
«Радость, ах, радость моя беспредметная!
Утром последнего дня
Ты обернулся – глаза твои светлые
Сладостной тьмою одели меня.
В небе, ах, в небе – простор безмятежности:
Вовсе не ведая зла,
Мы, как два кречета, в яростной нежности
Кружим, сомкнувши крыла.
Солнце, ах, солнце – тоска беспредельности,
Запертый наглухо сад:
Нам не достичь наслаждения цельности:
Тучи с востока клубят.
Рухнул весь мир в вавилонском смятении,
Небо смешалось с землей.
Я изнемог в непрестанном борении:
Нас разлучили с тобой.
Кличу – но нас в поднебесной пустынности
Некому соединить:
Нет в ней тебя, только голос твой стынущий
Лаской сплетает нас в нить.
В сердце, ах, в сердце – печаль расставания!
Рай затерялся во мгле.
Нет ни надежды мне, ни упования;
Просто я то, кем ты был на земле».
Вершины Ароании обрушивались в широкую зеленую чашу, где обитали иные горы, изо льда и каменных блоков. Здесь, посреди богатейших лугов и озер, было величественное мертвое царство: город, что рвал теплый покров земли и венчал дальние уступы, казался инороден земле. В иных призрачных башнях нездешним холодным светом горели квадратные стеклянные глаза, стаи муравьев или термитов с неправдоподобной скоростью ползли по путям, заранее размеченным какой-то засохшей смолой, состоящей, очевидно, из их собственных выделений. Шум и лязг поднимались из котла, застывая в виде зеленовато-бронзовых изваяний, притворившихся деревьями и кустарником.
Мариана понимал, что это всего-навсего панорама большого индустриального города, но допустить это понимание в свой разум не смел – тогда бы истинная сторона вещей закрылась от него, а ведь он собирался искать именно внутри нее. И видел он перед собой джунгли – ничего необычного в том не было, один прогрессивный писатель именно так обозвал современный ему мегаполис – и кишение враждебных человеку сил. Видение города наслаивалось на картину одичавшей природы, но она всё же была более четкой и постоянной, очевидно, из-за того, что пребывала до, во время и надеялась длить себя после гибели города, – и потому стоило Мариане сфокусироваться на ней, как регулярность стекла и бетона исчезала. Увлеченному же цивилизацией, как можно было понять, один город и показывался.
Мариана хотел спросить Беллу, может – или пробует ли она – переключать зрение, но счел это суетным: собака обладала многочисленными умениями из тех, что недоступны простому смертному, однако не любила без острой нужды о них распространяться.
Сейчас они брели по дну глубокого ущелья, может быть, оврага из тех, что иногда сохраняются и в провинциальных городах; и в захолустном Брянске, и даже в прекрасном Сан-Франциско есть такой ров. Довольно высоко над головой открывались норы какого-то первобытного или звериного пещерного обиталища: если бы Марфа и Влад добрались сюда, им, бесстрашным, было бы где переночевать.
Внезапно до них донесся слабый стон – и Белла с готовностью и сноровкой, удивившими монаха, ринулась вглубь какой-то щели, полускрытой плющом, что сплошь затянул ее края, громким лаем призывая своего спутника.
Мариана пригнулся и заглянул внутрь. Человек лежал не очень глубоко, видимо, заполз в пещеру из последних сил. Был он страшно оборван и и окровавлен, но особенно бросались в глаза мелкие шрамы, которые крест-накрест полосовали его лицо, будто после автокатастрофы, обрушившей на него переднее стекло. От всего этого создавалось впечатление, что весь он разбит на мелкие осколки и сложен произвольно, как мозаика в трубке калейдоскопа.
– Эк его, – горестно вздохнул Мариана. – И кто тебе, молодец, устроил такую знатную дефенестрацию? И из какого такого окна? А ведь как змея туда заполз, ни Белле, ни мне, похоже, не вытащить.
Оказалось, что куда легче и надежнее будет не вытаскивать, а втащить еще глубже. Случайно ли раненый забрался сюда или намеренно, по-прежнему оставалось неясным, но узкая дыра в склоне обернулась преддверием целого комплекса катакомб: в одной из пещер была даже широкая ступень, подобие ложа, вырубленного в стене, по противоположной плоскости, как шелковые волосы, струился небольшой водопад.
– Кровать и вода, – с удовольствием отметил Мариана. – Вот если бы еще питание тут самозарождалось, так вполне стало бы уютно. Хотя не будем привередничать.
Разумеется, пищу добывала им всем собака, и для этого ей приходилось целыми днями рыскать по окрестностям, пока монах целил переломы, отмачивал гематомы и бинтовал раны, буквально рассекшие могучее тело незнакомца на куски. Охотилась Белла по большей части на корни и ягоды, но умереть с голоду не позволяла. Самой ей было, по всей видимости, не до вегетарианства, но ведь не носить же хозяину сырых мышей!
Раненый ел, пил, стонал во сне и справлял естественные надобности как лунатик, но в себя не приходил. Когда монах сумел кое-как отмыть засохшую струпьями кровь и заживить кожу, стало видно, что руки у него удивительно красивой лепки – белые, с тонкими пальцами. Глаза оставались еще бессмысленными, цвета было не разобрать, однако их разрез, чуть удлиненный и раскосый, придавал облику незнакомца нечто знойно-романтическое, а бритый череп типичного долихоцефала со следами скудной растительности – сходство с инопланетянином или японскими божками «догу», в которых увидел пришельцев некий русский фантаст.
Однажды восточный пациент вроде бы очнулся и заговорил – голос у него оказался приятный, хотя отстраненный.
– Удивительно, – сказал он. – Последнее, что я помню в той яви, был расстрельный ров, куда я должен был упасть после залпа, а во сне, который пришел позже, я уже твердо знал, что умираю, как всегда хотел: не в постели, с нотариусом по одну ее сторону и врачом по другую, а в диком ущелье, сплошь затянутом зеленью.
– Умираешь, – хмыкнул Мариана. – Как же, так я тебе и дал – после тех усилий, что я на тебя затратил, и тех биологически ценных калорий, витаминов и микроэлементов, которые в тебя успел запихнуть. Выпей вот!
И он поднес к губам раненого очередную плошку с полужидкой бурдой, пахнущей едко и вкусно, которую тот проглотил залпом.
Так прошло около месяца. Мариана обустроился, как всегда умел; правду он говорил, что все вещи к нему льнут. Первым делом, разумеется, он кое-как налепил из глины горшков, мисок и мисочек для всяких нужд и обжег на костре; но потом открыл целое гончарное производство. Из обломков ветвей настрогал ложек своим карманным тесаком – сам он умел обойтись и пригоршней, но ведь не его же подопечный! Из травы сплел циновки, самую толстую – под больного; из прутьев – корзину, которую вручал Белле перед каждым ее походом: она приловчилась брать пастью ягоду и колотить орехи, ритмично ударяя боком или хвостом по стволу лещины. Глина оказалась отменного качества, и тогда Мариана постепенно обмазал ею все, что было угловато или пропускало воду, и обжег поверхность полов и стен вениками из ароматных веток.
Шрамы тем временем заживали на удивление быстро и не оставляя следа, будто фантом какой-то. Однако странности в поведении найденыша не думали отменяться: он как бы не замечал того, что происходит вокруг, не включался или, может быть, реагировал со сдвигом по фазе – как тогда, когда видел перед собой свое смертное ложе, давно будучи в безопасности и полном отдалении от него.
Однажды Мариана увидел, что он поднялся и передвигается по жилой пещере – не как зрячий, но и не как слепой и вовсе не как тот, у кого от долгого лежания атрофировались мышцы. Движения его были исполнены силы и какой-то львиной грации, но картина, что угадывалась из их сочетания, не совпадала с видимым Марианой миром: как из искуснейшего миманса, из этих жестов, то резких, то вкрадчивых, складывалась реальность любовной ласки и кровопролитных битв, учения и труда, странствий и покоя. Впрочем, поскольку визионер не задевал за углы и выступы своей кельи и даже верно угадывал положение какой-нибудь мелочи, создавалось впечатление связи двух реальностей в нескольких по видимости ничтожных точках.
Мариана знал, что будить лунатиков опасно, и хотя он не считал таковым своего постояльца, но все-таки остерегся. Лишь дождавшись, когда тот резко шевельнулся, как бы просыпаясь, взял его за локоть и бережно подвел к постели, на которую раненый и опустился, слегка дрожа, как после припадка.
– Я вижу, с тобой придется обращаться бережно, будто ты хрустальный кубок, – сказал Мариана себе под нос.
В другой раз он обнаружил своего «жильца на этом свете» сидящим в постели спиной ко входу и декламирующим. Белла, которая при этом случилась, слушала его с видимым удовлетворением.
– Я заблудился в слепых этажах пространств, и времен, и миров, – скандировал он, отбивая такт рукой. – Знаки прочтя, не сумел угадать их смысла и тайных оков.
– Вот бодяга-то, – заметил Мариана, – и, что еще хуже, ритм хромает. Если ты и писал когда-то хорошие стихи, то явно подзабыл, как это делается. А, может быть, просто боишься сглазу. Ну, что заблудился – это и не удивительно, с такими-то пустыми гляделками.
– Почему пустыми? – тот обернулся, глаза у него оказались живые, светло-синие, но самую малость косили, отчего азиатчина всего облика возросла. Выражение губ было обиженное и совсем мальчишеское.
– Ну, одна гора уже с плеч. Я думал, у тебя глаза так и будут смотреть вглубь головы. Давай сызнова знакомиться, а то я тебя по-разному кличу. Я – Мариана, она – Белладонна. А ты?
– Назвать имя – значит дать оружие твоему врагу. Ты друг?
– Я друг.
– Наделить себя именем – значит определить себя, когда ты сам не знаешь хорошенько, кто ты есть. Ты – знаешь?
– Вряд ли. Однако пробую догадаться.
– Тогда и у тебя нет истинного имени, как нет его у меня.
– Так-то оно так, но не тыкать же нам друг друга до скончания века. Разумеется, все это сплошные условности, но ярлык какой-нибудь навесили на тебя в младенчестве?
– Младенчества своего я не помню, а называли меня Симба, Скимн, а когда подрос – Арслан.
– Что же, возразить против твоей львиной природы не мог бы даже такой выдающийся философ-имяславец, как Нэтэниэл Бампо. Однако если ты по каждому вопросу будешь разводить такую философию, мы недалеко с тобой уйдем.
– А куда нам надо двигаться?
– Друг ко другу, пожалуй. Послушай, я, конечно, не имею на тебя никаких прав, и если собрал тебя из кусочков, как Изида Осириса, так всего лишь из научной любознательности. Тем более, что поскольку в одном свойстве я ближе к Изиде, чем к Гору, результат, возможно, получился неадекватный: не обессудь. Но, видишь ли, исповедовать я умею куда лучше, чем кроить, латать и штопать, а хранить тайну – так и вообще замечательно. Ваш брат мусульманин не любит раскрываться перед посторонним и выворачивать себя наизнанку, как ту дыру в земле, из которой, по сказке, вытягивают минарет. Однако ведь хочется иногда вытряхнуть в кого-то свою котомку, верно?
– Твоя внутренность мне не интересна, а о себе я не знаю, что происходило со мной взаправду, а что лишь снилось.
– Тебе так важно отделить первое от второго?
– Да. Важнее жизни, которой я рискнул и которую ты спас.
– Может быть, мы вдвоем попытаемся отделить, как говорят, гвозди от масла?
Арслан пожал плечами.
– Было ли в твоей жизни такое время, которое не раздваивалось? – продолжал монах. – Давай начнем с твоего раннего детства, ладно? Ты не смущайся, если скажешь лишнее или неудобное: я как могила – приму и забуду.
– Что же, нечто говорит мне, что я в руках настоящего слушателя.
И Арслан рассказал историю, которой потом присвоили нижеследующее имя.
ПОВЕСТЬ ОБ ИНТЕРНЕТСКОМ МАЛЬЧИКЕ
Как нам сказали в тот самый первый раз, все мы – дети бедных родителей, которых подкинули к порогу Школы, не имея возможности содержать, или сироты войны. Позже мы узнавали, что наша родня бывала и зажиточной, но считала за честь подарить Школе дитя своей крови. Уже эти знания порождали в нас двусмысленность: что же говорить о более важных вещах!
В Школе нас обучали различным искусствам, тренируя в одинаковой мере тело и разум. Не знаю, были в Школе девочки или нет – всех нас одевали одинаково, со всеми держались сходно, изо всех без различия делали воинов, и не только телесно, но и мыслью своей стойких и крепких. Однако все это служило лишь подготовкой к самому главному.
Стены Школы были стеклянными и прозрачными, но их стекло, отражая нас, поворачивало наш взгляд вовнутрь, чтобы ни мы не замечали того, что было снаружи, ни оттуда не могли нас разглядеть. В одной из этих зеркальных комнат находились иные, темные или непрозрачные зеркала иной породы: себя ты в них поначалу не видел. Но стоило глянуть в них пристальнее и совпасть со своим бледным отражением – и они затягивали в себя, как огромные глаза, как бы через вращающиеся воронки желтых смерчей, и внутри ты становился частью игры, которая велась с тобой и, возможно, ради тебя, – кем-то, могущим испытывать разнообразные чувства и участвовать в живых картинах, которые были то прекрасны, то устрашающи и захватывали тебя всего. Каждое из зеркал было частью невидимой сети, почти или даже совершенно бесконечной, хитроумно выплетенной наподобие паутинного кружева; входило в лабиринт коридоров и закоулков, за каждым углом и поворотом которых ждало приключение. Мужчины в этих приключениях сражались и побеждали, рождались и терпели поражение, гибли и восставали вновь. Женщины стояли неизменно и незыблемо, как глыба посреди речного порога, вся в водоворотах и брызгах пены. Были они так прекрасны, как только можно вообразить. Иные были немолоды и не обладали гладкой правильностью черт и округлостью членов, на других лежал легчайший налет публичной доступности, третьи поражали свежестью нераспустившегося и нецелованного солнцем бутона, но все, тем не менее, скрывали в себе тайну, за которую не жаль было заплатить жизнью. Их хотелось спрятать за покрывалами и завесами, чтобы не видеть их глубины и сокрытой в них бездны: ведь каждая была равна Вселенной, и рождение младенца выворачивало бездну наизнанку, как если бы в любой женщине были солнце, луна и звезды. Не счесть, сколько раз я совпадал с одной из таких оживших икон и сколько раз был поглощен и извергнут, но было в этом нечто ненастоящее.
Нет, я не знаю, что являлось нашим юным воительницам, а также были они или нет этими устрашающе прекрасными видениями в зеркалах магов.
Еще мы воевали внутри Сетей – как бы сражались с невообразимыми врагами, изредка похожими на тех, кого смутно знали по своей жизни, но большей частью – всех их превосходящими мощью, свирепостью и ужасом, который они могли вызвать у кого угодно, кроме нас: потому что мы рано отучались страшиться, это считалось стыдом.
Нас учили видеть смысл в любых наших деяниях: разумно и допустимо ли творить малую несправедливость во имя предотвращения большой? В политических играх ответ всегда бывал положительным, в более важных – неизменно звучало «нет». В самом ли деле человек – частица от мириада и во имя торжества истины и справедливости им можно пожертвовать, одним ради всех, как говорят водители толп? Но ведь мы уже видели, что рождение человека подобно выворачиванию Вселенной; а что может возникнуть из бесконечности, как не новая бесконечность? И как можно делать из этой юной Вселенной игральную костяшку?
Мы принимали на себя различные обличья и вели себя в соответствии с ними. Мы убеждались, что у торговца или государственного деятеля иной взгляд на игры, чем у дервиша, – они жаждали быстрой победы и выгоды и получали ее, зато дервиш мог играть дольше и в конечном счете неизменно оказывался в выигрыше. Но все-таки ни один получаемый нами в играх ответ не сходился с напечатанным в конце задачника. Ни один баланс не сходился и двух раз подряд. Как такое могло быть? Чем должны были мы руководствоваться в аморфности правил и законов?
Игра в любовь, игра в смерть, игра в справедливость и праведность…
Эти игры исчерпали мне тело и душу: компьютерный гашишин электронного Аламута – я хочу стряхнуть с себя наваждение и трезвым взглядом оценить мир. Я желаю определенности. Я не хочу заблуждаться ни в чем!
– Ну, это же не твоя история и тем более не миф и притча, – разочарованно сказал Мариана. – История состоит из голых фактов, миф – из фактов разукрашенных, а у тебя рефлексия чистой воды. Пока я не знаю даже, как оценить твою пресловутую Школу и твою науку. Начни-ка сначала – ну, не совсем, – и попробуй глубже вдаться в подробности. То, что вам показывали, было такое же, как увиденное тобой здесь, или лучше? Хуже?
– Я, кажется, уже говорил, что не знаю. Все там имело свой цвет, вкус, запах и даже для прикосновений давало более богатую пищу, чем наше обычное бытие. Та бледная реальность, что была дана в пяти наших чувствах, казалась по сравнению с ней даже не обманом и мороком, но, скорее, весьма простой и грубой системой произвольно выбранных знаков, скрывающей под собой начальный мир нашей игры, структуру куда более сложную и менее приемлемую; а за исходными символами игры открывалось сразу несколько богатейших узоров, насыщенных смыслом, и они перекрывали друг друга так, что казалось почти невозможным выпутаться из их пределов. Всё, что можно было помыслить или ощутить, сразу же совпадало с уже бывшим в начертаниях. Однако мы все мечтали уйти сквозь них, провалиться…
– Куда? – быстро спросил Мариана. – Ты уже упомянул о женской бездне, глубине порождающего лона. Там было нечто, почти сходное с тем хаосом или космосом, который прятался от вас за игрой, и вы угадывали его по тому сладкому, парализующему ужасу, который испытывали? Но стоит преодолеть апатию и страх – и навстречу бьют нестерпимый свет и радость такой силы, что могут убить?
– Ты сказал. Ты – знаешь, – мрачно ответил Арслан. – Я – нет. Из трезвения нашего вне сетей мы уходили в обычные сны усталости, сходные с виденным в зеркалах так же точно, как илистое дно водоема похоже на его прохладную гладь с цветами, ряской, тростником и всем многообразием его мелкой жизни. Часто нам являлись улицы, с обеих сторон огороженные дощатыми заборами из широких неструганых плах: в щели и дыры от сучков ничто не выглядывало, тупики никогда не открывались калиткой, и редким, неповторимым счастьем было выйти на открытую поляну. Путаные переходы и лестницы внутри зданий, часто без перил, крашенные в бурый цвет помещения, которые все время изменялись – выйдя из них по лестнице вниз, нельзя было вернуться назад по лестнице, ведущей вверх. Скользкие полы и незавершенные конструкции. Иногда достигаешь того, к чему стремился, но это рассыпается или отцветает в твоих руках, краски блекнут, красота увядает. А выходя из этого вязкого тумана, вечно попадаешь в новый сон, еще тягомотнее, он обволакивает собой новое сновидение, и так до бесконечности; и переходя из оболочки в оболочку, из пелены в пелену, ты, наконец попадая в явь, убеждаешься лишь в полнейшей неотличимости ее от сна.
– Это всё были ложь и майя, – сказал Мариана, – и ты сам знал это. Какой смысл для нас обоих в подобных россказнях? Своими ниспадающими лестницами и сужающимися в конце улицами ты следовал по окраине большого страха. Но страх – это, по крайней мере, что-то всамделишное, а ты, судя по всему, человек отважный.
– Да, но не в своих, а в наведенных снах, – возразил Арслан. – Видишь ли, от созерцания сетей рождались как бы третьи сны, не похожие ни на саму сеть, ни на отклик наших темных глубин. В них открывалось нам прекрасное. Среди моих галерей были и картинные: однако ото всех нагих тел, нарисованных или изваянных, в равной мере веяло холодом, и это он оледенил меня. Если образы зеркал действовали как приворотное зелье, то эти – как любовная остуда.
– Оттого и произошла некая недостача… ну, которую я не смог восполнить, – тихо подтвердил Мариана.
– Знаешь, я вспомнил… – продолжал гашишин после паузы. – Как-то я отыскал в Сети небольшую картинку – яркое пятнышко, которое расцвело подобно бутону, когда я его коснулся. На нем был изображен спящий сидя человек в огромной белой чалме и широкой темно-красной накидке, из-под которой виднелись только пальцы одной ноги. Он казался моим двойником – так же грезил, но видел совершенно другие сны. Я вошел в него, свернулся подобно ему в комок и заснул… И в этом сне, одновременно моем и чужом, я увидел деву в одеждах, которые внизу были испещрены как бы мраморными извивами; на поясе, груди и плечах этот узор становился цветами, листьями и травами, в голову девы венчал венок из звезд. Олень с рогами в раскрывшихся весенних почках в самозабвении тянулся к ней, и она целовала его в ноздри: и от этого водоворот кипучей жизни проходил по чаще, в которой стояла дева, и водоворот любви. Все звери и птицы склонялись друг к другу и пели любовные песни на своем языке… Если бы я мог вечно пребывать в этом сне, я бы, наверное, наполнился им и получил свободу – ничего равного ему по красоте и трепетности я не знал. Но и он вытолкнул меня из своих пределов.
– И, похоже, с такой силой, что ты оказался и вне пределов своего стеклопакета, – хохотнул Мариана, – или то случилось немного позже, когда подопытная мышка объявила вслух о своем судьбоносном решении? Так или иначе, тебе самой кармой было положено взбунтоваться против клетки с перегородками, куда заточили тебя ушлые экспериментаторы.
– В таких играх сражаются, убивают и гибнут сами, не зная, когда взаправду придет их час, – громко, будто опять во сне, произнес Арслан.
– Вот даже как. Подставили, что ли? Отправили рыцаря чести по виртуальным каналам во всамделишный заговор? В общем, как была у тебя в голове и на языке неописуемая чушь, так и осталась, – констатировал Мариана (однако на физиономии его было написано удовлетворение, слегка даже хищное, как у кошки, которая изловила тощенького, но вполне съедобного грызуна). – Знаешь, как говорят: поскольку мир – это клубок причин и следствий, которые без конца и начала порождают друг друга, – он стоит ни на чем. Какой смысл в том, что ты пытаешься распутать пряжу, не отыскав конца ниточки? И стоит ли эта путанка твоих усилий – не проще ли ее выбросить вон? И вообще: понять нечто возможно, только став над ним. Вот потому я и говорю – не копайся в своих личных воспоминаниях, а придумай мне сказку, присказку или притчу.
– Я не умею говорить притчами, – слегка надменно проговорил Арслан, – и играть символами. Слишком большая ответственность лежит на вопрошающем, и тот, кто покупает истину таким образом, заставляет других платить по его счету. Я за свои устремления всегда платил сам: да будут моими свидетелями эти едва затянувшиеся шрамы.
– Н-да, – покачал головой монах, – воистину сон мой сладостно распорот взглядом глаз твоих раскосых. Придется при такой оказии снова мне начать. А я, как назло, не помню ничего, подходящего к случаю.
И он затеял историю, которая получила название -
ЛЕГЕНДА О ВЕЗДЕСУЩЕМ ЛИЦЕ
Жрецы некоего храма как-то раздобыли драгоценную реликвию: покров, на котором некими как бы смолистыми следами запечатлелось лицо и очертания прекрасного юношеского тела. Согласно легенде, то был пророк и основатель их религии, которого сожгли за ересь; а следы на погребальной ткани могли быть оставлены кровью, которая перекипела на огне, но непонятным образом не обуглилась.
Чтобы сохранить реликвию, ее сложили в ларец из тяжеловесного серебра и лучших пород дерева, а потом заперли в алтаре. Только по большим праздникам открывались царские врата, и молящиеся могли благоговейно лицезреть тусклый блеск металла, матовый – дерева и, если посчастливится, приложиться губами к холодной поверхности раки.
Сколько так длилось – неизвестно, но, по словам, не очень долго. Ибо вскоре стали замечать на глухой алтарной стене странное золотисто-зеленое сияние в виде вытянутой в длину лежачей фигуры с подогнутыми коленями. Истечение света, как тотчас же догадались, имело своей основой хранимую реликвию: а следует упомянуть, что хотя излучения, равно как и ароматы, исходящие от святых предметов, неоднократно имели место быть, но эту ткань, с неизгладимыми следами крови, грязи и смертного пота, свернули насколько могли туго и вовсе не пытались соорудить из нее нечто антропоморфное.
Жрецы испугались, что магическая сила, которая, как они могли уже убедиться, исцеляла и поднимала дух верующих, – испарится, выветрится без всякого проку. Поэтому было приказано соорудить поверх ларца свинцовую оболочку; царские же врата замуровали и побелили в цвет всей алтарной перегородки, нанеся на это место фреску приличного сему месту содержания.
И вновь было замечено, что поверх извести и краски проступает как бы зеленовато-серебристая, слегка фосфоресцирующая плесень, однако уже не той формы, что была прежде у сияния. Человек приподнялся на ложе и теперь сидел: его профиль виднелся как нельзя более отчетливо, и кое-кто из стариков, знавших казненного проповедника, уверяли, что лик походит на учителя как близнец; однако близнец много претерпевший и возмужавший.
Молящиеся были этим изумлены, а жрецы – страшно напуганы. Ведь темноту алтаря, куда они с опаской заходили через оставленную сбоку узкую дверцу, не нарушало никакое неблагочиние. Разве что некая теплота и еле слышный запах редкого дерева разлились там…
Но и те, и другие были уверены, что своими действиями потревожили и прогневили силу, таящуюся в ковчеге, и оттого призрак, аура погибшего вернулась в оболочку, которую, по другой легенде, пророк чудесно оставил уже после своей смерти: он как бы испарился или просочился сквозь нити. И не дай боги, чтобы теперь его заместила некая злая тень…
Тут, кстати, кое-кто из простых людей вспомнил, что хранить саван – плохая примета и неясно, что нашло на первых учеников и последователей пророка. Поскольку же в доброкачественности и добропорядочности той силы, что проникла в священное одеяние, начали по-крупному сомневаться, решили сжечь осрамившийся ковчег, не вынимая оттуда его содержимого.
И вот серебряный ларец вынесли из боковой дверцы – он ведь был небольшого размера – и положили внутрь огромного костра, превзошедшего своим величием тот, на котором окончил дни сам пророк. Разумеется, ковчег оплавился, а тяжелое на подъем дерево обуглилось вконец: но что дивно – форма его теперь была как у малого египетского саркофага, в каких хоронят детей, и стройное тело со скрещенными на груди руками покоилось в нем, как в лайковом футляре. Кое-кто готов был даже побожиться, что нет, никаких младенцев – человек внутри на самом деле уже достиг того немалого роста, каким покойник отличался при жизни, и сияет как бы темным золотом. Но это уж была совершеннейшая чепуха: такие слухи не имели под собой никакой основы, кроме того, что почернелую и еще тепленькую мумию вынули из пригасшего костра и второпях погрузили на корабль, который тут же взял курс в открытое море.