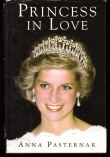Текст книги "Геи и гейши (СИ)"
Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– А раз ты проснулся и ничего не болит – точно, что помер, – вывел он после недолгого раздумья. – Ну и отлично: жив ты или помер, а материал в номер факт сдавать не надо.
Затем он выпрямился во весь свой длинный рост и пошел куда-то – по идее, искать выхода, но идея эта в нем еще не созрела.
В небе играла новая луна: узкий серебряный серпик, лаская своим льдистым светом стоячие и лежачие надгробия, кусты и деревья, среди которых преобладали березка и осина, изливал на землю покой и благодать. Дорожки, устланные мраморной плиткой, блестели, отражая ночное светило, и то длили себя невозбранно, то пересекались с такими же полированными ручейками. Беспечное настроение овладело путником, который, по всей видимости, переживал сейчас тот самый упоительный момент, непосредственно за которым впервые дает о себе знать отходняк. Поэтому он даже не совсем испугался, когда почувствовал на одной из могил невнятное копошение.
Фигура выползла из кустов, обрамивших памятник, и, слегка покряхтывая, разогнулась. Влад совсем успокоился: то был священник, и месяц беспечно играл на его наперсном кресте. Лицо оказалось в тени, однако Влад и тогда, и позже знал, что сможет выделить это лицо, хотя и не слишком выразительное, эту малорослую фигуру и полудетский, но уверенный голосок из тысячи других.
– Вы что тут делаете, отец? – спросил он грубовато.
– Этот вопрос следовало бы переадресовать вам, молодой человек, – ответил ему патер в манере не то чтобы очень солидной, скорее ребяческой и чуть задиристой. – Ходят тут, прохлаждаются вместо того, чтобы в мягкой постельке спать. Я еще понимаю, когда луна полностью на небо выкатится: это ж такое великолепие, что и червяку на него грех не порадоваться! И все знаки на ней тогда проступают для умеющих читать: Каин и Авель, Лунная Красавица, Белый Дракон и Бессмертный Кролик.
– Простите, папаша, я тут в первый раз и здешних порядков не знаю.
– Сюда каждый попадает с первого разу и навсегда, так что это вам не оправдание, – ворчливо ответил маленький священник. – Все вы тут первые, а последних раз-два и обчелся. Только сии однодневки, как правило, боятся и ведут себя тише воды, ниже травы, а вы, похоже, знаменитый нахал были.
– В самую точку, папочка. Только не был, а есть. А во всё прочее вы хорошо врубились.
– Я еще и то понял, что вы этим нахалом и непочетником больше того прикидываетесь. Как вы сами о себе говорите в третьем лице, когда наберетесь по-крупному: «В этом разнузданном цинике мудрец прозрел бы идеалиста, плачущего невидимыми миру горькими слезами о его, блин, несовершенстве».
– Черт! Откуда вы догадались?
– А я и есть тот самый мудрец, – сказал человечек совсем просто.
В знаке Близнецов
Имя – МАРИАНА
Время – между маем и июнем
Сакральный знак – Хлеб
Афродизиак – мята перечная
Цветок – королевская лилия
Наркотик – книжная пыль
Изречение:
«…Кто вдохнет в нас дыхание духа?
Кто нагонит горячей крови?»
«Вот кровь; – она живая и настоящая!
И семя, и любовь – они не призрачны.
Безглазое я вам дарую зрение
И жизнь живую и неистощимую».
Михаил Кузмин
– Вы делаете что-то не такое, – сказал после паузы священник. – Неположенное. Хотя, впрочем, с такой хлопотной жизнью, как у меня, немудрено живого с мертвым спутать. А вы… Погодите, вы же собственно, вообще между царств обитаете. Как я этого сразу не унюхал!
– Вы унюхали, а я еще нет.
– Как, кстати, невежливо, что я вашего имени не знаю. Кем вас крестили?
– Вроде Владиславом или Владимиром. В паспорт я давненько не глядел и с успехом пользовался первым слогом.
– Влад. Прекрасно! А я Мариана, отец Мариана. Назван в честь того иезуита-тираноборца, который первым в Европе обосновал законность цареубийства с христианской точки зрения.
– Ни фига себе. Как это он умудрился!
– Да вот исхитрился – и доказал. В братстве Иисусовом много было таких рисковых идеалистов.
– Вы тоже, по-моему, из их числа. Ночью да в погибельном месте…
– Ограды надо восстанавливать, упавшие кресты воздвигать, кусты на бесхозных могилках прорежать, а заодно прихватить и хозяйские. Завтра у сестринской религии родительский день ожидается, так что свежие захоронения будет кому обиходить, но ведь всё равно им приятно, когда порядок.
– Так вы католик?
– Ах, да конечно. Вы так это интонировали, будто я оборотень какой-то или перевертыш – впрочем, насчет последнего вы правы, да и о первом в какой-то мере догадались. Был отроду крещеным, да неверующим, а когда конкретно осенило, сменил данное мне от рождения клеймо на иное…
– В самую пору вам, выходит, в полнолуние среди оборотней и вампиров работать. А также благословлять шизанутых и крезаных.
– Что и делаю, – кратко сказал Мариана.
– И как это вы влопались в чужую веру?
– Хм. Это почему – в чужую? Вера, уж если в нее пришел, всегда твоя собственная… А вообще долгий разговор у нас начался. Впрочем, ночка славная, ветер мягкий, звездочки… и до полной луны еще ой как далеко… Если позволите, поведаю я вам историю моего обращения. Не в чью-то там, повторяю, иную веру – веры у меня до того не было никакой и ни во что – а в свою единоличную, шитую на меня одновременно впору и на вырост. Я, кстати, парадоксалист, привыкайте.
И он рассказал краткую повесть, которую мы решили назвать -
ИСТОРИЯ О СУДЬБОНОСНОМ ПОЖАРЕ
Случилось это во время пожара ОВД в городе Саморе: громкое было дело, хотя вы сами вряд ли успели там ухватить лакомое зернышко – всем местная братия попользовалась. Напомню: случилось это как раз тогда, когда младший состав решил работнуть сверхурочно по случаю отбытия старшего состава с бабами в театр. Поэтому ближе к вечеру все папки из сейфов разложили на столах и ими загородились. По папкам и полыхнуло – очень уж горячий материал там оказался, ну, вы меня понимаете. Или нет: сначала вообще-то белый дымок глаза щипать стал, едкий и незаметный такой. Стены были внутри полые, с утеплителем, и тогда уже были полны огнем доверху, а мы-то считали, что это в одном из отделов шашлык подгорел. И вот тут сразу – и на столах пламя, и на полу, рук касается и в затылок дышит, а мы знай выбрасываем папки в окно, на мокрый снег. Ценность ведь – знаете, сколько по ним можно было расстрелять и посадить! Потом стали выбрасываться поверх них сами, как те челноки-погорельцы на турецком постоялом дворе поверх своих тюков… вот это вы наверняка описывали. Только тюки были мягкие, а наши папки – из дубового картона. И вообще припозднились мы: ведь наши собственные жизни принадлежали только нам, а бумаги – самому государству.
К тому времени, когда ждать внутри было уже никак нельзя, и пожарные как-то подоспели. Ну, когда я падал из окна, как птенец из гнезда кукушки, – точно знал, что разобьюсь: внизу асфальт, а у них на всё про всё один шланг, ни лестниц, ни брезента, ни даже воды нет. В такие мгновения полагается вспомнить всю твою бестолковую жизнь. Ведь человек, говорят, – он вроде дискетки одноразового пользования, и тому, кто заинтересован в считывании накопленной информации, приходится непременно ее взламывать. Вот процесс такого аварийного пользования ты и чувствуешь. Не знаю, право: по крайней мере, с меня вышеупомянутый «тот» получил только сомнительной достоверности повестушку, вроде бы по Александру Грину, хотя в таком виде я ее потом не нашел ни в одном его собрании, как ни старался. Речь там шла тоже об окне. Вот так и назовем это неожиданное вкрапление в ткань моего рассказа:
НОВЕЛЛА О ЗАНАВЕШЕННОМ ОКНЕ
Компания приятелей, может быть, та, что окружала Доброго Богача, а, может быть, кормящаяся от щедрот Злого, – вы же знаете гриновские проходные персонажи – побилась о заклад с одним человеком своего круга, и вот в чем заключалось пари. Его под воздействием сильного наркотика должны были привезти в некое место и оставить там в комнате с наглухо закрытыми окнами и дверью, защелкнутой лишь на легкий внутренний замок. Внутри было также все необходимое для краткого пребывания. Однако он не смел ни пытаться выглянуть в окно, ни напрягать свои чувства в попытке догадаться о своем местонахождении, ни, тем более, выйти наружу – это фиксировали невидимые ему наблюдатели, пари объявлялось проигранным, а он предоставлялся своей собственной судьбе. По истечении суток этого человека должны были так же тайно усыпить снова и отвезти обратно. Пари – а выигрыш, в отличие, кстати, от проигрыша, заключался в денежной сумме, весьма округлой и приятной, – не требовало, таким образом, ни совершения подвигов, ни мало-мальской жизненной активности, но, напротив, отказа от них, а также от малейших проявлений любопытства и иных эмоций по поводу своего добровольного плена.
Ну вот. Очнулся он ясным днем в стандартном гостиничном номере средней руки. Конечно, ни телефона, ни телевизора и тем более компьютера со входом в Интернет там и в замысле не было: ведь все это такие же окна в мир. Все рамы были затянуты тканью вплоть и без единой щелочки, однако ткань была светлая. (В детстве я видел в нашем поселке домик из потемневших бревен с точно такими же окнами и воображал, что там и стены тоже матерчатые и по всем им – пучки сухих трав; но домик разрушили прежде, чем я смог увериться в своей правоте.) Через ткань или некую невидимую щель проникали солнечные лучи, играли в старомодном фаянсовом тазике для умывания: вода в нем была чуть голубоватая, а на стоящем тут же пузатом кувшине были нарисованы лиловые подснежники и черемуха. Многочисленные отражения солнца в прохладной воде сплетали на потолке и стенах переливчатую сеть из золотых чешуй и радужных бликов, которая ритмично покачивалась, будто люлька или гамак.
А снаружи доносились манящие звуки большой жизни: ровный, разноликий гул голосов, рокот моторов, шелест шин, позванивание колокольчиков, стук копытец и каблучков. В нем можно было прочесть самые разные вещи, но все они подчинялись единому ритму и сплетались с мелодией, которая сама не была слышна, однако проявлялась во всех звуках и особенно когда прочие шумы утихали – как бы за их границей. Ритм накатывался волнами, мелодия же была как пребывающее вечно море: но то было не настоящее водное море, о котором наш человек знал всё.
Больше ничем не выдавал себя тот мир – даже запахами. Правда, внутри четырех стен витал как бы летучий призрак сандала, еле слышный и все же несомненный.
Здесь было так много молчания, так ровна и постоянна была внешняя жизнь и так изменчива в своей простоте жизнь внутренняя, что до нашего героя постепенно стало доходить. Он почувствовал (с силой, равной уверенности, как говорил тот же Грин, хотя, пожалуй, в совсем другом месте), что наружи – совсем иное, чем внутри. Что, отвори он сейчас ту дверь – и выйдет не к тем звукам, музыке, запаху и веяниям, какие есть продолжение комнаты, а лишь ко внешне и грубо им подобным; и, наоборот, вознамерься он поворотить назад, сама комната станет иной, принадлежащей тому грубому миру, в который он по своему недомыслию окунется. Что он случайно и вовсе не по замыслу тех, кто ради забавы манипулировал с ним, превратив его в дорогостоящую игрушку, оказался на пороге двух разных сущностей, и нельзя перейти невидимую границу так вот прямо, просто и нерушимо.
И вот когда он осознал свое положение – не разумом, а шестым чувством, – ну, он просто лег на постель лицом к стене и ее солнечной колыбели и заснул, чтобы проснуться… неизвестно где. Вот это показалось мне самым главным: никто так и не сказал, что стало с ним, с его миром и его выигрышем.
Кстати, у самого Грина иначе: дверь этот человек отворяет, но куда она ведет – снова открытый вопрос. Я тогда подумал, что между его финалом и моим стоит знак равенства; будучи из породы визионеров, он прекрасно понял бы меня, решил я.
Возможно, оттого, что я подумал обо всем этом зараз, я не упал, а скорее спланировал – будто мое время застыло – на кипу рыхлой бумаги, припорошенную серым снежком и скользкую от воды, сажи и грязи: должно быть, брандспойты уже заработали. Внутри екнуло страшно и гулко, но я уже стоял на четвереньках. Потом я выпрямился, а потом и пошел – неуверенно, как больная псина. Никто меня в упор не замечал. Пожар за моей спиной казался такой же опереткой, как та, на которую отправились сегодня наши лидеры: суматоха была явно нарочитая, струи воды из шлангов салютовали и скрещивались на фоне рыжего огня и темно-синего неба, подобно прямым клинкам, лежащих тел не было видно, а собравшаяся вокруг толпа едва не рукоплескала. Я просочился через нее и пошел дальше закоулками. Тихо было – не сказать как: и стояла, росла вокруг та благая тишина, которую я только что вообразил.
Здесь, совсем недалеко от места моей службы, находился знаменитый на весь город костел, новостройка в хорошем готическом духе. И вот мне отчего-то взбрело в голову полюбоваться на него и посмотреть, всё ли там в порядке.
Он, точно, был в порядке. Стоял в перекрестье двух лучей от мощных прожекторов, весь розово-кирпичный, и выглядел куда старше и величественней, чем днем. По всему порталу, слегка плосковатому и прелестному, как лицо юной калмычки, вилась обычная для поздней готики гирлянда хмеля, а над ней, как перевернутые пчелы, парили лилии. Поразило меня то, что и цветы, и шишки с листьями, и гирлянда, что обвилась вокруг многолепестковой розы – такого круглого витража над стрельчатым входом – были изваяны с поразительным изяществом и фантастической грацией.
Сюда пришел и длился праздник, то ли церковный, то ли карнавальный, то ли вообще рамадан. У нас там сильная мусульманская община, только я урочного времени их праздников не знал, да и зачем, спрашивается, было им подбиваться со своими фонариками и рецитацией Корана под католические стены? И, кстати, с лотками, нагруженными дозволенной и недозволенной едой? Фонарики были вообще с драконами, китайщина какая-то. Столы были расставлены прямо под звездами, нарядные люди в шубах нараспашку ели что-то, умопомрачительно пахнущее свежей выпечкой, медвяным лугом и ягодной поляной. Мне захотелось к ним прямо нестерпимо – но я постеснялся: там явно собралась своя компания. Ну, а когда эдак разыгрываешься на еду, непременно надо купить и попробовать хотя бы то, что рядом с ней полежало. Боком влиться в чужой праздник…
Рядом со мной высокий и плечистый мужик в грязно-белом фартуке продавал американистую «быструю еду», вопя при этом совсем по-русски: «Налетай, подешевело!» Я справился об остатке цены – была не так мала, но как раз по тем моим деньгам, что оказались в кармане кителя. Что я беру, не спросил: все равно, чем набивать желудок, безликой еде можно побыть и безымянной. И вцепился зубами в нечто под слоем густой томатной крови…
– Ох, горячая, собака! – ахнул я, когда огненно-жаркий сок брызнул мне в нёбо.
– Мы имеем перед собой наглядный образчик спонтанного эмоционально-экспрессивного словообразования, – с готовностью выразился торговец, чуть заметно подмигнув. – С нынешнего момента это блюдо в виде кукиша из говяжьей сосиски, нагло воткнутой в булку, будет с вашей легкой руки именоваться «горячей собакой», в переводе на американский диалект английского – «хот-дог». Примите поздравления!
– Принимаю, – откликнулся я как мог внятно и приветливо. Эта сосисища уже поостыла и вкуснела прямо на глазах… то есть на языке.
– Раз вы такой добрый, может, и собачку мою угостите? – спросил он.
Я протянул хвостик моей вкусноты вниз, где сидела крупная вислоухая псина в точности такого же цвета, что хозяйский фартук: похоже, именно она привезла сюда тележку с человеческим кормом. Взяла она кусок из моих рук очень деликатно и с благодарностью вильнула хвостом.
– Видно хорошего человека, – сказал он. – и поделился бы не всякий, и она не от любого бы приняла. Не хотите ли мне в помощники? Мир посмотрите.
– Вроде призвания такого в себе не ощущаю, – отшутился я. – Мне еще вон туда хочется. Под сень роз и лилий.
И показал на храм.
– Что же, вы правы, – задумчиво отозвался он. – Пристал тут к вам со своими чудаческими предложениями и считаю… Э! Учтите, предложение мое осталось в силе.
– А как я дам понять, что согласился? – отчего-то спросил я.
– Да вот Белянка моя теперь от вас нипочем не отстанет. Ну, не как репей, она деликатная, вы ее даже замечать не будете. Вот когда понадобится, она и проводит. Только дайте ей знак. Опять-таки знак может быть любой – она поймет.
– И что дальше? – спросил я.
Он только ухмыльнулся.
Ну, а я зашел к католикам, да так там и остался. Крестился, потом обет произнес… Праздника того больше не встречал, только он, похоже, однажды всего и бывает – когда смерть тебя стороной обойдет или новая жизнь к тебе приблизится.
– Поэтому вы теперь вроде могильного смотрителя? Ну, что смерть вами поперхнулась.
– Да не смотрителя – уж скорее садовника из философской притчи, – Мариана усмехнулся в полутьме. – Знаете, того, кто соблюдает сад, а сам незаметен, так что лишь по красоте сада можно его вычислить. А у нас тут сад богатейший. Ладно, заговорился я тут с вами, а мне ведь пора. Я днем, видите ли, не работаю. Кстати, если захотите отсюда выбраться, – прошу в гости. От центрального озера против течения реки и тут же на горушке. Белла моя ту дорогу хорошо понимает. Всего вам наилучшего, и не забывайте!
– Постойте, – крикнул Влад в растерянности, – это куда еще вы пойдете?
Но напроситься в попутчики не успел: патера как ветром сдуло. Видно, и впрямь давно пора ему было.
– Не судьба, – вздохнул Влад.
И снова зашагал по спутанным, как пряжа, тропкам, глядя то под ноги, то в небо. Звезд, по преимуществу шестилепестковых, высыпало как веснушек, даром что на дворе был уже сугубый июнь. Впрочем, после того, что случилось, он не так был уверен во времени – пока они с Марианой вели беседу, могло многое проистечь. Во всяком случае, потеплело на кладбище заметно, кусты стали гуще и цветистей; только месяц как был, так и остался юным и тонким. Правда, раньше посередине у него вырисовывался не то крест, не то треугольник, отчего он был похож на критскую бычью голову; а сейчас на одном из рожек Тельца горела крошечная, лукавая звездочка о пяти кончиках.
– Иудейское небо, как над писателем по имени Маршак, что заплутал в пустыне под городом Иерусалимом и был тем счастлив, – бормотал Влад, – христианская освященная земля, а месяц над нею, смотри-ка, мусульманский.
Он прищурил левый глаз и глянул повнимательней. То была не вполне звезда – скорее человечек, чьим символом как раз и служит звезда с пятью оконечностями. Символ на ходу превращался в то, что им изображалось. И вот на нижнем роге Теленка уселась, свесив ножки, девочка в полупрозрачной рубахе до пят и таких же шальварах; да и сама она была как из дымчатого хрусталя. На таком расстоянии казалась она меньше ногтя на мизинце, однако все прелести ее, не столько лилейные, сколько кисейные, вырисовывались очень недвусмысленно. Видны были и глаза, что смотрели вниз печально и с еле уловимой насмешкой.
В знаке Рака
Имя – МАРФА-МАРИЯ, или МАРИОН
Время – между июнем и июлем
Сакральный знак – Кровь
Афродизиак – бузина
Цветок – орхидея
Наркотик – опиат (губная помада)
Изречение:
«Вы всосали смерть, был свет – молоком, вы – столпы из крови и лучистый алмаз,
Вы – яркий свет, вы – человек, молодая земля набухает в руке у вас».
Людвиг Рубинер
– Господи милосердый! – ахнул Влад, распознав как следует, что именно он видит. – Куда ни кинь, куда ни глянь, везде бабы!
– Я не баба, – рассмеялась крошка смехом, целиком состоящим из чистейшего серебра самой лучшей пробы. – Я Лунная Дева, Небесная Ткачиха. Иногда зовут меня Чан Э, а иногда сестрица Хуа-Бянь, «Радужная Кромка», потому что я умею ткать радуги. Но и простые кромки для одежды у меня на стане оживают.
– Вот как. А что ты на них изображаешь?
– Всех тех животных, которые вызывают утро и ясную погоду – вытягивают солнце на небо из того болота или ямы, куда оно свалилось к ночи. Петуха Шантеклера с алым гребнем и цепкими шпорами. Павлина Мора, которые поет свои песни ради того же самого, что и Шантеклер. Лебедей, что везут колесницу розоперстой Эос. А однажды – Белого Жемчужного Дракона. Только раньше я старалась их не доделывать, не протягивать через тканье одну нитку или две, чтобы они не ожили и не захотели улететь на небо, откуда они родом. Ведь ожить-то им просто, а вернуться на небо – не очень: для того они вправе потребовать у меня каплю моей теплой души. А у меня ее нет – я ведь лунная, холодная.
– Ты что, так на Луне и живешь безвылетно?
Рассмеялась девочка, и по ее смеху Влад понял, что она старше, чем кажется снизу.
– Меня крепко обидели там, на вашей земле: посадили в темницу и заставили ткать узорные отделки для императорских одежд. Звери и птицы на них получались у меня как живые – одной совсем малой малости не хватало им. И вот когда мне стало совсем плохо – потому что приказали мне вышить дракона в полный рост – изобразила я маленького дракончика, что как раз уместился на ширине полосы, и напоила его не каплей, а всей своей кровью. Он не просто ожил, а вмиг стал большим и сильным: попалил всех моих врагов, выпустил всех императорских узников, а меня унес на небо, потому что не могла я больше жить на земле.
– Это и был, выходит, Жемчужный Дракон?
– Он им стал.
– А сейчас он где?
– Он? Ты его видишь, но не всего. Он заслонен светом луны, которую держит в своих зубах. Есть драконы лунные и есть солнечные, и душа их – жемчужина в их пасти. Жемчуг этот – разного цвета: желтый и голубой, красный и черный…
– Звезды и планеты, что ли? Странный у нас разговор завязался: сплошные сказки. Вот уж не думал, что стану с девицей тачать лясы и травить побасенки. Послушай, отчего бы тебе сюда не спуститься? Кричать, знаешь, несподручно. Тут тихо, безвредно, а врагов твоих, наверное, дракон уже всех поел.
– Враги мне не страшны, это верно. А кричать зачем? Ты меня слышишь, я – тебя.
– Тогда просто так прилетай. А боишься меня – своего дракона с собой возьми.
– Космической катастрофы вам тут не хватало, – расхохоталась девушка. – Слушай, ведь не удастся тебе меня подначить, сам должен это понимать: не ты первый пробовал. Вот если бы не ты меня, а я тебя хоть немного ужасалась и не хотела свой страх показать – тогда бы твое дело выгорело.
– Выходит, я тебя боюсь? Ну, сказанула! Не знаю, как другим, а мне что так, что этак терять нечего. Один поп сказал… В общем, мы с тобой два сапога пара и по судьбе – двойной орешек под единой скорлупой. Давно мне никто не приходился по сердцу.
– Благодарствую за честь. Только вот ты сам мне не так чтоб очень к сердцу прилег, скорее в печенки въелся. Думаешь, это в первый раз я тобой сверху любуюсь? Словом, как говорят: хочешь сманить птичку с ветки – спой ей песенку.
– А о чем?
– Сам придумай: ты ж у нас мастер.
– Хм! Знаешь, раз у нас тут зашла речь о жемчуге, не хочешь ли послушать, чем меня убаюкивала моя покойная бабушка? Сам я, выросши, стал не настолько сентиментален, чтобы ею наслаждаться, но тебе, по-моему, она в самый раз.
И он рассказал ей историю, которая ныне известна под следующим названием:
СКАЗКА О ЖЕМЧУЖНОЙ РАКОВИНЕ
Каждый солдат несет в своем ранце маршальский жезл. Любая ракушка, что живет на речном или морском дне, даже на плоской литорали, мечтает вырастить в себе жемчуг, равного которому нет на земле, да и на небе, пожалуй, тоже!
Вот и заглатывают, затягивают в себя всякую дрянь из воды – это я о самых жадных и наглых. Скромницы тоже, хоть и нечаянно, а получают таки свою занозу; результат в обоих случаях практически один и тот же. И больно, и противно, и мочи нет обволакивать своей слизью – долой ее, эту соринку со всеми на нее надеждами! Если получится, конечно: но, вопреки тому, что знают о раковинах люди, получается такое на удивление часто и просто.
Есть еще один разряд – хамок, которые сами напрашиваются к человеку на операцию под наркозом и послеоперационный уход. Жемчуг в таких вырастает, но в холе он дешев: сделанное – не природное!
И только самые терпеливые творят в себе настоящий жемчуг. Оттого и случается это очень редко…
Случилось так, что раковина совсем иной породы и касты, чем так называемые жемчужницы, пожелала невозможного. В их среде и разговоров таких никогда не было, а она осмелилась… Ну, моллюск в ней, разумеется, жил и на отдыхе небольшой створочкой прикрывался, но сама она была не двустворчатая, а извитая, как рог Тритона. И не могло ее подвижное, самостоятельное тело по самой природе своей зацепиться ни за какой клочок материи. А где же это видано, чтобы кто-то выходил из границ, самой натурой поставленных всякой твари?
Моллюск такой ракушки, как уже намекалось, склонен, по сравнению с прочими, к относительному бродяжничеству: пока ему хорошо в своем домике, он хоть и отходит от него, но совсем недалеко, а вырастая – покидает свое пристанище и ищет нового. В юной раковине жил хорошо уже поживший слизняк, поговаривали, что именно он заразил ее сумасбродными идеями…
Пока моллюск терся нежным животом о песок и камни, оставалась еще надежда, что он принесет в себе зародыш жемчуга и поселит в своей напарнице. Но он умер, и наша раковина осталась безнадежно пустой. Себя она, правда, не очень жалела – успела привыкнуть к целомудренной судьбе. И тогда пожалело ее само широкое море и сказало:
– Ни жильца в тебе, ни сора, ни драгоценности – одна пустота. Хочешь, я наполню ее самим собой?
– Но ведь тогда никому другому не удастся войти в меня, чтобы найти приют, – огорчилась раковина. – А ведь давать приют – мое предназначение. Ты вытеснишь из меня – меня саму.
И все-таки она не воспротивилась, когда море, прихлынув, наполнило ее своим шумом.
– Ты всегда останешься собой и будешь равна самой себе, – тихо пророкотало море, – это меня будет прибывать в тебе день за днем, год за годом, с каждой струей, приходящей и уходящей, пока ты не станешь равной всему мне.
Так, с морем внутри, жила раковина еще долго, почти вечно; и носили ее течения, перекатывая по дну, чтобы познала она все чудеса влажного мира. Все воды морские протекли через нее, ибо она не умела закрываться от них. А когда самая большая волна подстерегла ее на мелководье и выбросила на берег, она решила, что пришла ее смерть.
Но то был ребенок, который играл на песке под ярким небом и тотчас же подбежал, накрыв раковину своей любопытной тенью. Он схватил тяжелую, отполированную водой и песком трубу – розово-бежевая внутренность едва просвечивала сквозь коричневатую кожу с перламутровым отливом и выгядывала через вытянутое в длину отверстие – и обеими ручками поднес к уху. От взрослых он слышал о звучащих раковинах: и все-таки многоголосый орган приливов и отливов оглушил его, протек через него насквозь, ничтожа его нежное тельце и хрупкую душу. Мальчик испугался и бросил раковину назад, в песок.
Он выжил, конечно, и поборол свой страх – когда он вырос, не было на свете более отважного мореплавателя и поэта.
Второй мальчуган, который заинтересовался раковиной, был постарше: этот не испугался морского органа и долго его слушал. Потом заметил он, что самый кончик раковины то ли обломился, то ли проколот, и подул в него. Звук чудовищного рога был так величествен и страшен, что едва не сокрушил ему кости. И хорошо, что на линии его не оказалось ни одной живой души: там, где пал он на песок, поднялся смерч, на камни – пропахалась глубокая борозда.
«Второго раза мне не выдержать, – подумал мальчик и положил раковину в расщелину скалы. – Может быть, кто-нибудь из взрослых подберет это чудо и найдет ему достойное применение».
Этот мальчик, выросши, стал несравненным композитором и певцом, потому что не боялся тех созвучий, порой диких, порой неземных, которые чудились ему во всем мире и приходили во снах.
Но третьим, кто нашел раковину, по иронии случая оказалась девочка, вовсе не взрослая, а, наоборот, куда меньше каждого из прежних детей. Чтобы унести роскошную находку к себе домой, ей пришлось снять свое платьишко и скатить ее туда, как в мешок. Она не смогла нести этот мешок и волокла его по земле следом за собой, без особого почтения, но аккуратно и бережно.
Девочка не испытывала раковину. Она была незатейлива и не мечтала ни о славе, ни о богатстве; поэтому она даже не попробовала извлечь из раковины новое чудо – просто полюбила её за то, что та была такая красивая. Про себя-то она уже знала, что нехороша собой – ей не постеснялись сказать о том люди. А поскольку трудно причесываться, совсем не глядя на себя, девочка с трудом водрузила свою находку на туалетном столике своей матери. Над ним было повешено красивое большое зеркало, самая ценная вещь в доме. «Теперь я смогу иметь и под стеклом, и в стекле кое-что куда более красивое, чем я и чем наша ветхая скорлупа», – подумала девочка. Ну, может быть, не так сложно и не так связно – она ведь даже в школу еще не ходила.
В самом деле, и мебель, и стены их старой квартиры были неприглядные: краска и побелка облупились, потеки грязи почти не смывались, а протечки множились от весны к весне. Они стеснялись этого и старались заглядывать в зеркало пореже. Мало отражались в нем и родители девочки, но уже по другой причине: им приходилось много работать. Вот и жили по ту сторону стекла только двое: двойник девочки и копия раковины.
Девочка взрослела, умнела – раковина оставалась все такой же. Девочка – потом девушка, потом женщина или, точнее, старая дева, потому что она так и не вышла замуж, стыдясь своей некрасоты, – щедро расточала себя и свое небольшое достояние, которое оказалось неожиданно крупным: сколько ни отдавала она нищим, сиротам, бездомным псам – для того, кто приходил вслед за ними, всегда находилось и доброе слово, и вкусный кусок, и даже блестящая, недавно отчеканенная и заработанная монетка.
От раковины не убавлялось ни пылинки, ни звучания: сама по себе она не умела делать того, что делала женщина. Даже напротив: отверстие, которое образовалось в остром конце, заделали особой пастой, и звуки обречены были без конца копиться и наслаиваться друг на друга внутри.
Женщина и ее зеркальная соседка старели, раковина и ее отражение пребывали неизменно. Наконец, женщина стала совсем дряхлой. Она не покидала кресла, что было поставлено прямо напротив зеркала, но глядела не в него, а на раковину с нежной розоватой плотью, которая казалась ей чем-то вроде ее нерожденного ребенка. В доме снова стало полно народу – молодых людей, друзей старухи и детей ее друзей и родичей. Они хлопотали вокруг, изредка и вскользь бросая взгляд в зеркало – так оно увидело, как хороши бывают человеческие лица, и это как бы кружным путем отложилось в раковине.