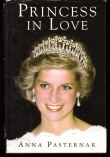Текст книги "Геи и гейши (СИ)"
Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
«Начни себя ты с чистого листа,
Переверни с помарками тетрадь:
Занятие, приличное для тех,
Кому по жизни нечего сказать.
Не выставляй помойного ведра:
Серебряную ложку поищи,
Что в рот тебе засунули, когда
В утробе ты сидел, как тать в пещи.
Спустись затем душе своей на дно —
В колодец, затерявшийся в ночи.
Хоть засорен он дрянью – все равно:
На глубине всегда кипят ключи.
Чтоб встретить идеальный архетип,
Сниди под сень колючих этих струй:
Хоть кто не совпадет – считай, погиб,
Но все-таки в колодец тот не плюй.
А наплевав – уйди оттуда вон!
Собаки пусть цепляют за штаны —
Ты не Дурак, не новый Актеон,
Тебе не эти жребии равны.
С судьбой своей сыграй теперь в тарот,
Чтоб с Королевой заключился брак;
Она, пожалуй, Ганса предпочтет —
Ведь ты, как ни прискорбно, не дурак.
Но ты колодец снова не дрочи,
Его в сердцах лопатой не копай:
Взрывая, замутишь его ключи,
Так ты его, пожалуй, не взрывай.
А бомбу бросив, прочь беги скорей:
Возмездие находит, как гроза,
И ты помрешь, увидев Матерей
Стальным огнем горящие глаза!»
– Ну и что всё это значит? – спросила Белла, с облегчением зализывая ранку.
– Да так, произвольная вариация на тему карточных гаданий, Великого Делания и юнговского учения об архетипах, – скромно ответила Рахав. – И еще античные мифы и современные психоделики. В общем, как я понимаю, предупреждение женщины мужчине, чтобы не слишком манипулировал со своим подсознанием.
– Вот теперь и я догадалась! – с торжеством сказала собака. – Это мы через кактусоводов пострадали. Перед нами – поле, засеянное лофофорой Уильямса, или кошенильным кактусом. Кормушка той тли, что дает хорошую краску для сыра, масла, сукна и красных полос на сенаторских тогах.
– А для красных знамен не она в свое время шла?
– Может быть. Недаром от той красочки мозги всех толп так взбунтовались, – ответила Белла. – Хотя сам кактус в натуре еще покруче будет.
– Как он тут вообще появился? Средняя полоса, как-никак, – удивилась девушка. – Я думала, его место – в оконном горшке.
– Да раскаявшиеся хуанисты, небось, побросали по наущению православной церкви. А почва еще раньше уж так славно удобрилась всяким инакомыслием, что и невзирая на климат проросло и процвело, – с ехидцей объяснила собака. – А вот, смотри, тут кое-что и прямо для тебя.
Действительно, поверх асфальтовых обломков свежим еще цементом было наляпано: «Здесь был Вася». Окончания слов, правда, вышли неразборчиво, известная неясность дорожных инкрустаций вызывала в памяти Булгакова с его Василием по прозвищу Василиса, который то ли был, то ли была, то ли и посейчас где-то есть.
– А почему ты думаешь, что это то самое? Кольцо всё такое же умеренно теплое, как…
– Ты не смотри, а нюхай, как я, простота! – воскликнула собака в запальчивости.
Действительно, характерные запахи – отнюдь не растительного происхождения, скорее животного – сгустились до того, что их стало возможным попробовать и наощупь. Поэтому Рахав в своих надежных кроссовках смело полезла на лофофорное поле, перемежающееся довольно густым кустарником. Внутри одного из особо пахучих кустов обнаружилась небольшая лысинка типа тонзуры: а на ней, в небрежной позе едва живого трупа, возлежал некто в черном сюртуке, кое-где проеденном молью, и безоглядно почивал. Хотя сюртук смотрелся и ароматизировал так, будто в нем ловила кайф вся тутошняя держава, засален и потерт он был на деле нестрашно – вроде бы его не носили активно, а только спали в нем по особо торжественным случаям. Чудовищно огромный мухомор распростер над спящим свою алую лакированную шляпу, усеянную жемчугом, как кобра Будды Шакьямуни – свой капюшон. Гвоздики бледных поганок и ложных опят проросли между изящными длинными пальцами, трава вьюнка плотно опутала ступни и колени, над самым сердцем рос подсолнечник – живой его символ. Трагикомическое распятие довершала уж абсолютно шутовская, но тем не менее вполне этнографическая деталь: в развилке брючных ног, будто ради поношения, пророс большущий гриб-вешенка, близкий к состоянию зрелости. (Впрочем, ритуал натурального распятия строился так, чтобы побольше опозорить вдобавок к неминучей смерти – зрелище, полагаем, не для слабонервных.) Однако мертвецки спящее лицо в ореоле длинных и легких кудрей было прекрасно и безмятежно: золотистые завитки обрамляли высокий купол лба, янтарно-розовый лик источал благолепие, а редкая поросль бровей над закрытыми веками заставляла предположить высокий смысл, который возник бы в зеницах, если бы они отверзлись. И что самое главное, на пальце сияло кольцо уже из чистого золота – с широкой, ясной пентаграммой, по своему размеру могущей служить оправой той фигуре, что была у девушки.
Когда Рахав нагнулась над телом спящего, застарелый аммиачный запах достиг такой мощи и выразительности, что даже Беллу, стоящую вне его досягаемости, передернуло: наверное, из сочувствия. Рахав же только слегка сморщила свой просоленный морской носик, вытаскивая из сюртучного кармана документ.
– Вас. или Вс. Беспробуднов, – и еще с ятем, как смирновская водка, – доложила она. – Василий, наверное.
– Пьет он, уж точно, без просыпу, – хмыкнула собака.
– Да нет, он не пьяный, Белла, это в нем кактусы бродят, наверное. И не обкуренный. Просто слишком далеко отсюда ушел.
– Очевидно, сменив патриотическое пристрастие к мухоморовке на любовь к трем зарубежным апель… кактусам, – съехидничала Белла. – И за недостаточную приверженность к здоровым национальным идеалам загремел на строящуюся башню этого нового Вавилона.
– Скорее с башни, – вздохнула девушка. – Как не расшибся только: наверное, лофофоры эти спружинили.
– И бухой был по жизни, – добавила Белла.
– Я опьянен одним янтарным виноградом, – не совсем внятно, однако членораздельно возразил им субъект из своей отключки, – но млека род в себе таит хмеля отраду.
– Держу пари, что наяву он слагает стихи получше, – заметила собака. – Это он что, кумыс или молочай приплел?
– В любом случае наша доля – вытащить его отсюда, – решительно заявила Рахав. – Цементный вопль о помощи ведь это он издал.
Она присела на корточки, что в натянутых бриджах было делом непростым.
– И если самые лучшие стихи растут из всякого сора, почему бы и из такого поэта не вырасти пророку? Не забывай, собака, что все грязное можно очистить, на запретное испросить разрешение.
– Это не ты говоришь, значит, и не ты мыслишь, – тихо рыкнула Белла. – О стихах – поэтесса, об очищении – японцы. Ладно, я тут прикинула, что можно кое-как и мне пройти ни минное поле. Давай рискнем отгвоздить пригвожденного и отопнуть распятого…
– В распятии моем объемлю я небеса, моря и землю! – провещал Вася, приоткрывая левый глаз – зелено-золотой, как у кота, пронзительно-пытливый и хитрый до невозможности. – Простерт по ней и к ней же пригвожден: впиваю соки и ее закон. Страдаю скорбью и впиваю сладость…
– Сразу видно, до чего невмоготу ему стало в той прозаической архитектурной шараге, – фыркнула Белла, осторожно пробираясь меж тонких шипов, – вот потому и сверзился из того, вроде бы, окошка, что под самой крышей башни.
– Я башню безумную эту воздвиг над смятением жизни, – снова завел свое Василий, – и стал прорицать с высоты, и сеть я раскинул речей. Но где же мой улов? Где рыбы мои?
– Скорее воробьи и вообще мухи. Какие рыбы на такой высоте? – прокомментировала Белла. – Разве что летучие.
– Странные ассоциации, – согласилась Рахав, – это он, наверное, захотел кушать.
– По себе я возалкал! – требовательно возразил тем временем лежачий. – Я в глуби своих зеркал. Истина обо мне самом потеряна на дне колодца из двух гладких муранских стекол, поставленных друг против друга: возникающие в этом лабиринте двойники борются, не видя, что они братья. Может быть, они давно уничтожили друг друга и меня впридачу, возможно, я умер раньше их обоих, и лишь мой двойник бродит из зеркала в зеркало, заключенный в них, как рыба во льду, тщетно добиваясь права первородства. Ибо есть и мой нерожденный, мой истинный двойник и прототип, которого не видно в зеркале, как вурдалака, логра или варка. Только повстречав его, я смогу поистине заговорить.
– А что ты нынче делаешь, если не болтаешь, будто коровий колокольчик? Вот поистине замечательный бред! По-моему, вопрос накормления сейчас не столь актуален, как проблема протрезвления, – прокомментировала собака.
– Так чего ж мы тут стоим? Хватайся за сюртук и тяни!
– Вот сейчас, взялась для тебя пасть грязнить и лапы мозолить, – проворчала собака, но не без известного удовольствия покорилась.
– Нет-нет, провидец и поэт он настоящий, – определила хозяйка таверны «Под Собакой». – Может быть, оттого, что сам себе двойник и осознает это. Если Вася есть уменьшительное и от Василий, и от Василиса, то это намек на андрогина. (Кстати, помните фильм «Василий и Василиса» о супругах, которые никак не могли помириться? От того самого и не могли, что их притягивало друг ко другу до полной потери самости.) Божественный гермафродит – это символ, внешний знак провидца. Символ же андрогина – дерево, которое протянуто между небом и землей, или крест распятия. Ведь и Христа иногда изображают на древе. Личный дар вашего найденыша усилился тем, что перешло к нему от покойной и горячо любимой жены Диотимы: снова единство двух половин рода человеческого. И все-таки лучше бы вам его сюда не притаскивать – он же постоянно день с ночью местами менял. С вечера до утра обучал античному стихотворству, а с утра до вечера отсыпался. Нынче у него вечный день, однако!
– Если он видит скрытое, то, может быть, и для меня найдет мой жемчуг? – спросила Рахав.
– Жемчуг есть Маргерит или Маргарит, – провещал Василий. – Марево, Мара и Майя суть его покрывало: осмелься и нырни в морской водоворот, что Майею учитель наш зовет, схвати со дна и вынеси в горсти – и будет то она, пришедшая спасти. Одета ореолом, грядет теперь она – Сирена Маргарита, Предвечная Жена.
– Забавник, – проворчала Аруана.
– Ни бе, ни ме, ни кукареку по-людски и притом лыка не вяжет, – ответствовала Белла, – Невеста без места, жених без ума – и оба в одном лице. Хотя, может быть, в этой призрачной жизни только так и надо?
– Ну ты, вечная девица, – распоряжалась Аруана чуть позже, – займешь за столом свое законное место. Свою норму платежных россказней ты не выполнила, зато говоруна раздобыла, и как быстро-то!
Была она сейчас до того статна и величава, что под пару ей оказался изо всех присутствующих мужчин только Василий-Василис-Базилевс, который после того, как его вымыли лавандовым мылом в воде, настоянной на гвоздике и розмарине, облачили в хламиду тонкого льна и расчесали кудри рябиновым гребнем, помолодел до невероятия. Тем не менее, Спящий-Без-Просыпу и не думал возвращаться в мир наличной майи из своего собственного бреда.
– А с этим ловцом жемчуга что будем делать? – спросила собака. – Ногами он стойко не владеет. Может быть, попутешествует в том самом исконном и посконном смысле, а именно – на колесах, как привык?
– Лучше попробуем снова определить его на ту кровать, – ответила Аруана.
– И мне что, еще раз вам всем помогать? – вздохнула Рахав.
Однако при звуке их голосов – а, может быть, голоса одной Аруаны, – Вася приподнялся с простыни, расстеленной прямо на полу у очага, взгляд его ударил, как зеленая молния. Он на миг соединился со своим двойником, и на них нашел белый стих. Этим стихом сложил он песню, которая названа здесь -
ПРИТЧА О ВИДЕНИИ СУДА
Низринулся я с Вавилонской Башни, верх которой теряется за девятым небом, а низ, проходя через девять ступеней ада, смыкается с верхом, ничуть не изгибаясь. И слышал в моем полете голос ветра, что вдувал мне в уши властные слова: «Иди и смотри». А когда я стал на ноги, увидел я пред собой трех всадниц: были они обнажены, как боевой меч, и сияли, как истина. И первая дева восседала на коне рыжем, имя ему Пламя; кожа ее как утренний снег и власы точно знамя мятежа. И была вторая жена верхом на коне бледном, имя же ему – Терзание-и-Ад; косы ее темней грозовой тучи, когда через нее сверкает молния, а лик осмуглел от нездешнего жара. И оседлала третья старуха вороного коня по имени Смерть; кожа ее была иссиня-черна, как лиловый тюльпан, и седые космы стелились по спине и бокам коня до самых стремян. Глаза же всех трех были одинаковы и подобны очам гневного Ангела Златые Власы. Этими глазами посмотрели они на срединную землю, простершуюся перед ними во всем своем бесчестии: изнасилованную и оскверненную, отравленную и вспоротую железом, – и возгласили: «Это падший Адам такое сотворил!»
Но углядели они трое в сердцевине погибельной земли одинокое деревце, бывшее маслиной и смоковницей, но не маслиной, не смоковницей и вовсе не соединением обычной маслины и обыкновенной смоковницы в одно. Почти иссохло дерево, однако плоды его созрели и на вид были полны свежего масла. «То дерево взрастил Адам, и погибель в нем и на нем, – сказали женщины, – но плоды его от солнца, и они чудны». Тогда собрала самая юная из жен плоды в горсть, и средняя выжала из них масло, и старшая пролила масло наземь, спрятав косточки в землю.
И снова некто повторил мне голосом, как бы моим, но подобным буре: «Иди и смотри». И посмотрев, увидел я, как само собой возгорелось масло и как огонь его уничтожил погибшее дерево, а вместе с ним – и то, что привело его к погибели; всё, что осталось на земле от человека. Но семена сразу пошли в рост на сем пепелище и дали стройные, ровные, как струна, побеги, изумрудные и золотые; как луч, и пронзала взор и обоняние их свежесть, и ветер, пролетая сквозь их листву, обретал запах сандала, нарда и яблони… Сомкнулись созревшие кроны, укрывая землю от гневного ока небес, и понизу протекли ручьи со сладкой водой.
Тогда в третий раз услышал я голос как бы из самого себя, и был он подобен урагану: «Лишь воины за веру войдут в сад, и те, кто ищет свой путь, и находящие себя в конце его».
Я обернулся – и вот: на коне белом сильный муж с ликом, что благородством своим подобен женскому, и в правой руке его – буковая трость, и готовится он погрузить ее в огненную чашу, что в левой его руке, чтобы писать пламенем буквы.
И, говорю я вам, – берегитесь! Познает сей муж всех трех жен, которые суть одна в разных ликах, и войдет в вертоград бесхладный и бессолнечный, и сорвет лучший цвет и плод его, чтобы прорастить семя в сердце пустыни – и его будут все плоды земные.
Грядет пахарь, и сеятель, и хозяин жатвы!
ВОСЬМОЙ МОНОЛОГ БЕЛОЙ СОБАКИ
Боярышник – whitehorn – и терн для венца blackhorn.
И то, и другое – знаки Совершенного человека. Идеального мужа.
В честь Христа зимой цветет светлый боярышник, и после Варфоломеевской ночи на него не нарадуются оставшиеся в живых. В честь него зреют терпкие черные ягоды меж колючек.
Три тополя есть на свете (не считая тех, что на Плющихе) – наш обычный, так называемый белый, дрожащий, или красный, – та самая осина, что не горит без керосина и является любимым деревом вампиров; и тополь черный – корявый осокорь.
Те же три цвета в одном-единственном растении, бузине: цветы ее белы, ягоды (зеленые в начале лета) становятся рыже-красными в его середине, черными осенью. Три цвета времени – три цвета бузины, которую так любила Марина, дочь Сотворителя Музея.
Три цвета – белый, красный, черный – соединяются в разных реалиях, повторяются в природе с удивительной настойчивостью… Будто она хочет этим сказать нам нечто.
Три цвета земли. Три цвета женщины: ведь земля искони воплощает и олицетворяет женское начало. Три цвета Конца – ведь женщина знаменует собой Суд.
В знаке Быка
Имя – ВЛАД
Время – между апрелем и маем
Сакральный знак – Телец
Афродизиак – эфир (небесный)
Цветок – василек
Наркотик – сома вульгарис
Изречение:
«Радость может быть беспричинной, но размышление без понимания предмета бессмысленно. Большое удовлетворение может доставить простое созерцание мира, но это удовлетворение будет намного глубже, если мысль человека способна проникнуть сквозь видимую оболочку вещей и понять внутреннюю связь между ними».
Пол Эткинс. Молекулы
– Позволь, о мать всех плетений, кружев и сетей, – сказала Рахав Аруане, – посмотреть в глаза этому удивительному прорицателю, сочинителю новых апокалипсисов, и сделать это прежде, чем я усядусь за овальным столом рядом с моим милым… – моими милыми Даланом и Оливером. Если он так восхитительно зорок во сне – представляю, как он грезит во время чистого бодрствования.
– Об этом не беспокойся, девочка, – ответила ей хозяйка. – Не ты одна, все мы слушаем друг друга и неким образом участвуем в рассказах, где бы они ни разворачивались и к каком месте мы ни находились.
В самом деле: к ночи пьяница отрезвел, заметно приободрился, и даже от перевернутой пятиконечной звезды на его пальце изошли снопы лучей, будто от целого горящего храма. Простерт на своем импровизированном ложе он был по-прежнему, однако закутался во множество пледов, невесть чем порожденных – возможно, самой гостиничной атмосферой, – нацепил на голову академическую ермолку или иудейскую кипу, что до того прятал в кармане, и совсем внятно заявил, что для вхождения в роль ему потребна кружка горячего, черного – чтобы за ним и донца не видать – и горького цейлонского чаю; на кофе же никак не соглашался, говоря, что это заморская выдумка. И вот что поведал восхищенной аудитории, склонившейся над его ложем, в том числе и собаке Белле.
ИСТОРИЯ О НАСМЕШЛИВОМ КИЛЛЕРЕ
Жил да был на белом свете некий беспечный расчленитель незыблемых истин, Джек-Потрошитель священных коров, который убивал направо и налево с помощью своего острого, как рапира, языка, недоброжелателями сравниваемого с ехидниным жалом. Происходил он из той достославной породы людей, что появилась непосредственно после Адама и совсем незадолго до печальной истории с Евой: поэтому соединял в себе сразу две наиболее почтенных древних профессии – а каких, и так понятно.
Что до первого ремесла, то был он, безусловно, непревзойденный потаскун: с каждой встречной особой женского пола неудержимо хотел слипнуться, а достигнув этого – без пардона бросал. Кое-кто, впрочем, утверждал, что бросали его, не вынеся избытка в нем желчи: ерунда, то были завистники, которым из-за него самим не отламывалось. И еще говорили о нем: когда мужик так мечется по бабам, то, уж верно, в глубине души желает, чтобы его взнуздали и обротали.
Что же касаемо второй профессии – был он как будто из тех документалистов, граверов, фотографов и писак, которых называют этим итальянским словцом… вроде спагетти или папирос. Ну, в общем, тех, кто находится в вечной гонке за горяченьким. Только их всех он бы, случись им состязаться, на первом же круге обскакал. А всё почему? Потому, что, надо отдать ему справедливость, не врал он ни капельки, ни чуточки, ни глоточка, но резал правду-матку. И не было в том его вины, что эта правда сама по себе была так гола, так нелицеприятна, а по временам и вообще убийственна. Вот искрометный стиль, который совершенно доканывал жертву его правдолюбия – то была и в самом деле его кульпа и даже его максима кульпа.
После грандиозного пожара, что произошел в телецентре, где погорел колоссальный маяк исторического значения и умягчился от жара сверхпрочный его государственный бетон, натянутый на сетку, ажурную, как чулок проститутки, именно его беспардонный желтый журнальчик тиснул статью под заголовком: «Загнулась главная женилка страны». А когда внезапным ураганом с самого почитаемого столичного монастыря сорвало чудовищной величины золотые кресты и обрушило их на верха прилежащих к кладбищу склепов, он тотчас же опубликовал на спешно созданной детской страничке некую невинную вещицу – сказочку Андерсена в своем личном переводе. Оригинал назывался «Как буря перевесила вывески», и можете представить, какого именно рода были внесены в него уточнения и дополнения!
Работал он не только по катастрофам. Перед великими религиозными праздниками его любимое печатное издание разнуздывалось с удручающей регулярностью – от одного касания его языка или там писчей трости все священные проститутки обращались в простецких шлюх.
Он вообще работал по преимуществу с женским уклоном – никто не смел заподозрить его в том, что он не натурал, – всячески стремясь принизить и опорочить тайную власть женского пола над миром. Ради того с восторгом именовал он Деву Марию пряхой и ткачихой и в сотый по счету раз перемалывал и перелицовывал древнюю сплетню о солдате Пантере. Для еврейского менталитета пряха, и в самом деле, такое низменное занятие, что после него только на улицу и идти. Однако некий ученый приятель нашего словесного убийцы написал как-то в своем труде, что женщина именно своим тканьем и плетеньем мифологически пересоздает тварный мир, подобно одной из парок. Бог ведает, что имел в виду этот книжный червяк – к тому же и у приятелей мысли порой далеко отстоят друг от друга.
Наш герой – а имя ему, кстати, было Влад, то есть Владетель – благодаря таким повадкам и нападкам постоянно нарывался на дуэли, похожие на ту, что так подробно и даже растянуто описана Честертоном. Дрался он на горячем, и на холодном оружии со всеми оскорбленными защитниками дамской и божеской чести, не однажды сам бывал бит, но, к несчастью, не до смерти. И все оттачивал свое многообразное мастерство до тех пор, пока ему и Мефистофель сделался не брат! Тогда стали как-то вдруг модны интеллигентские бои на дедовском оружии. Потомственные менты вначале предпочитали пушку, военные – калашникова, рыцари большой дороги – перо, но эта традиция быстро унифицировалась: Владов прадедовский клинок, четырехгранный и к тому же слегка извитой, будто вертел, с острейшим жалом на одном конце и надежной глубокой чашкой на другом, до того прославился, что все подряд стали копировать как его, так и манеру его ношения Владом – заткнув высоко за пояс и прикрыв плащом, как у героя сериала «Горец Мак-Лауд». К тому времени и сам Влад сделался живой копией своей шпаги, виртуозно наносящей и парирующей удары – в довершение сходства и язык у него непрестанно уязвлял противника отборной ритмизованной прозой, не уступающей стиху незабвенного Сирано.
Естественно, в современных развлечениях он также блистал: ввязывался как в поединки, так и в любовь по интернетской почте, быв в Интернете как у себя дома, в своей собственной постели. И, естественно, пускал всем без различия пола и возраста ежа за пазуху. Взламывал какие ему вздумается файлы, пробивал любую защиту, обходил любые заслонки и заглушки и изымал в свою пользу самую деликатную и охраняемую информацию, щедро и почти безвозмездно делясь ей с единомышленниками. Те, понятное дело, не оставались в долгу – ни мужчины, ни, тем более, женщины.
Откуда вообще прознали про его компьютерные шалости? Он привык оставлять рядом с усвоенной и переваренной информацией своего рода погадку, точно хищная птица: вольный комментарий, интерпретирующий только что узнанное в самом едком и ядовитом ключе. И хотя все подобные вольности были анонимны, уж слишком яркой личностью он был и становился!
Нахальство его тем временем оказалось на грани того, чтобы перейти в бесстрашие: как-то однажды он изловчился не более и не менее, как запустить огромадный чих в ноздрю Самому Важному Бюрократу в государстве. И тем создал проблему.
Прикончить его физически – скажем, подстрелить или ткнуть нож под лопатку – было страшно: в дуэлях, драках и иных легальных способах свернуть человеку шею он был практически непобедим, карма на нем лежала такая счастливая, что за всю жизнь он ни разу не споткнулся на ровном месте и ни единожды не был обокран, а потому самый хорошо спланированный несчастный случай вызвал бы жуткий резонанс. По пословице: у пистолета, который убивает из-за угла, всегда громкая отдача.
Подорвать ядерным чемоданчиком? Не без оснований полагалось, что этот скользкий тип так извернется, что подставит вместо себя самого взрывника и даже, не дай Бог, заказчика и владельца.
Действовать через оскорбленную женщину? Вот это и было самым парадоксальным; в феминистических кругах у него были крепкие связи, которые чаще всего длились дольше, чем обида. Развязность его литературного облика и бесстыдство профессионального языка, как ни странно, с лихвой покрывались неподдельной изысканностью и даже ледяным благородством манер истинного бретера, дивной крепостью душевного и телесного состава. Удивительная нелогичность этого имела корни в бессознательном, подсознательном и древних архетипах, усвоенных Владом от его предков вместе с дуэльным мечом. Мужчины его рода с раннего детства воспитывались на культовой литературе о трех мушкетерах со четвертыим: лично Влад вынес оттуда твердое представление о том, что наслаждению женским телом приличны ночь и темнота – и недоумевал, бывало, откуда у описателей этого сакрального действа берутся краски, взятые напрокат у дня. Сам он в темных своих любовных делишках был до сих пор почти целомудрен, считая, что главная мужская работа должна приходиться на долю не зрения и даже слуха, а осязания, обоняния и тактильных ощущений, и что современность с ее подробностями, высвеченными как лампой, и вылупленными зенками не столько бесстыдна, сколько неправдоподобна. Ведь истинное наслаждение – это поистине широко закрытые глаза! Стремясь утвердить любовную идиллию прошедших галантных веков, наш Влад даже не ведал, что, напротив, предвосхищает будущее Эроса: тайский и китайский массаж, возведенный в высший ранг, на котором физическое искусство, до невероятия утончающее и истончающее телесность, как бы само собой становится духовным. По сравнению с тем живым пластическим ваянием, предтечей которого он выступал, храм Каджхурахо мог показаться не более чем грубой, раз и навсегда вылепленной глиняной игрушкой.
И вот Влад ставил в темноте опыт за опытом, перебирая, соблазняя, покидая партнерш и не подозревая даже, что оставляет на их ноготках клочья своей кожи.
Отсюда мы видим, что у Господа хватает простоты и для самых отъявленных хитроумцев.
Второе проявление этого же простодушия – совершенно глобальный прокол в биографии Влада, сколь неожиданный, столько и закономерный, что неизбежно произошел бы и так, но наступил в тот злосчастный день, когда наш писака, решив как следует оторваться, заказал в одной второсортной пивнушке, где, кстати, о нем по идее никто не должен был знать, – девять ярдов специального двойного пива.
А пиво то было сварено по классическому староарийскому рецепту, из ячменя и ржи, в которых, наподобие цветочка-василечка, поселились исчерна-пурпурные, хрупкие рожки. На прародине звали сей напиток сомой и считали даром богов; в хилой же и доходяжной Европе обычный хлеб из такого зернеца как-то вызвал эпидемию антонова огня, в России сорвал царю Петру вернейшую победу над турком, а в Новом Свете зажег костер под сэйлемскими ведьмами. В защиту зелья скажем, что акушерки употребляли его для усиления родовых схваток, а благодетели человечества в веке этак двадцатом выделили из него, наконец, самый знаменитый из знаменитых психоделиков.
Вот этакой сомы Влад и набрался без меры, однако не поплыл прямо по дороге вечности, что сделать, пожалуй, был не прочь, а попросту впал в неконтролируемое разумом состояние, когда человек равен самому себе и мысли его равны самому человеку. Подобное случалось с ним крайне редко, а после долгого и муторного появления на свет (шел он пятками вперед и всё норовил побольнее брыкнуть ими приставучую акушерку) – и вообще никогда. А тут он не удержался и рассказал каким-то случившимся рядом неприметным труженикам защитно-брезентового поля, на котором растут алюминиевые огурцы, свой коронный анекдот. Будто бы встречается овчарка с шарпеем – а те, известно, первые среди собак пофигисты. Овчарка все похваляется, как она то и как она се: и чемоданы-то с наркотиком вынюхивала, и забугорного шпиона поймала, и даже – раздвигая на фасаде пышный мех – «вот смотри на грудь: видишь на ней дырочку? Это я хозяина от злого чечена грудью защитила и его пулю на себя приняла. А ты, байбак, чем прославился? Тем, что тебя как-то хозяйские детки шесть часов без передышки в объятьях тискали?» Ну, шарпей думал-думал – они на это дело и в самом деле тугие, – перебирал, как до того овчарка, свою жутко складчатую кожу, только со спины на лоб, и вдруг выдает ей: «Вот, видишь дырочку?» «Вижу. А чего это?» – спрашивает любопытная овчарка. «Жопа».
Ясное дело, вояки те оказались не простые, а из самого особого спецподразделения, и этот анекдотец приняли очень близко если не к сердцу, то к месту, кстати в анекдоте упомянутому. И, как назло, автора его они запомнили, более того, разыскивали по поводу еще одного, на сей раз компьютерного стёба. Ибо не кто иной, как Влад, запустил самовольно гулять по Интернету одну хорошенькую черепашку со своими потайными инициалами, что при малейшем проявлении квасного и сивушного патриотизма забиралась на большую каску, которая выныривала откуда-то из-под земли, и весьма активно ее трахала.
Словом, не было у нашего интернетного журналиста никакого желания учинять дуэль на табуретках и мордобой без секундантов, а пришлось. Шпагу его сломали почти сразу, бока намяли, почки отбили, яйца разбили, задницу начистили, физиономию расквасили и хотя сами тоже рухнули, как мавзокалли древних майя, перед тем еще сумели выпихнуть его из пивной, чтобы не сдыхать ему под той крышей, что и порядочные люди; а то еще потом с полицией разбирайся.
Как и куда Влад после этого двинулся, он не помнил и не чувствовал. Очнулся он уже на чем-то плоском, протяженном и скользковато-твердом, что доказывало добротность материала. В голове стояла муть, как с очень большого бодуна, в желудке шла катавасия; сплюнув, обнаружил он с горечью, что золотая коронка на правом резце, память о прабабушке, которая, по легенде, была возлюбленной тринадцатого графа Трансильванского, сломалась вместе со здоровым зубом, который венчала ради понта, и теперь блестит на плите в пенной лужице кровавой слюны. Одна ладонь его мертвой хваткой сжимала маковый козинак, пальцы другой руки проткнули нечто мягкое снаружи и липкое внутри – именно, разовую упаковку из-под якобы натурального меда, какими угощают в мелких кафешках.
– «В рот золото, а в руки – мак и мед», – процитировал он кого-то любимого. – Что бы это все значило? И обряжен я, как мертвяк, и лежу на самой фасонистой могильной плите в мире. Ох, чую, помер у нас кто-то, и кабы не я сам!
Однако, слегка проинвентаризовав себя, отметил, что хотя отметелили его по первому разряду, никаких ощутимых повреждений, как-то: шишек, ссадин, фингалов, синяков, пущенной юшки, вывихов и открытых переломов, – не обнаруживается; что самое странное, и коронка выпала, скорее всего, потому, что ее подпер некстати и не на месте прорезавшийся зуб мудрости. Нигде не болело, даже наоборот: хмарь и тошнота легко и без возврата удалились, даже руки с первого раза обтерлись о крапиву.