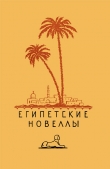Текст книги "Идрис-Мореход"
Автор книги: Таир Али
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
На самой границе между летом и осенью. Зной все еще висит над улицами старого города, и в слепых глазах старух у мечети Биби – Эйбат по–прежнему отражается жаркое небо, пронизанное солнцем. Но в быстрых вечерних сумерках уже незримо присутствует образ ветреной осени.
В Баку возвращаются беженцы. Все дороги, ведущие в город, запружены ими. С севера и юга, востока и запада по Шемахинскому и Сальянскому трактам вереницей тянутся подводы. Окутанные белым паром, к вокзалу мчатся переполненные поезда, а пассажиры на палубах кораблей с волнением вглядываются в подернутые дымкой очертания города. Где–то среди тех, кто возвращается сюда морем из Персии и сходит на деревянную пристань «Товарищества Меркурий» – старший брат Идриса Халила – Мамед Исрафил с семьей и двумя женами их покойного отца.
Лейла–ханум и Зибейда–ханум.
Я вижу их сидящими рядышком на заднем сидении фаэтона с поднятым верхом. Обе закутаны в черные шелковые покрывала. Жены кондитера. Вдовы. Одна – как сдобная булка: белая, пышная, рыхлая, с родинкой над верхней губой, похожей на изюминку. Другая – мать Идриса Халила, Зибейда–ханум, полная ей противоположность, – своими сухонькими ручками и золотистой кожей, скорее, напоминает ванильный сухарик.
Фаэтон трогается, из–под высоких колес с красными спицами летит пыль. Вся дорога вдоль набережной все еще изрыта воронками от снарядов.
Они возвращаются домой. Все, кроме Хусейна Рзы – среднего брата Идриса Халила. Удачно женившись на дочери местного купца, он поселился в Тебризе и собирался приехать позже. Но дела все не отпускали его. Вначале он писал регулярно, раз в неделю, писал, что торговля процветает, что лавки его полны товаров, что супруга его, волей Аллаха, уже на сносях, потом все реже и реже, а когда границы закрылись, и вовсе перестал писать…
Каким он был? Хусейн Рза появился на сцене лишь однажды – в тот самый день, когда провожали Идриса–морехода в его первое путешествие, он стоял рядом с Мамедом Исрафилом на перроне вокзала и махал рукой вслед отъезжавшему поезду. Поезд уехал, и Хусейн Рза исчез, навсегда выпав из дедушкиной жизни и этой истории. Возможно, там, на юге, отделенный от нас пограничной рекой, в мутных водах которой водятся гигантские сомы, а на песчаных отмелях стоят пограничные вышки, он прожил счастливую и долгую жизнь лавочника, а, возможно, как и многие другие, сгинул в кровавом водовороте революции 1946 года.
…Медленный фаэтон сворачивает с набережной. Дорога его лежит в старый город, где среди нагромождения домов с плоскими крышами стоит один единственный с семью окнами на восток.
Улицы встречает их сонной тишиной полудня. Дробный цокот копыт эхом разносится по переулкам. В багажном отделении фаэтона несколько огромных чемоданов и два тюка, перевязанные веревками. Мамед Исрафил поправляет каракулевую папаху на своей гладко выбритой голове. За время пребывания в Персии он успел совершить паломничество в Мешхед, где молился на могиле одинокого Имама Рзы, и теперь с полным правом именуется – Мешади Мамед Исрафил.
Всю свою долгую жизнь Мешади Мамед Исрафил был предприимчивым, а самое главное, удачливым человеком. Почти таким же, как его отец. Уже через пять недель после возвращения его усилиями пекарня и кондитерские были восстановлены и даже расширены. В них снова пекли хлеб, печенье и чудесную бадам–бурму с миндалем и грецкими орехами. Семья вновь стала процветать. Однако, думается мне, что, помимо необычайной природной везучести Мамеда Исрафила, немалую роль в этом сыграли чудодейственная сила его паломничества к могиле святого и золотые червонцы из тайника Хайдара–эфенди, привезенные моим дедом из Константинополя.
Дождливый октябрь смыл с узких ступеней, крыш и стен старого города горькую гарь пожарищ, и она утекла прочь вместе с пенными потоками, бегущими вниз по переулкам, оставив после себя лишь черный налет на брусчатке.
В доме с окнами на восток опять стало светло и шумно. В стенных печах развели огонь. Трое дочерей и старший сын Мамеда Исрафила с криками носятся по комнатам, путаясь у всех под ногами. По вечерам маленькая и смуглая Зибейда–ханум пьет чай с засахаренными фруктами, из которых она более всего предпочитает персики, начиненные молотым орехом, а белокожая Лейла–ханум сидит на огромном сундуке в углу гостиной и перебирает янтарные четки. Одна их них все время молчит, другая говорит почти безостановочно.
И опять в пекарнях у больших печей и днем и ночью раскатывают тесто и бросают продолговатые лепешки на деревянный прилавок, посыпанный мукой. Из огня вынимаются длинные черные противни со сладостями, разносчики наполняют корзины со свежим хлебом, суетятся приказчики…
27 октября братья отправились в театр Маилова смотреть непобедимого Сани Сулеймана. Было по–осеннему зябко. На извозчике они доехали до синагоги, потому что маленькая площадь перед театром уже была запружена фаэтонами.
Пробираясь через толпу, они заметили знакомого, стоящего у тумбы, обклеенной афишами, на которых набычившийся Сани Сулейман, прозванный Блондином (Сары) за бобрик волос цвета спелой пшеницы, был изображен в схватке с огромным бенгальским тигром. Остановились поговорить. Было светло как днем от сияющего в витринах магазинов электричества. Разглядывая свое отражение в одной из них, Идрис Халил вдруг почувствовал приступ необычной слабости. Закружилась голова, а откуда–то из глубины памяти стал возвращаться тот памятный день, когда под марш военного оркестра один из двух Идрисов Халилов исчез безвозвратно. Тогда это произошло как бы само собой, почти не замеченным. Но теперь все было по–другому. То мгновенье, короткое, быстрое и неуловимое, когда взгляды сновидца и сновидения встретились, вернулось неким электрическим разрядом, пробежавшим по всему телу. В глазах у него стало темнеть, он глубоко вдохнул в легкие сырой, холодный воздух, и многолюдная улица поплыла мимо него, сквозь него, рядом с ним, и постепенно лица прохожих и зевак, витрины, залитый огнями фасад театра, встревоженные глаза Мамеда Исрафила, фаэтоны, – все вокруг слилось в одно сплошное пятно, и он потерял сознание.
Горячка. Сопровождаемая сильным жаром и головной болью, она свалила его на целых две недели.
Новые часы с боем. Бронзовый маятник плавно рассекает воздух, направо – часы, налево – минуты. Подвижное время истории по капле утекает вместе с газетными заголовками. И снова оно проходит мимо Идриса Халила. Мимо темной угловой комнаты с зарешеченным окном, где дедушка, укутавшись в пестрое одеяло, неподвижно смотрит в потолок. Но то, что на первый взгляд кажется болезнью, на самом деле – выздоровление. Его душе требуется покой, чтобы солдат и поэт, каждый со своим собственным опытом и чувствами, могли, наконец, слиться в ней в одно целое.
Поэт – направо, солдат – налево. Тик–так. Тик–так. Зибейда–ханум кладет ему на лоб полотенце, смоченное в виноградном уксусе, и в мягком сумраке комнаты невольно появляется призрак греческой девы. Она проводит бесплотной ладонью по его щекам, заросшим черной щетиной, и, наклонившись, что–то шепчет ему на ухо. Слов не разобрать. Шепот призраков – скорее, ломкий шелест опавшей листвы, чем связная речь…
В плоские крыши старого города стучит дождь. Зибейда–ханум, ставя на стол керосиновую лампу, локтем задевает стопку листов. Рукопись поэмы рассыпается по полу. В ее застывших строчках дом с окнами на восток продолжает одиноко плыть сквозь ночи гражданской войны, и брадобрей, не знающий цену одиночеству, рассказывает о невидимых чернилах, и в капле меда стынет тягучее оранжевое солнце, от которого темнеет в глазах.
В дедушкиной поэме нет ни слова об уродливом шраме выше запястья, полученном от удара штыком.
Мамед Исрафил приносит гранаты, завернутые в газету.
Темно–красные, почти коричневые гранаты выкладывают на подоконник. В ряд. В их глянцевой кожуре теряются блики осеннего неба.
– Какой сегодня день?
На обрывке газеты: «6 ноября 1918». Заголовок, набранный крупно, сообщает об учреждении Военного Министерства Республики.
Дом. Завершение первого путешествие Идриса–морехода. Предчувствие нового.
В железной печи гудит огонь. Прижавшись спиной к ковру на стене, Идрис Халил не спит. Он еще не вполне оправился от горячки, но в эти дни полузабытое томление, заставившее его однажды сесть в поезд, идущий до Батума, вновь прорастает в нем, словно диковинный цветок, с новой, необычайной силой. И теперь каждый раз, закрывая глаза, он вновь грезит жемчужной глубиной чужих небес и маленькими городами вдоль дороги, и огромными волнами, летящими на прибрежные скалы…
Ветер обрывает листья с платанов в губернаторском саду. В серых сумерках город покидают турецкие солдаты.
Как только Идрис Халил смог выходить из дома, он отправился в цирюльню. Но, странно, теперь бесконечные истории брадобрея почему–то только раздражали его, а уютный запах теплой мыльной пены казался резким и неприятным. Да и в отцовских пекарнях, где опять пекли хлеб – тот самый хлеб, который так часто снился ему в Константинополе – он лишь скучал, равнодушно наблюдая за суетой у огромных печей.
Как и пять лет назад, по ночам его звали в дорогу длинные гудки пароходов. Вернувшись под спасительную крышу дома, мореход, как это водится, быстро позабыл обо всех злоключениях своего первого путешествия…
В пестрых заголовках газет стремительно меняются даты и события.
12 декабря, ровно через четыре дня после открытия первой сессии парламента, Идриса Халила, так же, как и других солдат и офицеров, отличившихся под Геокчаем, вызвали в Министерство Обороны, и сам генерал Самедбек Мехмандаров вручил им памятные медали. Первые медали Республики. Кроме того, лейтенант Идрис Мирза Халилов был произведен в капитаны.
Новое назначение.
Вначале из темноты возникает стол, накрытый полотняной скатертью. Яркий свет лампы в ажурном плафоне.
Зибейда–ханум перекладывает жирную баранину с горохом из глиняного горшочка в фарфоровую миску и, полив бульоном, проворными пальцами крошит сверху хлеб.
– Как же теперь будет, сынок! Только поправился, только выздоровел!.. Как же теперь будет?..
Тихо всхлипывая, она размешивает хлеб ложкой, посыпает густую жидкость сухой мятой и базиликом и пододвигает миску Идрису Халилу. На фарфоре – мелкие оранжевые цветы, которые густо покрывают всю внешнюю часть миски до самых краев, окантованных золотистой полоской.
– Кто там будет за тобой смотреть?
Идрис Халил с удовольствием ест. Рядом с ним солонка и маленькая пиала, где в свежем гранатовом соке плавают кольца лука. Напротив, придерживая пальцами пенсне в тонкой металлической оправе, сидит Мамед Исрафил и просматривает газету. Макушка его гладко выбритой головы покрыта белым тесаттуром, привезенным из Персии. Зибейда–ханум утирает платочком глаза.
– Как же теперь все будет, сынок? Может быть, откажешься?
– На все воля Аллаха! Да оставь ты, наконец, его в покое! Сколько можно говорить об этом! – ворчит Мамед Исрафил. – Он на службе, он не может отказаться…
– На все воля Аллаха! – Это Лейла–ханум. Она проступает из зыбкой темноты в моем видении самой последней и оказывается сидящей по правую руку от Мамеда Исрафила. Но лица ее мне уже не разглядеть, только пальцы, лениво перебирающие продолговатые, похожие на ягоды кизила, костяшки янтарных четок. Молочно–белые полные пальцы, украшенные перстнями…
Вычленив из темноты призраки давно умерших людей и собрав их вместе за одним обеденным столом, я не могу удерживать их больше, чем на мгновенье. И вот уже свет лампы постепенно тускнеет, и они вновь уплывают в свое небытие…
5Второе путешествие Идриса–морехода началось с того, что ранним утром 17 декабря 1918 года он вышел из дома и сел в фаэтон, ожидавший его у дверей. Фаэтон тронулся, Зибейда–ханум с порога выплеснула ему вслед ковшик чистой воды – на добрый путь. Вдохнув полной грудью терпкий морозный воздух, он обернулся, увидел теплый дым, вьющийся над крышей дома, свет за занавеской в одном из окон, глядящих на восток, и на мгновенье сердце его встрепенулось от щемящей тоски и тревоги. Но только лишь на мгновенье, потому что упираясь в тонкую линию горизонта, бесконечная дорога давно уже ждала его, манила, и весь охваченный радостным возбуждением, он вспомнил сказанное в Книге:
«Ты видишь корабли, рассекающие море…».
Над ними кружат голодные чайки, над ними и над пристанью. Их голоса, отрывистые и резкие, едва различимы в монотонном грохоте машин, сотрясающем палубу баржи. Скоро отчалят. Порывы ледяного ветра гонят клубы дыма из закопченной трубы в сторону набережной, где впритык друг к другу теснятся заполненные под самую крышу мешками с хлопком деревянные склады. Скучающий жандарм, подняв от холода воротник шинели, дымит самокруткой, наблюдая, как амбалы в грязных чухах разгружают подводу с какими–то ящиками. На крыльце конторы «Товарищество Меркурий», покрытом струпьями облупившейся белой краски, горит забытый с ночи фонарь, отбрасывающий жидкий свет на огромные буквы совершенно проржавевшей с правого края вывески.
Идрис Халил сидит на скамейке у правого борта, глубоко надвинув на лоб офицерскую папаху. В просветах между тюками всевозможных видов и размеров, собранных на палубе, он видит верхушку Девичьей Башни, плывущую высоко в небе над цокольными крышами складов, и неподвижные рыхлые тучи, готовые пролиться дождем, и чаек над пристанью.
На часах – половина девятого. Ожившие стрелки вновь показывают время.
Стараясь не обращать внимания на любопытные и, отчасти, боязливые взгляды пассажиров, исподволь разглядывающих его добротную шинель с капитанскими нашивками на рукаве, начищенные до тусклого блеска новые сапоги и кобуру на поясе, он достает из кармана папиросы и закуривает. Помимо вместительного чемодана, у него с собой еще плетеная корзина со снедью, заботливо собранной в дорогу Зибейдой–ханум.
Оглушительный гудок возвестил об отплытии. Только что подняли швартовые. Вода за кормой вспенилась, разрезаемая стальными лопастями винта, и, тяжело покачиваясь, баржа, на флагштоке которой трепещет новый трехцветный флаг, стала медленно отходить от пристани. Свинцово–зеленые волны за бортом покрылись тонкой каймой пены.
Чем дальше от них набережная, тем отчетливее из холодной дымки раннего декабрьского утра проступает город, заслоненный до этого крышами складов.
…Корабли рассекают море, корабли плывут к горизонту. Голодные чайки остаются за спиной, дом остается за спиной, и скулы сводит от холода и тревожного ожидания…
Путешествие на одинокий остров Пираллахы.
Уткнувшись носом в отворот шинели, остро пахнущий влажным драпом, Идрис Халил закрывает глаза, и там, в мерцающей темноте за пеленою век он тщетно пытается вообразить себе весь путь по пустынному морю до маленького острова.
Если следовать за ним по карте, то можно увидеть крошечный кораблик, ведомый пунктиром на северо–восток. В скобках указано расстояние от Баку до Пираллахы: 46 русских верст. Это значит – 27 английских морских миль или 7 персидских агачей. Иначе говоря, всего 50 привычных нам километров!
На выходе из бухты прямо перед ними где–то на зыбкой грани между небом и морем возникает другой остров, Наргин, с его старым маяком, пульсирующим на фоне сплошной стены серых туч.
Качка заметно усилилась. Баржа идет медленно, тяжело переваливаясь с боку на бок под боковыми ударами стремительных волн. Баку больше не виден. Затянутый туманом, он как–то незаметно исчез из поля зрения. Идрис Халил обернулся, но за спиной теперь была лишь ничем не ограниченная пустота да пунктирный шлейф пены…
Они огибают Наргин.
Мимо проходит матрос в измазанном мазутом бушлате. На правой щеке – глубокий застарелый рубец.
– Когда прибудем? – Приходится почти кричать.
Матрос:
– Если ветер не усилится, часов через пять… Видимость плохая…
– А если усилится?..
Матрос пожимает плечами и улыбается.
Идрис Халил долгим взглядом смотрит на море, покрытое белыми бугорками, и приступ тошноты и мучительного страха заставляет его снова закрыть глаза, отгородившись от происходящего спасительной темнотой. И постепенно, несмотря на холод, он засыпает, и в первом сне второго дедушкиного путешествия, как и раньше до этого, будто наваждение, появляются горячие утренние хлебцы, посыпанные маковыми зернами в больших плетеных корзинах, и черные длинные противни, на которых лежит нарезанная ромбиками пахлава, отливающая тусклым глянцем…
Первый сон с того дня, как он навсегда покинул Константинополь. Он означает начало чего–то нового в жизни Идриса Халила.
Сколько он спал – неизвестно. Идрис–мореход проснулся, разбуженный внезапно наступившей тишиной.
Молчат машины. Полный штиль. Они стоят, окруженные густым туманом. Туман настолько плотный, что за бортом не видно моря, и оно обозначено лишь мерным плеском воды. Сигнальные огни, зажженные на носу и на корме, превратились в тусклые желтые пятна, размытые по краям. Что–то одиноко и гулко скрежещет в пустых трюмах. Невидимые пассажиры тревожно молчат, притаившись между укутанными туманом тюками и баулами. Они молятся. Молятся тому, в чьей только воле в одно мгновенье рассеять проклятое марево или навсегда оставить их висеть между небом и землей, между прошлым и будущим, в белом облаке, до тех пор, пока не явятся ангелы с серебряными трубами, чтобы возвестить о конце времен…
Идрис–мореход достает часы и с удивлением обнаруживает, что стрелки их безжизненно стоят. Он подкручивает заводной механизм, трясет их, но все зря. Тонкие золотистые стрелки вновь показывают абстрактное время вечности…
А туман, изрыгаемый какой–то неведомой машиной, все продолжает прибывать. Клубясь, он ползет на баржу со всех сторон, забивается в пустоты, оседает на ржавых поручнях каплями воды. Идрис Халил чувствует, как его шинель постепенно набухает от влаги, тяжелеет. Достав папиросу, он долго не может зажечь отсыревшие спички.
…Как завершающий аккорд молитвы, обращенный к повелителю ветров и времени, раздается долгий призывный гудок из пароходной трубы. Но откликом ему – все тот же плеск воды и скрежет в пустых трюмах баржи. Потому что сказано: «по звезде они находят дорогу». По звезде, а не по звуку. И если нет ни звезды, ни знака, что укажет им путь?
(Идрис–мореход усмехается, презрительно опустив уголки губ под кончиками республиканских усиков. Он знает точно: Судьба и Случай оберегают его, и путь до острова, прочерченный невидимыми чернилами на его лбу, так или иначе, будет пройден до конца.)
Недокуренная папироса летит за борт: оранжевый уголек, будто падающая звезда, прочерчивает дугу в молочной пустоте и с шипением гаснет, коснувшись воды. Скатившись с кончика пера, строчка провисает в воздухе, так и оставшись недописанной:
На кораблях, рассекающих море, читая молитвы
Против холода и тревоги…
Строчка без всяких многоточий на полях рукописи. Всего несколько слов, записанных быстрым почерком, но за выцветшими чернилами таится тот самый первый день второго путешествия.
Три часа безвременья.
Они все стояли и стояли, подавая жалобные гудки, длинные паузы между которыми были заполнены оглушительной тишиной и холодом. И когда отчаяние стало уже невыносимым, их вдруг услышали. И тотчас легкий трепет, словно чье–то дыхание, пробежал по клубам тумана, по многолюдной палубе, и отчетливо запахло снегом, и вскоре с запада налетел ветер, и стал дуть им в спину, расчищая дорогу впереди. Белая пелена треснула, в просветах на горизонте показалось небо, черное и низкое. Спешно запустили машины.
– …волнуются…скоро доберемся…на все воля Аллаха!.. – доносится до дедушки обрывок разговора двух человек, сидящих возле огромного тюка.
– На все воля Аллаха! – шепотом повторил Идрис Халил, поплотнее запахиваясь в отсыревшую шинель.
Баржа, подгоняемая ветром, продолжает свой путь.
Они прибыли на Пираллахы уже в сумерках.
Тусклые огни поселка гроздьями спускались из темной глубины острова к самой пристани. Люди на палубе, уставшие от качки и холода, начали собираться, оживленно перекидывались словами, радуясь удачному завершению их путешествия. Сняв папаху, Идрис Халил стоял у борта и вглядывался в грязно–серые сумерки, сходящие с темнеющих небес, запруженных клочьями туч, и ветер обдувал его коротко стриженые волосы.
Пираллахы означает – Святыня Аллаха. Но в декабрьских сумерках 1918 года с палубы старой баржи остров, тогда еще не соединенный с сушей десятикилометровой насыпью, больше напоминал огромную могилу, увитую гирляндами ночных светлячков.
Они причалили уже почти в полной темноте.
На мокрой пристани, освещенной двумя фонарями, было много народу. Под деревянными сваями глухо клокотало море. Впереди, у деревянного барака в одно окно, стояли солдаты, вооруженные винтовками, дальше несколько важных господ в длинных шинелях. В ожидании, когда перекинут мостик, пассажиры стали протискиваться к выходу. На пристани появились таможенники с большими канцелярскими книгами в руках.
Как и следовало ожидать, Идриса–морехода пропустили вперед. Еще бы, это его встречали господа в длинных шинелях.
– С благополучным прибытием на Пираллахы, Идрис–бей! Мы уже, признаться, начали беспокоиться!
– По дороге был сильный туман. Часа три стояли, не меньше…
– Знаю, знаю! Но слава Аллаху, что все обошлось! Погода меняется так часто.
Идрис Халил соглашается.
– Позвольте представиться – начальник здешнего полицейского участка, майор Мамед Рза Калантаров. А эти господа – комендант острова, полковник, уважаемый Мир Махмуд Юсифзаде, и вот, пожалуйста, наш главный санитарный врач Мурсал Велибеков.
– Я из сеидов! – Многозначительно кивает полковник–комендант, и улыбка освещает его маленькое сморщенное личико, напоминающее печеное яблоко.
– Наш Мир Махмуд–бей – настоящий герой! Вместе с Самедбеком Мехмандаровым отличился еще в русско–японской кампании…
– Между прочим, имею серебряного «Георгия»! – Старичок распахивает шинель и демонстрирует Идрису Халилу орден, приколотый к нагрудному карману френча.
Они садятся в ожидающий их фаэтон. Трогаются. Медленно едут по темному бездорожью.
Калантаров и доктор подробно расспрашивают Идриса Халила о последних событиях в Баку, о парламентской сессии, о ценах на недвижимость, о военном призыве. А тем временем старик–полковник дремлет, глубоко надвинув на кукольный лоб огромную папаху.
Въезжают в поселок. В колеблющемся свете фонаря, прикрепленного к козлам, разбитая дорога вьется по узким улицам вдоль глухих стен, сложенных из известняковых камней. Идрис Халил достает из кармана папиросы и закуривает. Мучительно ноет правое запястье, изуродованное ударом штыка.
– Сыро тут…
– Что поделаешь! Здесь на острове всегда так!.. Зато летом бывает хорошо, прохладно.
Фаэтон подпрыгивает на ухабе. Дедушка пребольно ударяется локтем и роняет дымящуюся папиросу на пол.
– Эй, ты заснул там, что ли?
– Не досмотрел, ага–начальник!.. – Кричит возница с козлов.
Молодой доктор Велибеков наклоняется вперед:
– Я слышал, вы были ранены? Пуля?
– Штык… вот тут.
– А мне так и не довелось повоевать!..
Бесконечный каменный лабиринт вдруг резко обрывается огромными пустырями с редкими соснами, в просветах между которыми таится яркая темнота моря. Свистит ветер – словно полощется мокрый парус. Под колеса фаэтона, подпрыгивая, катятся сухие шишки.
Вскоре они подъезжают к небольшому особняку, стоящему чуть в стороне от дороги. Останавливаются. Тотчас, встрепенувшись, просыпается старичок–полковник и, прогоняя остатки сна, забавно потирает лицо кукольными ладошками.
– Приехали?
– Приехали! – Кивает Мамед Рза. – Пожалуйте в дом! Как говорится, ночной гость – от Аллаха!
Фаэтон въезжает во двор.
Ужинали с вином, и в тот вечер все трое гостей заночевали у Калантаровых.
Снег.
К полуночи ветер утих. Скованное холодом небо побелело и опустилось совсем низко. Через полчаса, выходя во двор по нужде, разгоряченный вином Идрис Халил увидел первые, густые и плотные хлопья летящего снега…
Как утром следующего дня утверждал денщик Мамеда Рзы Худаяр, сам родом из здешних мест, такого снегопада на Пираллахы не было, по крайней мере, лет восемнадцать–двадцать, со времен памятного землетрясения в Шемахе. Дома, стоящие в низине, ближе к пристани, завалило по самые окна, обрушились кровли сараев и больших складов у базара. Под тяжестью снега в нескольких местах оборвались телеграфные и электрические линии, промыслы, полицейское управление, больница и почтамт надолго остались без света. И хотя после обеда немного распогодилось, стало только хуже: ближе к вечеру ударил мороз, отчего все дороги на острове мгновенно обледенели – так что и вовсе не стало никакой возможности передвигаться по ним. По этой причине доктор, полковник и Идрис Халил были вынуждены задержаться у Калантаровых на целых три дня. Впрочем, судя по всему, гостеприимный майор Калантаров, много лет прослуживший на Северном Кавказе, и его супруга – полная белолицая осетинка – Лиза–ханум, были только рады этому обстоятельству. На второй день снежного плена, за обедом, на который подавали жареную на углях баранину и сладкий пилав, четверо дочерей Мамеда Рзы, нарядно одетые на европейский манер, были представлены гостям. Алия, Ругия, Лютфия, Ульвия: невысокие, смуглые, тоненькие, с крупными чувственными губами, унаследованными ими от отца, и материнским разрезом глаз, напоминающих совершенную форму миндаля.
– Мне для них ничего не жалко! Клянусь могилой отца! Они моя единственная отрада! – Говорит майор с гордостью. – Я два года подряд выписывал для них русскую учительницу из Баку!.. Хочу, чтобы были образованными! Чтобы разные языки знали!..
(У златоглазой Ругии над верхней губой черная родинка, как и положено восточным красавицам, хотя, пожалуй, она не самая привлекательная из четырех дочерей).
…Над крышей дома густо вьется дым. В углу двора, под навесом, чернеет распряженный фаэтон. Идрис–мореход стоит на каменных ступеньках крыльца и, задрав лицо к небу, ловит губами падающие снежинки. Доктор рассказывает ему о жизни в поселке, но он, очарованный хрупкой тишиной морозного утра, почти не слушает его. Снег падает и падает, медленно тает на губах, оставляя после себя пресный вкус талой воды.
Из–за каменной ограды видна свинцово–серая полоска моря. Море неподвижно и пустынно.
– …и вообще, это очень хорошо, что снег! Может, наконец, вода в колодцах очистится и заразы станет меньше.
– Какие колодцы? – рассеянно спрашивает Идрис Халил.
– Я же говорю, здесь вся вода отравлена! Особенно на той стороне острова. Вон там, выше промыслов… – Доктор неопределенно показывает куда–то на север. – Холодно, однако. Может быть, вернемся в дом? Сыграем партию в нарды?
Снег хрустит под ногами, словно гравий на дорожках чудесного сада.
От Калантаровых дедушка съехал лишь в четверг утром, 21 декабря, когда ледяная корка на дорогах размякла и превратилась в сплошную хлюпающую слякоть, перемешанную с конским навозом и песком.
…Для Идриса Халила была приготовлена квартира на втором этаже двухэтажного дома, стоящего в переулке сразу за базарной площадью. Комнаты хотя и были просторными, но довольно темными и, не считая самой необходимой обстановки, почти пустыми: стол, несколько венских стульев, кровать, умывальник, массивный платяной шкаф, пропахший сыростью и тленом, да уродливая железная печь–буржуйка с дымоходом в окно. К приезду Идриса Халила, к которому готовились за неделю, в квартире было жарко натоплено, на окнах повешены новые занавеси, стол застелен скатертью, а постель – свежим бельем.
У подъезда дома Идриса Халила и доктора Велибекова встречал сам хозяин. Вытянувшись по стойке смирно, насколько ему позволял кургузый жандармский мундир с широкой треугольной вставкой на спине, он широко улыбался. Несмотря на холод, его оплывшее лицо было покрыто капельками пота и черно, судя по всему, от чрезмерного полнокровия.
– Добро пожаловать, ага–начальник! Мамед Рафи всегда рад услужить вам!
Пожимая ему руку, Идрис Халил невольно про себя отметил, что в лице домохозяина (и, одновременно, старшего надзирателя Первой Особой Тюрьмы для Военнопленных) есть что–то невероятно жуткое.
– Проходите, проходите в дом! Чего на улице мерзнуть!
Они вошли в двустворчатую дверь с высоким порогом и оказались в темном патио, где находились службы и сарайчик. Отсюда каменные ступени без перил вели на открытую веранду второго этажа, густо увитую змеевидными ветвями облетевшего виноградника.
Поднимаясь наверх, Идрис Халил вдруг почувствовал, как сердце его болезненно сжалось, и чувство бескрайнего одиночества, одиночества морехода в самом начале неведомого пути захлестнуло его без остатка.
…Первая Особая Тюрьма для Военнопленных – вот конечная цель второго путешествия Идриса Халила! Указом заместителя Министра Обороны Самедбека Мехмандарова он назначен ее начальником. Так записано в сопроводительных бумагах, лежащих во внутреннем кармане его офицерской шинели.
Работа может быть и не самая почетная, но, учитывая обстоятельства, необходимая. Республика окружена врагами. Так странный симбиоз поэта и солдата породил тюремщика.
Короткое плаванье сквозь туман и безвременье, и из зимних сумерек рождается одинокий остров Пираллахы. Он будто спящий левиафан. Остров–рыба, остров–могила, остров–тюрьма…