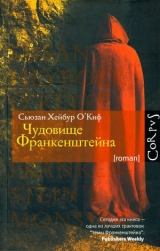
Текст книги "Чудовище Франкенштейна"
Автор книги: Сьюзан О'Киф
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Одежда и сапоги еще сырые, плащ мокрый, но промасленная ткань, в которую я заворачиваю свои скудные пожитки, вновь уберегла мои сокровища от влаги. Свеча, кремень, мой бесценный дневник, перо, чернила и моя нынешняя книга – все в целости и сохранности.
2 мая
Порой судьба преподносит мне подарки. И любую мелочь я считаю сокровищем.
Сегодня утром, пока заря еще не похитила безопасный сумрак, я обнаружил человека, который лежал ничком в переулке, с блаженным лицом, удобно положив щеку на подушку из навоза. В этой же куче – рядом с рукой глупца – валялась книга! Я уже перечитал Кавальканти пять раз. Новая книга пришлась бы весьма кстати. Я поднял ее, вытер о плечо незнакомца и сунул под плащ, еще мокрый после плавания в Адриатике. Книга стукнулась о томик стихов.
Почти дойдя до следующей улицы, я развернулся и зашагал обратно. Глупец с книгой всегда умнее глупца без книги. Я оставил ему взамен Кавальканти, надеясь, что он почерпнет там какую-то мудрость.
Моя новая добыча – «Страдания молодого Вертера». Наряду с «Потерянным раем» и «Жизнеописаниями» Плутарха, это одна из первых книг, которые я прочитал, и она так глубоко меня поразила, что я не решался браться за нее снова. Раньше я читал ее, дабы познакомиться со всем родом людским. Я верил, что все люди похожи на Вертера – такие же серьезные, впечатлительные, нервные, благородные, страдающие от муки и одиночества бытия. Теперь же я перечитаю ее как предостережение от чрезмерной эмоциональности: ведь, как это ни соблазнительно, опасно считать себя признанным, а еще опаснее полагать, что тебя вообще могут когда-либо признать.
3 мая
– Зажги свечу, – велел голос, и свеча зажглась.
– Зажги еще одну, – и зажглась вторая.
Голос приказывал до тех пор, пока в темноте не засиял целый канделябр.
Мне приснилось, что я пишу в дневнике при свечах, вдыхая ароматы множества венецианских пряностей – вовсе не смрад гниющих развалин, изнуренных многовековой расточительностью, где я ныне обретаюсь, а благоухание старой Венеции, жемчужины моря.
Проснувшись, я еще много часов жадно вспоминал каждую деталь, запечатлевшуюся в памяти как наяву. Эти мимолетные образы и самые обыкновенные сочетания печатных букв приносят мне куда больше радости и утешения, нежели сама действительность.
4 мая
– Подайте нищему слепцу! – причитал попрошайка. – Вымостите себе дорогу в рай. Всего за одну монетку вы получите больше индульгенций, чем за целую дюжину новен! [1]1
Новена(от лат. novena – девять) – моление у западных христиан, совершаемое девять дней подряд. Новена символизирует девятидневное ожидание апостолами по вознесении Иисуса Христа ниспослания Святого Духа.
[Закрыть]
Сегодня я познакомился с Лучио, образцовым нищим, который возвращает вдвое больше, чем берет, хотя и не той же монетой.
Заброшенная звонница – всего в десятке улочек от Пьяццетты, что рядом со старинным Дворцом дожей, возвышающимся над заливом Святого Марка. Вчера я бродил по переулкам до самого заката. Наслаждался особым венецианским освещением, яркость которого усиливалась водой. Розоватый фасад постепенно пунцовел. Казалось, дворец висит в воздухе: снизу кружевные колонны, а вверху сплошная угловатая масса. Невероятное строение! Я даже ощутил родство с его камнями.
Сегодня я пришел на Пьяццетту спозаранку и уселся в углу, завороженно прислушиваясь к разговорам. Приблизительно через час в паре футов от меня разместился слепец, протянувший деревянную кружку для подаяния. Я сидел молча, а он не пропускал ни одного прохожего и даже пытался вцепиться в юбку или панталоны, если кто-то пробегал, ничего не дав.
– Подайте бедному слепцу, – упрашивал он. – Сам я слепой, жена моя занемогла, да и дитятко захворало. Подайте! Господь внемлет молитвам бедняков, когда они просят за своих щедрых благодетелей. Подайте Христа ради!
Если монеты переставали падать, он повышал голос и пересыпал свою речь угрозами и проклятиями.
Даже за неделю я не собирал и половины той суммы, что он выпросил за пару часов. Видя, как наполняется его кружка, я поневоле задумался, что можно было бы купить на эти деньги, будь они моими. Я мог бы приобрести книги, которые мне действительно интересны, а не воровать первые попавшиеся. На мгновение я представил его «занемогшую жену» и «хворое дитятко», но затем прогнал эту мысль. Если даже его история правдива, он богаче меня уже потому, что наслаждается их обществом.
Я бесшумно подошел и наклонился к нему.
– Я привык бояться богачей. Неужели впору опасаться и бедняков? – Из-под рваного плаща он достал буханку, разломил ее пополам и протянул мне ломоть. – Пусть Венеция скупа с тобой, мой друг, но я не должен ей уподобляться. Если нищие станут воровать у нищих, никаких барышей не дождешься.
Хотя его глаза вяло блуждали, словно покрытые мутной оболочкой, он безошибочно повернулся в мою сторону и сунул хлеб прямо мне под нос.
Я промолчал, а он усмехнулся.
– Ты сейчас думаешь: «Впрямь ли он слепой? И если нет, успею ли я схватить деньги и убежать?» – Он снова махнул хлебом. – На, возьми, даже если хочешь меня обокрасть.
Пораженный столь открытым, даже отзывчивым обхождением, я застыл на месте, изголодавшись по устной, а не письменной речи.
– Откуда ты узнал, что здесь кто-то есть? – спросил я и, усевшись, взял хлеб. – Ты все-такизрячий?
– Нет, слепой. Но когда в моей чашке звякало пятнадцать монет, поодаль звякала одна. Как давно ты занимаешься благородным искусством попрошайничества?
– Недавно. Я приехал в Венецию всего пару дней назад.
– И, судя по акценту, не из Италии. Ты слишком молчалив, друг мой. А здесь нужно драться за каждый грошик. Заявить о себе во весь голос. Проси громко, молись за людей в толпе, проклинай их, хватай, глумись над ними – делай все, что угодно, лишь бы на тебя обратили внимание. Они знают, что Лучио здесь. Так меня зовут. От Лучио им не отделаться.
Лучио говорил без умолку, словно, лишившись зрения, отрастил два языка. Когда к нам повалила толпа, он, не успев отдышаться, снова начал громко разглагольствовать. Я попробовал улизнуть, но он схватился за мой плащ.
– Останься, без меня пропадешь. Как я потом буду спать с таким грузом на совести? К тому же ты любезный собеседник: говоришь «да» и «понятно» в нужных местах.
Смеясь над своей шуткой, Лучио спросил, как меня зовут. Я назвал первое попавшееся имя: оно так быстро вылетело из головы, что я даже не могу сейчас его вспомнить.
Перед уходом нищий взял с меня слово, что я вернусь завтра на это же место. Он также пообещал, что когда-нибудь на днях пригласит меня в свой сарай и угостит ужином.
– Это обычная лачуга, – сказал Лучио, – да и еда бывает не ахти – тут уж как повезет, но клянусь тебе, что наша беседа будет искриться остроумием! Ты окажешь мне величайшую честь, друг мой, ведь что еще человеку нужно – только бы его внимательно слушали!
Лучио рассказал о своей жене и их шестимесячном младенце: они существуют на самом деле, но оба здоровы. Благодаря их обществу его лачуга показалась бы мне роскошным дворцом. Но вряд ли я когда-нибудь туда сунусь. Жена-то у него не слепая.
6 мая
Мне страшновато предавать свои думы и жизненный опыт бумаге. «Опыт» – странное слово для того, кто по большей части живет лишь в собственных мыслях. Но что-то случилось. Я тоже обзавелся «опытом».
Вчера я вернулся на Пьяццетту, к искренней радости Лучио. Попрошайка задел в моей душе какую-то неведомую струну. Он болтал без умолку, а когда пришла пора обратиться к толпе, он упомянул в своих тирадах и меня, назвав «полоумным горемыкой, не способным попросить за себя».
Такого дня у меня никогда не было, но моя история пока еще даже не началась.
На закате Лучио ушел, а я остался. Город вокруг затих, и слышалось лишь журчание воды в ближайшем бассейне да шуршание крыс, выползающих из укрытия. Хотя ночь была тихая, у меня возникло напряженное предчувствие. Мне стало не по себе, но уходить не хотелось. Сырой воздух обступил со всех сторон, убеждая остаться. Темнота сгустилась и удерживала меня, пресекая мои попытки двинуться с места.
Наконец к берегу подплыла гондола, и оттуда вышли люди. Я сразу же скользнул за колонну собора, чтобы меня не заметили. Послышался слабый, приглушенный стон, и следом – разгневанный шепот.
Двое мужчин тащили через Пьяццетту женщину – с кляпом во рту, связанными руками и повязкой на глазах. Сцена и без того была возмутительная, но еще больше поражал контраст между мучителями и жертвой. Мужчины – в роскошной бархатной одежде и беретах с перьями, пухлые пальцы унизаны кольцами. А женщина – тщедушная и грязная, в обносках, собранных из разных нарядов. С плачем она упала на колени и вновь поднялась после пинка.
Я вышел из-за колонны, прихрамывая и низко согнувшись.
– Кто здесь? – окликнул один из мужчин. Я был великаном, но для него – всего лишь хромым, горбатым нищим с кружкой для подаяния. – Пошел прочь. Это тебя не касается.
– Зачем вам эта женщина?
Он не поверил своим ушам.
– Я не обязан отчитываться, тем более перед уличным сбродом.
От них исходили тошнотворные волны перегара и пота. Я подковылял ближе.
– Что вы собираетесь с ней сделать?
В ответ они засмеялись.
– Отпустите ее, и я вас не трону, – сказал я, но они захохотали еще громче. Одним махом я сбросил плащ, выпрямился, схватил одного за шиворот и приподнял над землей.
– Что вы собираетесь с ней сделать?
– Ничего страшного. – Он открыл рот и выпучил глаза, но не от удушья, а от моего вида. – Безобидная шутка. Мы купили ее и хотим подарить другу.
– Купили? – Это мне было понятно, ведь я и сам нередко подумывал, не купить ли себе часок признания. – Если вы ее купили, почему же она плачет?
Второй, пьяный в стельку, плохо меня разглядел и потому захихикал:
– Она этого не хотела. Ее хахаль продал.
Во время этого разговора женщина, чьи глаза были по-прежнему завязаны, поворачивала лицо то на один голос, то на другой. Она умоляюще замычала.
Крепко удерживая ее одной рукой, пьяница полез в карман, достал кошелек и отбросил его на пару ярдов.
– Забирай и проваливай, – сказал он мне.
Я отшвырнул одного мужчину и вцепился в другого. Тот отпустил пленницу и ринулся на меня, точно бодливый козел. Я схватил его за плечи и резко оттолкнул. Он упал навзничь. Я быстро наступил ему на руку: площадь огласил громкий треск ломающейся ветки. Мужчина взвыл от боли и захныкал, хватая ртом воздух. Затем он с трудом поднялся: рука болталась, лицо блестело от слез.
– Оставь ее, Камилло, – сказал он, скрипя зубами. – Помоги мне.
И заковылял в темноту.
Тот, кого звали Камилло, выскочил из-за моей спины – и уже через мгновение крепко держал женщину.
– Ты знаешь ее? – сурово спросил он.
– Нет.
– Так какая тебе разница, что я с ней сделаю? – Он выхватил нож и приставил ей к горлу. Металл впился в кожу, женщина подавила рыдания и замерла. – Пусть даже я убью ее – одной душой больше, одной меньше – на улицах Венеции их полным-полно. Тебе ли, нищему, этого не знать?
– Ты прав, – тихо ответил я. – Одной душой меньше – какая мне разница? Так убей ее – мне все равно. Это даст мне прекрасный повод убить тебя.
Он медленно попятился к пристани, прикрываясь женщиной, словно щитом. Я двинулся следом в полной уверенности, что он попытается уплыть в гондоле. Я лишь гадал, захочет ли он забрать женщину с собой. Однако он столкнул ее в воду и убежал, прихватив по пути кошелек своего друга.
Как он, видимо, и рассчитывал, я не погнался за ним, а прыгнул за женщиной. Она была так крепко связана, что никогда бы не спаслась сама, если бы даже умела плавать.
Я сгреб в пригоршню ее волосы и вытащил барахтающееся тело из воды. Когда я вынул кляп, снял повязку с глаз и распутал веревки, она свернулась калачиком, судорожно откашливаясь. Женщина обхватила себя руками и лежала, зажмурившись и дрожа. Она не откликнулась на мои тихие просьбы. Наконец я закутал ее в свой плащ, взял на руки и принес сюда – в звонницу.
7 мая
Мирабелла.
«Прекрасный лик».
Так я ее окрестил. В этом нет никакой иронии. Увидев мое лицо, она наверняка поняла, почему я назвал ее «прекрасным ликом».
Мирабелла.
Сейчас она сидит в углу и внимательно следит за мной.
Кто она? Откуда? Что эти люди собирались с ней сделать?
Она невзрачная, но очень подвижная, и у нее живые черные глаза. Она не разговаривает: на шее – неровный красный рубец от недавней раны. Немудрено, что она замерла, едва к горлу приставили нож. Она зачарованно смотрит, как я пишу. Когда я предложил ей перо, она покачала головой.
В ту первую ночь я поразился, что мое лицо не произвело на нее никакого впечатления.
– Я безобразен, – предупредил я, перед тем как отбросить с ее лица капюшон своего плаща. – Ты даже не представляешь насколько. Но разве это не лучше, чем лживое смазливое личико – как у тех мужчин, что хотели тебя увести?
Она кивнула и медленно сдвинула капюшон. Ее черты ничуть не исказились от увиденного. Наверное, ее заставил смириться голый расчет: я спас ее, а значит, была вероятность, что человек я добрый. Вырази она свое отвращение, возможно, пришлось бы вернуться к тому, кто продал ее аристократам.
Или… ее могли бы убить.
Чтобы заполнить паузу, я мысленно дал ей имя и придумал запутанную историю дурного обращения с последующим похищением. Я воображал все новые ужасы, словно и не заступился за нее, хотя прекрасно понимал, что без моей помощи ее ожидало унижение. Я приукрасил свой рассказ таким множеством мрачных подробностей, что теперь дрожу при виде героини своих кошмарных грез.
Что бы ей грозило? И что мне делать с ней теперь?
Я всю ночь говорил с ней, не теряя надежды, что она расскажет или покажет, что случилось. Затем я провел с ней целый день. Я не решаюсь оставить ее одну и пойти к Лучио: боюсь, что она исчезнет. Но я не рискую и брать ее с собой: вдруг кто-нибудь узнает ее и попытается отнять? Наверное, я тоже по-своему ее похитил. Я хочу, чтобы она была моей, и это желание такое же низменное, как у тех аристократов.
8 мая
Мы только что доели последние припасы и допили всю воду.
9 мая
– Я чем-нибудь тебя обидел? – спросил я Мирабеллу сегодня утром. – Хоть в чем-то ущемил?
Она покачала головой.
Охваченный беспокойством, я шагал из угла в угол по звоннице, будто лев в клетке, по-прежнему не зная, что делать или говорить. Я больше привык записывать, а не произносить слова – в мыслях я смелее, нежели в поступках. Мои пальцы дрожат от жестокости и желания, пока не находят выхода в действии. Я желал ее, но минутного удовлетворения мне было мало: я хотел, чтобы она осталась со мной.
– И ты тоже, – я обернулся и ткнул в нее пальцем, – ни в чем не ущемила бы меня, попытавшись уйти.
Мирабелла вновь покачала головой. Она непринужденно прислонилась к каменной стене, но взгляд был настороженный. Если я не успокоюсь, то могу напугать ее, и она сбежит.
– Тогда спрошу тебя напрямик: ты останешься со мной? У нас нечего есть. Я должен сходить на Пьяццетту к Лучио (я рассказывал ей о слепом нищем), там я заработаю на еду и воду или, если пожелаешь, на вино. Я хочу, чтобы ты была здесь, когда я вернусь, но не хочу тебя связывать. Ты останешься?
Она кивнула. И я ушел, пообещав вернуться через пару часов. Но сам прошмыгнул за звонницу и стал подсматривать в окно.
Мирабелла прокралась к двери и выглянула. Вероятно, убедившись, что я ушел, она принялась перебирать мои скудные пожитки, останавливаясь на случайных предметах, подобранных мною на улице: черепках цветного горшка, бисерине, жестяном подсвечнике, мотке веревки. Бисерину она зажала между пальцами и отвела руку в сторону, любуясь, словно на пальце у нее было кольцо. Затем она разобрала тряпки, из которых я соорудил подушку, и стала прикладывать каждый лоскуток к себе, пытаясь соорудить наряд. Пару тряпок она отложила.
Наконец Мирабелла встала и обвела взглядом каменную комнату. Она видела ее не так, как я, и начала наводить порядок: перенесла груду тряпок из одного конца в другой, засунула огарок в подсвечник, положила рядом с ним мою книгу, а самый большой цветной черепок приставила к стене в качестве украшения.
Она решила остаться.
Я поспешил прочь, чтобы поскорее вернуться.
Меня не было несколько дней, и Лучио уже забеспокоился. Он поверил мне на слово, что я не мог выйти из-за лихорадки: не хотелось пока рассказывать ему про Мирабеллу. Потом он очень подробно описал все, что я пропустил вчера. Произошло волнующее событие, почти что бунт. Австрийские солдаты прочесывали город в поисках дезертира, а венецианцы тем временем стояли да посмеивались. Обвинив самых крикливых в укрывательстве, солдаты пригрозили им тюрьмой. Лучио услышал лязг мечей и выстрелы. К сожалению, толпа разбежалась, и заварушка закончилась ничем.
– В такой день можно разбогатеть, – с тоской сказал он. – Если ты хоть чуть-чуть зрячий и умеешь хоть немного шарить по карманам, пошныряй в сутолоке, и выйдешь из нее королем. Жаль, что таким талантом обладает моя жена, а не я.
Прежде слова Лучио меня подбадривали. Но теперь хотелось, чтобы поскорее наступил вечер. Раньше все было одинаковым: день за днем, неделя за неделей. Ждать почти нечего, надеяться не на что. Но сегодня меня терзали нетерпение и страх. На месте ли Мирабелла?
Заработав немного монет, я сослался на недомогание, купил продуктов, набрал воды и вернулся в звонницу.
Мирабелла ждала меня.
10 мая
Лучио переместился во двор палаццо. Теперь мы сидим на Лестнице гигантов, где когда-то короновали дожей. Над нами высятся статуи Марса и Нептуна. Как бы удивился Лучио, узнав, что по росту я больше подхожу им, чем ему!
Подают здесь ничуть не больше, но Лучио настаивает, что тут сплетни позанятнее. Они порождены общим горем. Грустью и сожалением пропитан сам воздух Венеции. По словам Лучио, многие патриции бесследно исчезли после первой наполеоновской оккупации, словно их роды подписали самоубийственный договор – не иметь детей. Об оставшихся аристократах Лучио говорит с доброжелательной фамильярностью. Просто он не видит, как эти господа его презирают. Те, что нарочно швыряют монетки мимо кружки, чтобы он порылся в грязи, смотрят на него с ненавистью. Эти прохожие ведут себя так, будто слепота и бедность заразны.
Во мне закипает гнев, но, глядя на блаженное лицо Лучио, я придерживаю язык. Какой прок от того, чтобы рассказать правду о его «благодетелях»? Разве от его праведного гнева в кружку посыпется больше монет? Лучио лишится хлеба насущного. Ведь аристократы предпочитают лесть и раболепие.
11 мая
– Я ищу дезертира, – сказал австрийский капитан на ломаном итальянском.
Солдаты презирали нас точно так же, как и венецианская знать, и толкали нас, спускаясь по лестнице во двор, где мы просили милостыню. Их капитан неторопливо шел следом, пристально глядя на нас. Он потянулся к капюшону, закрывавшему мое лицо. Я привстал, готовый повалить его и убежать. Но его насторожил мой рост даже в приседе, и он отдернул руку.
– Говорите! Укрывать беглеца – преступление.
– Причем очень тяжкое, – согласился Лучио. – Но награда за выдачу беглеца тоже должна быть немалой?
– Выдать дезертира – долг патриота.
Лучио пожал плечами:
– Это для австрийца, сударь. А для слепого венецианского нищего это просто барыш.
– А у тебя есть что продать?
– На слепца никто не обращает внимания. При мне люди часто проговариваются.
Во время этого разговора меня подмывало убежать. У капитана была целая связка пистолетов. Перед глазами живо встала картина: он срывает с меня капюшон, чтобы проверить, не дезертир ли я, и, едва взглянув на мое мозаичное лицо, стреляет. Если я не умру на месте и сумею улизнуть, кровавый след приведет его в звонницу. И капитан найдет Мирабеллу.
Сама мысль о том, что я могу потерять ее, нестерпима. Лишь пару дней назад она согласилась остаться и теперь все спокойнее с каждым часом. Сегодня утром она взволнованно подвела меня к окну, куда я обычно не подхожу, чтобы меня не заметили. Там она показала мне в рассветных лучах одинокий цветок, выросший из каменной стены: его единственный бутон раскрывался на солнце. Она точно этот цветок, распускающийся в невыносимых условиях, ее настороженность и скрытность понемногу проходят. Если б я только мог подарить ей свет, а не тьму убежища…
Поэтому я не смог удержаться и крикнул:
– Нам нечего сказать вам!
Лучио оглянулся на меня, удивленный моим возгласом.
– Но мы бы сказали, если б могли, сударь, – добавил он.
– У тебя акцент, – подозрительно сказал вояка. – Ты не венецианец. Кто ты?
– Простите моего друга, – опередил меня Лучио. Он потянулся, чтобы погладить мою руку, но промахнулся на пару дюймов. – Он всю неделю провалялся в жару.
Капитан тотчас отпрянул и сплюнул в отвращении.
– Вы, нищие, хуже крыс в этом грязном городе, – сказал он. – Чтоб я больше не видел вас во дворе.
Лучио кивнул и заулыбался. Наконец я сказал, что капитан ушел.
– Какую же глупость ты совершил, – сказал он, и улыбка сошла с его лица. Он нащупал на земле свои пожитки и стал связывать их в узелок.
– Не уходи.
Он даже не догадывался о моих чувствах. Всю жизнь я избегал чужого внимания. А теперь, когда нужно было стать невидимкой, я выдал себя самого, да еще подвел Лучио.
– Завтра тебе придется подыскать собственное место, дружок.
Слова застряли у меня в горле. Я еще нигде так долго не оставался, ни разу не становился столь открытым и уязвимым. Дружба с Лучио была чудом, за одну неделю мне сказали больше слов, чем за прошедшие двадцать лет, причем добрых слов. Но со мной он пропадет.
С того момента прошло много часов. Я сижу в звоннице и пишу в дневник. Мирабелла дремлет рядом, положив голову на мою руку. Я даже мечтать не мог о постоянном женском присутствии, но молчание Мирабеллы лишь усиливает мою тоску по словоохотливому попрошайке. Если б он только знал причину моей опрометчивости…
У Лучио есть жена и ребенок. Он вовсе не бесчувственный человек. Он поймет.
Пойду и все расскажу ему сию же минуту. Он много раз объяснял мне дорогу, приглашая на ужин. Я расскажу про Мирабеллу, а завтра мы найдем новое место и будем вместе просить милостыню.
Позже
Мой отец был прав. Я гнусная тварь, пародия на человека.
Проплутав по переулкам и мостам, я наконец отыскал жилище Лучио – в развалинах одного из множества зданий, разрушенных Бонапартом. Трудно сказать, чем оно было раньше – церковью или дворцом: лишь три ветхие внутренние стены стояли посреди строительного мусора. Вместо потолка через них перекинули дюжину досок, которые накрыли брезентом. Над отверстием, служащим дверью, прикрепили еще один кусок брезента. Теперь он был свернут, и в глубине виднелся Лучио. Рядом с ним сидела худая, бледная женщина со спящим младенцем на руках.
У входа горел неяркий костер, словно зазывая меня в гости к Лучио. Я остановился, задумавшись, что сказать, открыть ли всю правду? Если бы я не замешкался, возможно, ничего бы и не случилось, но я застыл и прислушался, став свидетелем того, чего не имел права видеть.
Я подкрался ближе. Хотя их жилище было унылым, меня оно почему-то очаровало. Я жадно все рассматривал и напрягал слух, чтобы не пропустить ни слова из тихой супружеской беседы.
– Славный денек, – начал Лучио. – Сегодня в воздухе пахло Римом и Флоренцией.
Утром он уже говорил об этом, но теперь фраза прозвучала надрывно, словно он перечислял города, куда никогда не сможет отвезти жену. Он протянул руку в черноту перед собой и сделал паузу.
– Пахло Парижем и Лондоном. Даже Санкт-Петербургом.
Жена схватила его за руку, провела ею по своей щеке и положила обратно ему на колени.
– Кстати, о загранице: мы ходили в доки, когда причаливали суда, – сказала она.
– Надо же, – проворчал он. – В такую даль. Не тяжело было нести ребенка?
– А что мне оставалось? От австрийцев один прок – богатые, любопытные туристы.
Она положила ребенка у тыльной стены, вернулась и села рядом с мужем. Вынув одну за другой булавки, загадочным образом вставленные в пучок на затылке, она распустила волосы и встряхнула ими. Каштановые кудри ниспали каскадом, переливаясь в красных отблесках пламени. Какое преображение! Локоны смягчили ее резкие черты, и она стала самой красивой женщиной на свете.
– Ну и как? – спросил Лучио, повернувшись на ее голос. – Кому-нибудь из пассажиров не подфартило и он потерял кошелек?
Она непринужденно рассмеялась – этот гортанный звук напомнил мне, как мало смеха я слышал в своей жизни.
– Уж им-то повезло больше, чем мне. Едва я стибрила булавку для галстука, как кто-то начал хватать и расспрашивать венецианцев.
Лучио вздохнул:
– Австрияки ищут дезертира.
– Нет, тот мужчина был пассажиром. Священник, поди. Вернее, с виду похож на священника, хотя и без сутаны. Словом, все его сторонились… А тут и малыша пора было кормить.
– Какая заботливая мамочка, – вкрадчиво проговорил Лучио.
Он нащупал жену, притянул ее на солому и стал расстегивать платье. Она тоже развязала его одежки, обращаясь с ними бережно, чтобы не выдернуть ни единой ниточки из ветхого тряпья. Запустив пальцы в волосы у него на груди, она так страстно поцеловала мужа, что у нее перехватило дыхание.
– Я задерну полог, – сказала она, тяжело дыша.
– Никого же нет.
– Кто-нибудь может прийти. – Полуодетая, она поспешила к выходу, и я отступил в сторону. Она долго всматривалась в темноту.
– Скорей, – взмолился Лучио.
Когда она опустила полог, я прокрался за угол. Несколько кирпичей выпали из стены в паре футов от земли. Я опустился на колени и заглянул в отверстие. Слившись воедино, Лучио и его жена лежали на соломе. Отблески догорающего костра скрывали грязь, синяки и бедность. Супруги показались мне ангелами, пронизанными божественным светом. В ту минуту я еще мог бы уйти. Еще мог бы все предотвратить.
Но не ушел. Вид их переплетенных тел заворожил меня, и мне захотелось того же, что было между ними.
Умирающий с голоду насыщается одним лишь видом хлеба.
Я никогда не знал любви. Никогда не ощущал, как рука ласкает рубцы на моей щеке, а покорные губы сладко прижимаются к моим почерневшим устам. Я сгорал от стыда, ни на миг не забывая о своем уродстве… Нет, не просто уродстве. Даже уродливый мужчина может иметь жену или любовницу. Он может растить детей, заводить друзей, внушать уважение и, довольный прожитой жизнью, спокойно умереть в своей постели.
Затем (должен ли я сказать «естественно»?) наступил момент, когда жена Лучио – в момент экстаза – запрокинула голову и широко открыла глаза. Я сдернул капюшон, чтобы удобнее было заглядывать в узкое отверстие: мне хотелось запомнить каждую капельку пота, каждое пятнышко на ее лице и груди. Я никому не желал зла – просто хотел посмотреть.
На ее прекрасных чертах отразились изумление, ужас, страх, а затем отчаяние, будто она произвела на свет невинное дитя, которому предстояло жить с такими, как я. А еще я увидел первобытную ненависть ко всему чужому. Эта ненависть выплеснулась и обожгла меня даже сквозь кирпичи.
Рот женщины был открыт: из него донесся резкий задыхающийся звук, а затем она наконец обрела дар речи. В этом безумном мучительном вопле я расслышал крики всех тех, кто вечно меня отвергал.
Просунув руку в отверстие и попутно его расширив, я схватил ее за горло. Ее тело дернулось, словно марионетка, и она стала задыхаться. Лучио умолял рассказать, что случилось. Он нежно ощупывал ее вырывающееся тело в поисках увечий. С потрясенным лицом он дотронулся сначала до огромной руки, а затем до гигантской ладони на шее жены. Он тоже заорал и ударил меня, пытаясь ослабить мою хватку.
Женщина обмякла, и я уронил ее на мужа. Его руки тотчас обвили ее. Она слабо кашлянула, и он защитил ее своей грудью: его потное тощее тело облепили соломинки. В эту минуту моя жалобная тоска сменилась яростью, и я возненавидел его. В своей наготе он предстал таким, каким его видели аристократы: паразитом, отбросом общества. Его жена была ничуть не лучше, но все же завопила при виде меня.
Какое еще смертельное зло я мог им причинить? Мой взгляд упал на младенца, завернутого в тряпки и лежавшего в дальнем углу. Я мог бы украсть их ребенка и подарить его Мирабелле. Тогда бы мы жили втроем: чудовище, немая и похищенное дитя – гротескная пародия на семейное счастье.
Почуяв новую угрозу, женщина указала пальцем в угол и прошептала:
– Рафаэль.
Лучио пополз к младенцу, нашел его и прижал к груди, вращая слепыми глазами.
– Малыш цел, – сказал он. – Что стряслось? Кто здесь?
– Жуткая тварь – словно ожившая каменная горгулья, – хрипло прошептала жена и заплакала.
Не в силах больше слушать, я ушел. Когда я вернулся, Мирабелла уже спала.
12 мая
Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы
предо мною, и все члены мои, как тень.
Гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и
сестра моя. Где же после этого надежда моя? [2]2
Иов. 17: 1; 17: 7; 17: 14–15.
[Закрыть]Ждем света, и вот тьма, озарения – и ходим во мраке.
Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим
ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки,
13 мая
Когда я проснулся утром, Мирабеллы не было. Меня охватил безрассудный гнев. Я рвал тряпки, которые она использовала вместо подушки, топтал цветы, сорванные ею на улице, в пыль давил черепки, которыми она украсила жилище. Все эти мелкие бесчинства не утолили моей ярости, с громогласным ревом я подобрал с пола ржавый колокол и швырнул его в стену. Он так оглушительно загудел, что у меня заложило уши.
Мне хотелось разбить колокол вдребезги, сровнять звонницу с землей. В отчаянии я бегал по кругу, не зная, за что бы еще ухватиться.
Мирабелла стояла в дверном проеме.
– Где ты была? – спросил я, в ладонях пульсировала кровь.
Она показала на деревянный стол у себя за спиной – старый, но с красивой фанерной столешницей. Хотя у него нет одной ножки, если поставить в угол, он будет казаться устойчивым. Мирабелле пришлось встать спозаранку, чтобы завладеть этой уличной добычей раньше других.
Ее бесстрастный взгляд довершил то, чему не помог даже полный разгром нашего временного жилища: погасил страсть, затуманившую мой рассудок. В изнеможении я опустился на пол и закрыл руками лицо.
– Я думал, ты ушла.
Ощупывая шрам на шее, она, похоже, сравнивала свое прежнее положение с нынешним – обычное насилие с возможностью безудержного насилия. Не в силах читать эти мысли на ее лице, я потупил взор. Вскоре послышались быстрые шаги. Сперва я решил, что она собирает то, что еще можно взять с собой, но потом понял, что она лишь пытается навести порядок. Прошло много времени, прежде чем ее шаги стихли, и я поднял глаза. По ее бледным щекам текли слезы, и в обеих руках она стискивала тряпки, которые я раскидал. Она ткнула в меня этими сжатыми кулаками: мол, нет смысла убирать и нет смысла оставаться, но нет смысла и уходить.
14 мая
Утром еда и питье снова кончились, пришлось выйти и просить подаяния.
Перед уходом я сказал Мирабелле: я хочу, чтобы она осталась со мной, но если она решит уйти, я не стану удерживать ее силой. В отличие от первого раза, я не шпионил, чтобы узнать о ее решении.








