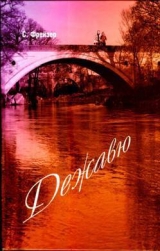
Текст книги "Дежавю"
Автор книги: Сюзан Фрейзер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Мы встретились в «Пани», чтобы пообедать, на набережной Монтебелло, на левом берегу Сены, напротив собора Парижской Богоматери. Когда долго живешь с человеком, возникает особенность: вы ссоритесь, но не позволяете ссоре перерасти во что-то большее. Вы не желаете этого делать.
Марк, снова опередив меня, сидел спиной к залу. На столе стояла бутылка белого вина и два наполненных бокала. Мне стало интересно, заказал ли он наше любимое, то, которое всегда заставлял ради потехи заказывать меня, потому что я никогда не могла произнести это название как следует.
– Пу-иль-ле-фом-эх, пожалуйста, – говорила я официанту, а он в ответ смотрел на меня, ничего не понимая. Мы несколько раз ходили в этот ресторан, и я выглядела совершенно слабоумной, когда Марку приходилось вмешиваться.
– Pouilly Fumé, – мягко произносил он, подмигивая официанту.
Тот улыбался в ответ:
– Ah, oui, bien sur! ( Ах, да, конечно!)
Их совместная небольшая шутка.
Но на сей раз Марк заказал вино, не дожидаясь меня. Забавно. Когда-то он находил меня весьма очаровательной. А теперь ему просто хотелось выпить.
Подходя к нему, я думала: как странно сейчас не видеть лысины Марка. Я поняла, что соскучилась по ней, по той трогательной ранимости, которая развилась у Марка на этой почве, хотя само это пятнышко было не больше монеты. Я протянула ладонь, нежно потрепала Марка по макушке и скользнула на свое место.
– Больше нет, – проговорила я.
– Quoi? – Марк улыбнулся и озадаченно посмотрел на меня. – Чего нет?
– Ничего. – Он всегда нервничал по этому поводу, поэтому я не стала развивать тему дальше. – Ничего, что мы не сможем вернуть обратно.
– A, oui. – Марк кивнул, словно понял, о чем речь. – Это хорошо, Энни.
Он посмотрел на меня. В его голосе было столько убежденности, что я поняла – он подумал о чем-то более серьезном, чем о своей лысинке; о нас, о Чарли. Я узнала тот взгляд, который всегда был у Марка после наших ссор. Он совершал над собой усилие. Как и я, он не хотел лелеять обиду. Слишком велика была ставка. Поэтому я наклонилась к нему через стол и поцеловала его в губы. Я совсем забыла, какие у Марка мягкие губы. Он взял меня за руку. Я улыбнулась.
– Кажется, у тебя хорошее настроение. – Неужели он нашел ответ, подумала я. Неужели мы к концу сегодняшнего дня снова окажемся дома? Самое худшее к концу этой недели. Я смогла бы еще потерпеть, я смогла бы найти силы, если бы Марк сказал мне, что нашел выход, что мы снова окажемся дома с Чарли прежде, чем поймем это, прежде чем успеем сделать заказ!
Он поднял свой бокал и осторожно коснулся им моего.
– Я просто рад снова тебя увидеть. C'est tout.
Что-то в его взгляде, в том, как он отводил глаза, насторожило меня, заставило задуматься. Я прожила с Марком столько лет и сразу замечала даже едва уловимые изменения в его поведении. Да, я подумала о Фредерике и убрала руку.
– Нет. – Я сделала глоток вина, наблюдая за тем, как Марк нервно смел хлебные крошки со скатерти. – Скажи мне, о чем ты думаешь на самом деле.
Конечно, в его голове крутились какие-то мысли, но они были явно не о Фредерике. Марк снова посмотрел мне в глаза:
– Мой отец сегодня утром позвонил мне на работу.
Я редко не нахожу что сказать, но это был как раз тот случай. Под столом Марк дергал ногой, отчего бокалы вибрировали и по поверхности вина бежала рябь. Я взяла его руку в свою.
– Твой отец? – Мое сердце забилось быстрее.
Но Марк покачал головой и улыбнулся.
– Мы должны что-нибудь поесть. – Он подозвал официанта. – Tu as faim? ( Ты голодна?) Боже, я готов съесть целую утку!
Это было старой доброй шуткой, соединением выражения про лошадь и любимое блюдо Марка – утиную грудку Magret de Canard. Но я потеряла аппетит, подумав об отце Марка.
Я забыла про него.
– Марк, пожалуйста, не делай этого! – Пара с соседнего стола одарила нас любопытными взглядами. Я постаралась приглушить голос. – Скажи мне, пожалуйста. Скажи, что собираешься…
– Non, mais alors ( Еще чего не хватало!), Энни! – Марк посмотрел на меня кристально чистыми, невинными глазами. – Я ничего не планирую. Я просто сказал тебе, что мой отец позвонил мне. Et alors? ( В чем же дело?)
Официант нетерпеливо стоял рядом, с блокнотом на изготовку.
– Et alors? – повторил он эхом за Марком.
«Бесцеремонный молодой человек», – подумала я.
– Вы выбрали, месье, мадам?
Я решила игнорировать месье Эхо.
– Пожалуйста, Марк, нам надо поговорить!
Но внимание Марка полностью было поглощено заказом.
– Magret de Canard pour moi.
Он знал, что я ненавидела, когда он заказывал сначала для себя. По рассказам моей матери, мой отец никогда не поступил бы так. Но Марк всегда так делал, когда злился на меня.
Официант повернулся ко мне.
– А что закажет мадам?
Тогда я подумала, что официанты так распознают грубых клиентов, по тому, что они заказывают сначала для себя, а не для своего партнера.
– Sandwich au fromage. – Я улыбнулась, давая понять, что для меня это совершенно привычное дело.
– Мадам, это не кафе. – Его английский был практически идеальным. Но тон, с которым произнес эту фразу, был холоден, точно мороженая рыба. – Мы не подаем сэндвичи.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Я познакомилась с родителями Марка, Розой и Морисом, очень рано и по отдельности. Однажды в апреле мы поехали на выходные за город и направились на юго-восток, туда, где был дом семьи Марка. Озер-ле-Вульжис находится примерно в сорока километрах от Парижа, однако это место кажется несусветной глушью. Земля вокруг представляет собой равнину, мертвую равнину. Дорога в Озер, километр за километром, тянется вдоль полей свеклы и кукурузы, за которыми виднеется церковь с местным кладбищем. А затем опять поля со свеклой и кукурузой. В городке есть почта, кафе, один магазин, одна булочная, и все. Железнодорожной станции давно нет. Зато есть два кладбища, что говорит само за себя.
– Это здесь ты вырос? – дразнила я Марка в тот первый раз, когда он отвез меня туда, старательно изображая из себя «городскую штучку». – Где тут ночная жизнь?
– Tu verras. – Он улыбнулся. – Увидишь.
Тем вечером, на закате, он отвез меня на берег реки, и мы лежали в высокой траве у самой кромки воды, скрытые от взглядов рыбаков, что стояли на мосту. Сам мост представлял собой шаткую деревянную арку, перекинувшуюся через реку в нескольких сотнях метров от нас.
Тогда-то я увидела ночную жизнь Озер.
– Небо, – проговорил Марк, когда мы лежали на мокрой траве и смотрели вверх. Мы дрожали от холода, но были счастливы. – Теперь видишь? Вот она, здешняя ночная жизнь.
Марк был прав. Красота Озер была в небе над ним. Не важно, где ты находишься, но стоит только окинуть взглядом этот плоский ландшафт, и вокруг ты видишь только небо, заполняющее собой почти все пространство, и ты словно тонешь в нем. Сущий рай для астронома.
Мы направлялись домой мимо одного из кладбищ, и лишь луна освещала нам путь. Вдруг Марк сжал мою руку. – Мои прабабушка, прадедушка и бабушка с дедушкой похоронены здесь. Хочешь с ними познакомиться?
– Нет! – Нелепо засмеявшись, я выдернула руку и с криком бросилась бежать, а Марк погнался за мной.
– Tu en es sure, Энни? Ты правда не хочешь? Я уверен, что они были бы просто счастливы познакомиться с тобой!
Родители Марка жили в центре городка в старом каменном доме на ферме, который построил еще прапрадед в конце 1700 года. Спустя годы, во время наших приездов во Францию из Австралии, Чарли часами будет пропадать на чердаке, роясь в старинных чемоданах, в пыльных коробках с деревянными игрушками, рассматривая старые комиксы, между хрупкими желтыми листами которых застряла паутина. Все это было настоящим кладом для мальчишки.
Помню, после нашей первой ночи у него дома, я проснулась от яркого солнечного света, струящегося сквозь застекленные створчатые двери, ведущие из его старой спальни в сад. Тихо, потому что Марк еще не проснулся, я исследовала полки с книгами, с книгами его детства, коллекцию моделей машин и самолетиков, многочисленные выцветшие коробки из-под шоколада, набитые солдатиками. Я пересмотрела целую стопку рисунков маленького мальчика, на которых были изображены лошади, машинки и целые армии, сражающиеся ради славы. Там были и другие рисунки, очевидно из периода его бурной юности. Это были наброски девушек, чьи гигантские груди поднимались со страниц, словно наполненные водой воздушные шарики, готовые вот-вот лопнуть.
Позже, тем же утром, мы прогулялись с Морисом до местной булочной, которая располагалась примерно метрах в ста от церкви. Каждое воскресенье, по утрам, ее колокола звонили, собирая всех на мессу. Колокола часто звонили и в Озер.
Морис был тихим человеком, как и Марк. Ему, видимо, нечего было мне сказать. В конце концов, я ведь была всего лишь странным существом из далекой страны, которое охмурило его сына и которое обязательно увезет его на край света. Морис просто смотрел на нас и качал головой. О чем он тогда думал, для меня до сих пор загадка.
Но Роза, маленькая хрупкая темноглазая женщина с седыми волосами, которые когда-то были такими же черными, как у Марка, садилась рядом со мной в саду и рассказывала всякие истории. Она рассказывала о Марке, о мире, в котором он вырос. Роза приносила целые стопки старых пыльных альбомов с черно-белыми фотографиями, с фотопортретами предков Марка. Мне запомнилось фото его прапрабабушки Морван, которая стояла вытянувшись в струнку в длинном черном платье. Выражение ее лица было таким же каменным, как и застывший силуэт. Очевидно, кто-то умер.
Я с интересом наблюдала за Марком и его отцом, когда они ходили рядом по саду и общались без слов. Да, они почти не разговаривали, но это было просто молчание двоих людей, отлично понимающих друг друга. Такого никогда не было между мной и моей матерью. Ростом Морис был ниже своего сына, при этом он еще был и толще, но все равно их объединяли схожие черты. Красивые и правильные формы лица, какая-то сила, с самого сначала потянувшая меня к Марку. Он показался мне благородным рыцарем, взгляд голубых глаз которого из прорези сияющего серебром шлема пробил мое сердце насквозь.
И я подумала, может быть, и Розу к Морису привлекло то же самое? Роза пережила Вторую мировую войну, а это было и другое время, и другой мир. Но, как и я, она познакомилась с Морисом в Париже. Она сидела на Восточном вокзале и ждала поезда, который должен был подойти в восемнадцать ноль шесть. Роза должна была ехать домой, в Гретц, еще один городишко к юго-востоку от Парижа. Она очень устала, отработав двойную смену в госпитале Ларибуазьер. Морис подошел, сел рядом с ней, улыбнулся и сказал: «Bonsoir». Вот и все. Тогда мужчины были вежливыми. Это было в порядке вещей. По дороге они не разговаривали. Не потому, что Морис не думал об этом, как он говорил ей потом, а потому, что он был очарован этой хрупкой женщиной, которая в ответ с улыбкой посмотрела на него своими большими карими глазами.
Сойдя с поезда, Роза не заметила, пока не дошла до своего велосипеда, стоявшего у края платформы, что забыла свою сумку с продуктами на верхней полке для багажа. Тогда, в послевоенной Франции, времена были суровыми, и людям приходилось несладко. Поэтому она вслух кляла себя за рассеянность самыми последними словами. И только тут она заметила Мориса, который шел за ней с ее сумкой в руках.
Потом, спустя многие годы, она смеялась, вспоминая об их первой встрече. Потому что Морис просто молча протянул ей сумку, надвинул шапку на глаза и пошел пешком домой. Как потом выяснилось, ему пришлось идти очень долго, потому что Морис сошел на одну остановку раньше. А Роза даже не поблагодарила его. Зато она сделала это на следующий день, когда Морис сел на тот же поезд, в тот же вагон и на то же самое место… что и она.
В один из наших очередных приездов я заметила, как постарел Морис. Он словно состарился за одну ночь. Он был болен, но тогда мы не знали об этом. Роза рассказывает историю снова и снова. Морису было всего пятьдесят девять, и ему оставался всего год до пенсии. Он постоянно уставал, очень уставал, но не хотел идти к врачу. Он всегда ненавидел врачей, говорила Роза. И однажды просто не смог встать с постели.
Он умер через некоторое время после нашего отъезда в Австралию.
Я часто думала, не винит ли меня Марк… Может, он думал, что если бы был рядом, то смог что-то сделать, как-нибудь предотвратить? А может, это просто судьба? Не важно, был бы Марк в Австралии или во Франции. Врачи сказали, что у его отца лейкемия. Если бы только мы заставили его пойти к врачам раньше, со слезами говорила Роза. Но я не была уверена, что это бы помогло.
Морис умирал.
* * *
– Как он, Марк?
Вопрос был абсурдным, гротесковым по своей простоте и по сути. Но я не знала, как иначе, более мягко, спросить Марка об этом. И все равно язык мой будто налился свинцом. Я думала о его отце, о человеке, который столько значил для Марка, чья смерть оставила в его сердце глубокую рану и глубокую трещину в наших отношениях…
Морис был все еще жив.
Мы вышли из ресторана и пошли к метро, чтобы вернуться обратно на работу. Но когда мы подошли к лестнице, ведущей вниз, в подземный лабиринт, я взяла Марка за руку и отвела в сторону, пробираясь сквозь толпу людей, беспорядочно снующих вокруг, словно безумные муравьи. Он не ответил на мой вопрос.
– Марк?
В ответ он только шумно выдохнул, словно выпустил пар из скороварки.
Мы стояли у перил, ограждающих Сену. Внизу неспешно бежала серо-синяя вода. Над нами, в мрачном свете этого серого вторника, собор Парижской Богоматери высился как огромный белый замок, сказочный замок, очень похожий на те, что я видела на картинках еще в детстве.
– Что он сказал, Марк? О чем вы говорили?
Марк засунул руки в карманы и пожал плечами под порывом холодного ветра.
– Да так…
Увидев его едва уловимую мальчишескую улыбку на лице, я захотела плакать. На меня словно смотрел Чарли. Это было его лицо, это были даже его слова. Мы сами стали говорить так, и это означало «Я не хочу говорить об этом». Но сейчас я не хотела играть в эту игру. Все было слишком важно.
– Это все, Марк? Да так?
Он вынул руки из карманов и, повернувшись спиной к воде, сложил их, словно защищаясь.
– Oui, c'est tout.
И снова он напомнил мне Чарли, когда тот наотрез отказался снимать с себя костюм Бэтмена, настаивая, что пойдет в нем спать, несмотря на то что костюм представлял собой черный комбинезон из чистого нейлона, который еще и был на два размера меньше, и на улице стояла ужасная жара. Чарли скрестил руки на груди, и его лицо выражало твердую решимость не уступать, совсем как у Марка сейчас. Тогда мне пришлось подождать, пока он заснет, чтобы стянуть с Чарли этот злосчастный костюм. Под ним кожа Чарли была горячей и липкой от пота. Я вдыхала этот милый, сладковатый запах Чарли, пока он спал.
– О Марк… – Я потянулась к его плечу и почувствовала, как мышцы напряглись под моим прикосновением. – Разве мы не можем поговорить об этом сейчас?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Парижские парки красивы, как рисунки ребенка. Извилистые тропы петляют вдоль идеальных ярко-зеленых лужаек, цветочных клумб, заботливо подстриженных деревьев, которые кто-то будто бы аккуратно расставил, и мимо обязательного фонтана в центре, где плавают игрушечные кораблики.
Но ходить по траве нельзя.
Когда я первый раз сказала Марку, что хочу вернуться в Австралию, что мне не хватает той простоты, когда по улице можно ходить в шортах и футболке, можно бегать босиком по траве и песку, и что я хочу, чтобы он увидел страну, в которой я родилась, Марк ответил: «Eh bien, on у va! Хорошо, поехали!»
Тогда мы были вместе уже три года. В то время для нас не существовало трудностей. Я скучала по дому, вот он и вез меня домой. Но я не думаю, что Марк представлял себе реальное расстояние, которое нам предстояло преодолеть. Я думаю, что только после того, как мы приехали, начали обустраивать наш новый дом в Австралии и нашли работу, Марк наконец все осознал. Австралия была слишком далеко от Франции, и расстояние это нельзя измерить только в километрах. Там я была étrangère – иностранкой с акцентом, забавной девушкой, которая вызывала смех у французов всякий раз, когда безуспешно пыталась произнести некоторые слова и воспроизвести грассирующее «эр». Но теперь он был чужаком. И у меня не было семьи, с которой можно было бы его познакомить. Я была просто перекати-полем, и у меня не было истории. Бабушка умерла примерно три года назад, и с матерью я с тех пор не разговаривала. Я даже не сообщила ей, что вернулась.
– Ты скучаешь по своим родителям? – спрашивала я его тогда.
– Non, – улыбался Марк. – У меня есть ты!
Но иногда меня мучает вопрос, о чем думал Марк вечерами, когда приходил с работы, садился ужинать за стол и, хмурясь, смотрел в пустоту. Тяготила ли его чуждая языковая среда? А может быть, ему непросто было свыкнуться с нашими австралийскими реалиями, когда коллеги по работе грубовато ободряли его: «С ней все будет нормально, приятель».
Я забеременела в первый или второй месяц после нашего приезда в Сидней. Будто мое тело само решило, что теперь я дома. И, кроме бурной радости по этому поводу, немного позже я почувствовала и облегчение. Теперь я могу предложить Марку частичку меня. И частичку его самого. И мы можем создать нашу собственную семью с историей, которая начинается с нас, начиная с нуля, с этого ребенка.
– Epouse-moi, Энни. Выходи за меня, Энни, – произнес Марк, когда я все ему рассказала. Эти простые слова вспугнули сотни бабочек у меня внутри, которые порхали вокруг нашего еще не рожденного ребенка и вокруг моего сердца, пока мы шли босиком по песку пляжа Тамарама. Встав у самой кромки воды, мы смотрели на океан. Здесь я купалась с подружками, когда была маленькой. Ныряя, мы держались за водоросли, пока волны прокатывались над нашими головами.
– Выходи за меня, Энни, выходи за меня, выходи за меня!
На следующий день, мы сели в автобус, который направлялся в Рокс [18]18
Старинный район Сиднея.
[Закрыть], мимо причала, где пахнет солью и рыбой, мимо кораблей и туристов, мимо гавани. Мы ехали в отдел записей актов гражданского состояния.
Свидетельства о рождении, смерти и регистрация браков. Пожалуйста, возьмите талон.
Когда я нажимала на кнопку, Марк прошептал мне на ухо: «Не ошибись с талоном, Энни!»
На синих пластиковых сиденьях мы ждали, когда подойдет наша очередь. Рядом с нами сидела молодая пара с новорожденным на руках. Вся простота процедуры вызвала у нас смех, и мы все еще продолжали смеяться, когда женщина за конторкой сказала нам: «Чтобы жениться, вам нужно подождать по крайней мере один месяц и один день. Таковы правила».
Мы снова оказались в лучах жаркого австралийского солнца.
Бланк предварительного заказа на брак лежал аккуратно свернутым у меня в сумочке, и мы шли рядом по берегу океана. Тогда Марк спросил меня:
– С est tout? Это все?
– Да! – Я улыбнулась, взяла его за руку и крепко поцеловала в губы. – Все так просто!
– Но разве ты не хочешь пригласить свою семью?
Я повернулась к Марку. Впереди остановился туристический автобус, из которого вывалилась целая толпа японцев. Они перегородили нам дорогу, фотографируя друг друга на фоне Сиднейской бухты, выстраиваясь в шеренги вдоль перил.
– Какую семью, Марк?
– Та mère, non?
– Мою маму? – Его вопрос показался мне полным абсурдом.
Мы поженились через месяц и один день в городской канцелярии. Это было счастливое гражданское бракосочетание, которое прошло без моей матери.
Но однажды, когда мы вместе лежали в постели, Марк провел ладонью по моему животу и снова спросил:
– Mais Энни, tub ne veux pas lui dire? Разве ты не хочешь сообщить своей матери о ребенке?
– Ты не понимаешь, – ответила я тогда, положив ладонь на его руку. – Это совсем не то, что твоя семья. Между моей матерью и мною нет таких же отношений.
После Марк не упоминал об этом, по крайней мере пока я была беременна. И поэтому я предположила, что он все понял.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Когда умер отец Марка, я была на седьмом месяце беременности. Я была большой и круглой, поэтому не могла поехать с Марком во Францию на похороны.
С первого телефонного звонка, когда Роза сказала, что Морис умирает, и несколько недель до смерти отца Марк пребывал в состоянии глубокой молчаливой апатии.
Его молчание пугало меня своим каменным и мрачным спокойствием. Марк выглядел угрюмым, чего, конечно, следовало ожидать. Но в его глазах было столько мрачной печали, что это, скорее, походило на злость. Никогда за все три года я не видела Марка таким. Я хотела обвить его руками и согреть, прижаться к нему, забрать всю его боль. Когда он смотрел на меня, я видела, какая невыносимая боль стоит в его глазах, в этих когда-то чистых и задорных голубых глазах, в которых отражалась моя душа, мое счастье. Теперь глаза Марка стали темно-серыми озерами горечи и печали.
– Я пошел спать, – говорил он, вставая из-за стола, и сразу уходил, даже не посмотрев на меня.
Когда я приходила в спальню, Марк лежал в темноте, уставившись в потолок. Его тело лежало поверх простыней, словно холодный и застывший труп. Счастливый молодой мужчина, который шел рядом со мной по берегу и радовался, когда я сказала, что беременна, а потом просил моей руки, перекрикивая шум прибоя, теперь был погребен под толстым слоем горя, через который я никак не могла пробиться к нему.
Вскоре я стала ненавидеть свое большое раздутое тело, наполненное эндорфинами, гормонами счастья. Я хотела отдать их Марку и сказать: «Вот, возьми, это поможет тебе заснуть. Это облегчит твою боль!»
Я хотела снять его боль поцелуями.
Но я просто ложилась рядом, подкатывала свой огромный живот к нему, клала руку Марку на грудь и ладонью искала его сердце. Я хотела ощутить тот ритм, который когда-то отбивали синхронно наши сердца, но Марк отстранялся, убирая мою руку локтем, и ложился на бок, поворачиваясь спиной ко мне. И я оставалась лежать в тени его молчания, внушая себе, что все будет в порядке – он просто страдает от горя.
Я спала, и мне снилось, что он положит руку на мой распухший живот, туда, куда клал ее в самом начале моей беременности, и его пальцы осторожно пройдутся по туго натянутой коже, ища Чарли, который уже смешно брыкался внутри. Но я просыпалась, разбуженная молчанием Марка, и понимала, что по-прежнему лежу в тени за его спиной.
Иногда, поздно ночью, звонила Роза, и тогда он закрывал за собой дверь в холле и тихо разговаривал с ней. Но даже через закрытую дверь я слышала гнев в его голосе и ощущала боль в его сердце. Еще долго после того, как Марк вешал трубку, я ощущала страх в его молчании. Он сидел в темноте в холле, а я с нетерпением ждала его, ворочаясь на кровати. Я хотела пойти к Марку, обнять его и сказать, что это ничего и я знаю, что он боится.
Да, его отец умирал. Но больше всего меня пугало то, что и часть Марка умирала вместе с ним. Его апатия ужасала меня. Почему он не хочет ехать к отцу? Ведь они так близки, так похожи. Похожи их лица, движения, они понимают друг друга без слов. Я боялась за Марка, боялась, что однажды, оглянувшись в прошлое, он пожалеет об этом, и станет винить себя. И эта вина ожесточит его, и эта боль и злоба останутся в его голосе, в его глазах. Я жила с этим, когда была маленькой; я помню глаза моей матери, я помню ее голос.
«Она не всегда была такой, Энни!»
– Марк, почему ты не поедешь к нему? – спросила я однажды ночью.
Но он не взглянул на меня.
– Ты боишься уезжать? Ты боишься, что ребенок родится, когда тебя не будет рядом?
– Ты думаешь, в этом все дело? – произнес он, и в его голосе я услышала неприкрытую злобу. Я не стала обращать внимания. Ведь он же скорбит, сказала я себе.
Ночью, когда снова раздался звонок от Розы, мы вместе лежали на постели в темноте. Собранная дорожная сумка Марка стояла в углу. Он готов был вылететь в Париж утренним рейсом. Тогда я попыталась сказать ему:
– Марк, я понимаю… то, что ты чувствуешь…
В ответ – ничего.
Он молчал до тех пор, пока я не начала засыпать. И вдруг услышала его голос:
– Ты ничего не понимаешь, Энни.
Его горе стало ядовитой змеей, которая жалила меня в самое сердце. Я кусала губы, задерживала дыхание, стараясь не плакать.
– Оставайся столько, сколько потребуется, – сказала я утром, когда мы сидели напротив друг друга в кафе аэропорта. – Оставайся и дольше, если захочешь. Не волнуйся о ребенке…
Марк кивнул, ничего не ответив. Снова молчание.
Потом он улетел.
За две недели до предполагаемого срока рождения меня охватила тревога. Прошел месяц, как Марк уехал. Несмотря на то, что я говорила ему, я надеялась, что он вернется быстрее, так как боялась, что ребенок в конце концов может появиться на свет раньше срока.
Но Марк позвонил. В его голосе я все равно услышала ту же злобу. Потом я лежала и говорила, что со мной все в порядке, что с нами все нормально, а ему просто надо еще побыть дома.
– Ты ничего не понимаешь, Энни, – сказал он в ответ.
* * *
В конце концов Марк вернулся, вернулся тогда, когда подходили к концу мои девять месяцев.
Когда я пыталась расспрашивать его об отце, Марк снова впадал в мрачное молчание, становился замкнутым и угрюмым. Он совсем не был похож на того Марка, которого я знала прежде. Я пыталась подавить панику, все чаще охватывающую меня. Ведь именно этого я и боялась больше всего – похоронив отца, Марк похоронил с ним частицу себя.
Я думала о том кладбище, мимо которого мы проходили и откуда я бежала прочь, смеясь и крича. Я думала о могильных плитах, обрамляющих дорогу, которая вела к его дому. «Ты хочешь познакомиться с моими предками, Энни?» Марк похоронил там своего отца, как и Морис своего. Мрачная история повторяется – его предки с каменными лицами, с тех черно-белых фотографий, преследуют нас в настоящем, ставя под угрозу наше будущее.
– Он злится на меня, Бетти.
– Дай ему пережить его горе, – ответила она с другого конца трубки.
– Он винит меня.
– Нет, Энни, это не так – ты не понимаешь.
Снова точные слова Марка в мой адрес. И я вспомнила, что говорила то же, когда Марк спрашивал про мою мать.
Тогда я решила: пусть эта волна разобьется об меня, о мой большой круглый живот, об обещание нашего розового будущего, нашего счастья. За смертью следует рождение, сказала я себе, вспомнив те кнопки в здании Канцелярии. Когда Марк будет готов, он вернется ко мне. Бетти была права. Сейчас ему просто нужно время, чтобы пережить боль утраты.
А потом родился Чарли.
И с тех пор, как он появился на свет, я нормально не спала, пока ему не исполнилось три года. У меня даже не хватало времени как следует почистить зубы, не говоря уже о том, чтобы размышлять о смысле жизни и смерти.








