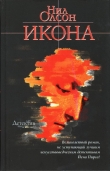Текст книги "Агни Парфене"
Автор книги: Светлана Полякова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Едва усмехнувшись, перевернул страницу и нашел вторую Гликерию:
«Пострадала за Христа около 177 г. Она происходила из знатного рода. Сблизившись с христианами, она обратилась к истинной вере и ежедневно посещала храм Божий. В день, назначенный для жертвоприношения, св. Гликерия, начертав на своем челе знамение Креста, явилась в языческое капище и своей молитвой сокрушила идола. За это святую хотели побить камнями, но камни чудесно не коснулись ее. Во время мучений ей явился Ангел, при виде которого мучители в ужасе пали на землю. Тогда святую стали морить голодом и жаждой, но она оставалась невредимой, так как Ангелы Божии приносили ей пищу и питие. Затем Гликерию отправили в г. Ираклию, где, за отказ принести жертву идолам, ее бросили в раскаленную печь. По молитве св. Гликерии огонь в печи погас. После этого, содрав кожу с ее головы, св. мученицу связанную и обнаженную положили на острый камень. Ночью Ангел Господень исцелил Гликерию и освободил от оков. Пораженный этим чудом темничный страж Лаодикий уверовал в истинного Бога и, наставленный в вере святой мученицей, принял мученическую кончину. Святая же была отдана на съедение зверям. Однако выпущенная на нее львица стала смиренно лизать ей ноги. Наконец, св. Гликерия с молитвой обратилась к Богу, прося, чтобы Он взял ее к себе. В ответ она услышала голос, призывающий ее к небесному блаженству. Вскоре на св. мученицу выпустили другую львицу, которая умертвила ее, но не растерзала. Ираклийские христиане с честью похоронили святую мученицу, мощи которой прославились истечением благоуханного и целебного мира».
– Этим христианам только триллеры писать, – пробормотал он. И, перевернув ковчег, застыл.
Он был уверен, что там ничего не было прошлый раз – только гладкая, ровная поверхность.
Теперь же он увидел выбитые буквы, которые невозможно было не заметить:
рбсЬдпуз
Он замер на секунду, там было еще что-то, мельче, почти неразличимо – на том же греческом языке, но вот это – «предание» почему-то не отпускало, не давало ему сейчас дышать.
Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, приказывая себе успокоиться, но – перед глазами, в темноте, виделся ему снег, и руины какого-то монастыря, и пламя, языки огня сплетались, сплетались в одну большую, причудливую надпись:
емпй екдйкзуйт егщ бнфбрпдщущ легей кхсйпт
– «Мне отмщение, и Аз воздам», говорит Господь. Эго антаподосо...
Слова прозвучали тихо, внятно, совсем рядом. Он вздрогнул и замер, боясь обернуться. Рука дернулась, крепче сжимая подлокотник кресла.
Мне отмщение, Аз – воздам...
Они до самого вечера прогуляли. Нико удивлялся тому, что Елизавета действует на него так странно – ему не хотелось уходить от нее ни на шаг. «Она словно опутывает меня невидимыми сетями», – подумал он, но – вырываться из сетей не хотелось. Он позволил себе на набережной, демонстрируя ей Волгу с такой гордостью, как будто в существовании реки была какая-то его особенная заслуга, – совсем маленькую вольность, положил на плечо Елизаветы свою руку, немного задержал, смотря в глаза хорошо натренированным за годы сексуальных сражений многозначительным взглядом. Она ничего не сказала, просто посмотрела на него так, что он – засмущался и убрал руку. Он, который отучился краснеть и смущаться еще в девятом классе общеобразовательной школы.
Нет, в ее взгляде не было ничего осуждающего – скорее вопросительное, насмешливое, – но он почувствовал себя так, точно сейчас совершает или неслыханно дерзкий поступок, или непозволительно глупый.
Она все время фотографировала – особенно ее пленяли старые здания с готическими шпилями – и православные храмы. Ей даже удалось затащить его внутрь – несмотря на сопротивление, он был вынужден ей подчиниться.
– Зайдем, – сказала она, остановившись возле входа в самую старую церковь города.
– Зачем? – поморщился он.
– Мне так нужно, – тихо проговорила она и улыбнулась. – Боишься?
Он нахмурился. Хотя – в ее словах была доля правды. Там шла служба. А еще – там были две иконы, которые, казалось, смотрели на него, и от их пристального внимания он чувствовал себя как уж на сковороде. Он даже начинал в этот момент понимать, почему у икон уничтожают глаза – чтобы не чувствовать себя вот так... Он как-то подумал, что и этим он бы уничтожил глаза. И сразу пришло в голову, что можно было бы устроить такую выставку: «Пусть они ослепнут». Пусть они нас освободят.
Но – сейчас, рядом с Елизаветой, все его страхи и мысли казались такой нелепостью, таким детским отношением к жизни... И эта последняя идея, посетившая его голову, показалась глупой.
– Нет, пойдем. Я не люблю церквей. И церковников не люблю. И этих верующих – там вообще пахнет не так, там...
– Там тихо и красиво, – возразила Елизавета. – И кажется, ваш писатель сказал, что красота спасет мир. Ты же художник, ты сам творишь красоту, ты должен понимать это...
Почему он смутился от ее слов? Вспомнил свои странные расплывчато-геометрические фигурки и почему-то подумал: «Я не творю эту вашу красоту». Он хотел ответить ей дерзко, что там, где ей мерещится красота, он видит только черную дыру, ничего больше. Но почему-то ему было стыдно в этом сейчас признаться.
И точно ответом откуда-то, из самой глубины того, что он называл принципиально – подсознанием, донеслось замирающим эхом:
– Так ты и не художник...
Он почувствовал приступ раздражения – ну да, еще можно сказать, что он плохой художник, что на самом деле ему не удается почувствовать внутри – что же говорить про слово «передать это», что он там, в душе (в подсознании), не чувствует ничего, кроме пустоты, эту пустоту и воплощает. И можно сто раз называть себя avant-garde, передовым отрядом – какой из тебя передовой отряд, ты уныло плетешься в хвосте, воображая себя новым Сальвадором Дали – нет ничего, ты плохой рисовальщик, в отличие от него, поэтому тебе пришлось войти в этот «передовой отряд», просто – потому что твое подсознание воспринимает этот мир как аляповатую мешанину пятен, в этом – все...
Однажды он набрал в «гугле» слово «красота». И понял – мир вообще авангарден. Оказывается, красота – это кремы для лица. Это клиника пластической хирургии. Тело, тело, тело... Душа никому не нужна даже в виде подсознания.
Что спасет мир? Фитнес-центры? Или – поддельная красота глянцевых журналов, где с помощью фотошопа из безмозглых, целлюлитных дур делают красоток?
«Ладно, – сказал он себе тогда. – Набрал полную формулу от Достоевского – и получил». Сверхэффективные, лечебно-профилактические многофункциональные крема быстрого действия с потрясающим омолаживающим эффектом. Сомневаться не приходилось – наверху сияло это бессмертное «Красота спасет мир», но вместо Достоевского сияло беспечно-глупой улыбкой лицо хозяина компании, производящей «спасающие мир крема».
– Святой Исаак Сирин, – донесся до него голос священника, – говорил: «В какой мере человек приближается к Богу своим намерением, в такой Бог приближается к нему Своими дарованиями».
И он вздрогнул невольно – показалось, что слова этой проповеди обращены к нему, что этот молодой – гораздо моложе его – мальчишка-священник знает его мысли, и о нем – знает. Ему даже показалось, что он смотрит прямо на него. Но – только показалось... На всякий случай он отступил на несколько шагов в тень, туда, где возле распятия стояли свечи – канун, кажется, так это называлось. Тут поминали усопших. Старушка с ребенком как раз ставили свечи, старушка шептала мальчику с распахнутыми глазами, полными надежды: «Ты попроси, попроси за мамочку, Господь тебя услышит». Мальчик недоверчиво обернулся на бабушку, спросил: «Точно услышит? И мама – вернется?»
Старушка отвернулась, вышло так, что ее взгляд упал на Нико, который скептически улыбался. В ее глазах мелькнул страх, она нахмурилась, обняла мальчика, словно пытаясь укрыть, спрятать, и поспешно, точно стараясь убедить себя в том, что это наваждение непременно исчезнет после молитвы, начала что-то шептать ребенку на ухо. Нико удалось расслышать лишь: «Нет, она оттуда совсем не вернется, но она тебе приснится. Ты с ней сможешь разговаривать через молитву, понимаешь?»
А он и сам не мог понять, отчего вдруг преисполнился какой-то завистью и злобой, хотелось сделать отчего-то им больно, очень больно, он даже поспешно отвернулся, чтобы не выдать этого желания взглядом, усмешкой, поискал глазами Елизавету – и зачем она сюда его приволокла? Та стояла как ни в чем не бывало и разговаривала с тем самым молоденьким священником, очень серьезно, кивала в ответ на его слова, Нико даже показалось, что они говорят о нем и что священник Елизавете как будто дает поручения.
Наконец они закончили беседу, и Елизавета подошла к нему.
– Пойдем? – спросила она.
Ему показалось, что она расстроена.
– Что-нибудь не так? – поинтересовался он.
– Да нет, все нормально... Я хотела сделать фотографии иконостаса, а мне не разрешили. Жалко...
Она улыбнулась и пошла к выходу из храма. Он пожал плечами – да зачем вообще было спрашивать разрешения фотографировать? Надо тебе – снимай спокойно. А то – фотографировать нельзя. Мобильники выключайте.
Глупости какие-то.
Почему-то мысль об этих мобильниках зацепилась за старушку и мальчика и за это их дурацкое желание поговорить с усопшей.
И так и вертелась там, пытаясь найти укромное местечко, до поры до времени, пока не оформится во что-то, пока еще ему непонятное.
А на улице было прохладно, дул ветер, шел мелкий, колючий снег, и родной город казался хмурым и неприветливым – хорошо, что послезавтра они уезжают отсюда, подумал Нико. Чем дальше, тем лучше. Его бы воля – он там в Праге остался бы навечно. Навсегда...
Он представил себе, что уже находится там, вместе с этой забавной Елизаветой, далеко-далеко – от совершенно невнятной, убогой, серой реальности именно этого города, и ему стало легче дышать.
«Ну и что, что я бегу отсюда, – подумал он. – По сути, мы все время бежим. Кто от чего. Кто от реальности, в эти вот храмы, придумывая себе Бога, а кто-то бежит от окружающей серости бытия, или...»
– От собственной серости.
Он дернулся, обернулся – Елизавета фотографировала храм, стояла к нему спиной. Почувствовав его взгляд, обернулась, вопросительно вздернула бровки.
– Ничего, так, показалось.
На пустой заснеженной улице никого не было. Они вдвоем. Но голос был женским. И он слышал его четко.
Или показалось, что слышал.
Было холодно. Он поднял выше воротник куртки.
– Ты скоро? – спросил у Елизаветы.
Она с некоторым сожалением кивнула – казалось, она не чувствует холода.
– Сейчас... Удивительно красиво. Знаешь, как во сне. Из темноты выплывает светящийся храм...
И, подумав, добавила едва слышно:
Меч не опущен в руках Херувима,
Сторожа райских ворот.
Божья обитель для грешных незрима,
Сердце, как лед.[10]
Почему ему показалось, что она имеет в виду именно его?
– Вот уж я все вижу, – проворчал он. – Просто ты живешь в Праге. Там другая культура. Другие особенности архитектуры. А я живу здесь, и я постоянно натыкаюсь на эти купола. Понимаешь, тебе это кажется прекрасным. А мне нет.
Она ничего не ответила, только пожала плечами и сказала, уже когда они поднимались вверх по улице:
– Каждому свое. Просто каждому свое. Я не хотела тебя обидеть... Просто вспомнилось стихотворение вашей русской поэтессы.
Сердце ненужное, темное, злое,
Знавшее боль от стыда.
Даже свеча пред святым аналоем
Гасла всегда![11]
И ему снова показалось, что это про него, почему-то вспомнилась старушка с мальчиком, потом – священник с его словами о таланте и приближении к Богу – он же только отдалялся, он вообще не хотел в это верить, что же – он лишен дарования?
– Нет, – прошептал он замерзшими губами. – Нет... Это – не про меня.
Глава 6
СЛУЧАЙНОСТЬ ВСТРЕЧИ
Это Ты восстанавливаешь Царство Божие на земле.
Это Ты распространяешь мир среди людей.
Это Ты делаешь так, что земля уподобляется небу.
Это Ты соединяешь людей с ангелами.
Это Ты возносишь наше пение к Богу.
Это Ты во всем победительница.
Это Ты пребываешь выше всего.
Это Ты поистине управляешь вселенной.
Это Ты мудро руководишь миром.
Это Ты несешь и хранишь все.
Св. Нектарий Эгинский.
Песнь Божественной Любви
Он не хотел смотреть на нее, Лику.
Так, как он был должен смотреть. Так, как смотрел раньше. Сейчас же – он смотрел в себя, и поделать с этим она ничего не могла.
Он не хотел ее замечать, он смотрел в себя, и – его глаза оставались тусклыми и безжизненными, как будто он был не Архангелом, а ангелом смерти.
«Я бездарна. Я не в состоянии передать то самое внутреннее сияние. Почему я чувствую другие иконы, а эту – не могу? Ну почему так?» – не выдержала она.
В бессилии бросила тонкую кисть и прикрыла глаза – она снова увидела, каким должен быть его взгляд, так ясно и четко, как если бы он на самом деле смотрел на нее, но...
– Видеть мало. Я не могу, не могу это передать!
Марина подошла сзади, посмотрела через плечо.
– Все хорошо, – проговорила она. – Не надо предъявлять к себе завышенные требования. Пока. Ты учишься. Ты видишь – это уже хорошо. А психовать из-за того, что что-то пока не выходит, – глупо. Лучше пойдем покурим.
Людмила не обернулась даже, только спину выпрямила недовольно. Людмила во время работы молилась. И не любила все эти их «покуримки».
– Он не смотрит, – вздохнула Лика. – Он... не хочет смотреть. Вот взгляни на него – он как будто закрылся от нас, он... не хочет нас видеть.
– Лик, ты все-таки ребенок. Ну, он и не должен смотреть на нас. А... Вот тут если подбавить тени? Не пробовала? Вот посмотри сама – поближе к зрачку, здесь вот...
Но совет не помог – напротив, теперь Ликин архангел казался ослепшим на один глаз, да – его это не волновало. Он и не хотел их видеть. Ей даже показалось, что он этому рад.
– Да, – вздохнула Марина. – Хотела помочь, вышла фигня...
– Придумаю чего-нибудь, – махнула Лика рукой. – Пошли.
Они вышли во двор – было тепло, как будто и не было зимы, а стояла на улице поздняя осень, обсудили с Мариной такую вот «сиротскую» зиму без снега и мороза, потом Марина спросила:
– А ты не знаешь, почему сегодня нет Димки?
– Нет, – покачала головой Лика. После той встречи между ними холодок пробежал. Нет, они по-прежнему болтали, только вот – той теплоты в отношениях уже не было. Вместо этого тихо прокралось взаимное недоверие, и с каждым днем оно все крепло и крепло.
– Странно, – пробормотала Марина. – Он обещал сегодня быть на работе. Мы же с ним договаривались... Мне надо кое-что ему передать. В конце концов, я ж не бесплатно работать должна...
– Ты в этой фирме подрабатываешь? – спросила Лика.
– А, он и тебе предлагал?
– Да, – кивнула Лика.
– И? Ты отказалась? Вот глупая... Там хорошо платят. И – в конце концов, лучше уж мы будем это делать, чем бездарные мазилки!
– Не знаю. – Лика покраснела почему-то от пытливого взгляда Марины и самой себе показалась такой глупой, нескладной, нелепой, но объяснять Марине, почему она так поступила, было еще большей нелепостью.
– Ладно, не обязательно же туда совсем уходить. Могла бы, как я, в качестве подработки... Я же понимаю, что тут – надежнее.
Она затушила сигарету.
– Знаешь, вот совсем сегодня работать не хочется. Просто ужас, как над собой приходится измываться, – пожаловалась она. – И Димки нет. А я так рассчитывала, мне деньги нужны...
– Может быть, он еще придет.
– Ага, время близится к четырем, он вряд ли придет. Пошли. А то Людмила нас замучает претензиями и нотациями...
Они поднялись по ступенькам, открыли дверь – в музее было тихо, только где-то в зале западноевропейского искусства тихо говорила экскурсовод.
– Детей привели, – пояснила Марина. – Школьники... – И невесело усмехнулась. – Кажется, теперь искусство вообще нужно только пенсионерам и школьникам. Ну, и психам, вроде нас с тобой...
Потом завибрировал ее мобильник.
– Подожди, – попросила она, и Лика остановилась прямо возле пейзажа с руинами монастыря. Посмотрела – и вздрогнула.
Она вдруг увидела там, на этой картине, к которой привыкла, – три фигурки. Как она не замечала их раньше?..
Она подошла ближе, прищурилась, пытаясь разглядеть их лучше, – но они точно расплывались, прятались в тумане, одна фигурка принадлежала женщине, она была в этом уверена, и эта женщина – обернулась, точно пыталась рассмотреть Лику так же, как Лика хотела различить ее черты, а две другие фигуры, казалось, никакого интереса к Лике не проявляли, они просто уходили, растворялись, а Лике почему-то хотелось, чтобы они тоже – обернулись.
– Я попробую, только... Ну, понимаешь, Димка не пришел, я должна ему передать, иначе – мы не сможем, деньги нужны...
Голос Марины долетал издалека, гораздо яснее Лика слышала почему-то тихий перезвон колоколов, и голос тихий, почти неразличимый в ветре, напевал:
– Хэре, оде тон Серафим, хара тон Архангелон... Эксалоптера Урану, фотос кафаротера...
– Ладно, солнце, я что-нибудь придумаю. Я попытаюсь...
Когда Марина подошла к Лике совсем близко, Лика невольно вздрогнула – своим прикосновением Марина вырвала ее из другого мира, остались только воспоминания, хрупкие, как голос там вдали – «хара тон Архангелон»...
– Лик, можно я тебе оставлю для Димки сверточек? Понимаешь, мне надо сейчас уйти... Очень нужно. А ты ему передашь. Скажешь, что я завтра зайду к нему домой. Я бы сегодня зашла, но я и так не успеваю.
Из того, другого мира все еще доносилось – «Хэре, Нимфи Анимфевте», и Лике совсем не хотелось возвращаться, а то, что говорила сейчас Марина, было совсем ей непонятно – странно, но сейчас она куда лучше понимала этот странный, красивый язык, куда лучше, чем тот, на котором разговаривала с ней Марина.
Она согласно кивнула, только чтобы ее оставили в покое сейчас, не мешали ей впитывать в себя эти странные, сладостные фразы, и Марина обрадовалась – вот и славненько, ах, спасибо, фотос кафаротера, а то даже не знаю, смогу ли я прийти завтра.
– Хэре, оде тон Серафим, хара тон Архангелон...
Они спустились в мастерскую, хотя – Лика осталась бы там, но она же обещала.
Когда открыли дверь, Лика замерла.
Прямо над ее архангелом склонился незнакомый человек. Длинная темная прядь упала на лоб, губы слегка шевелились, и – этот человек, взяв в руки Ликину кисть, что-то рисовал.
Она хотела возмутиться, обидеться, крикнуть, но – раньше ее крикнула радостно Марина:
– Сашка! Слушай, уже и не надеялась тебя увидеть!
Он обернулся, заметил Ликин удивленный взгляд, покраснел.
– Мне кажется, так будет лучше, – проговорил он, как будто просил прощения.
Лика его узнала. И теперь сама покраснела, засмущалась, чтобы скрыть это от посторонних глаз, что-то проворчала, прошла к своему месту.
И застыла.
Глаза ее Архангела Михаила теперь были – живые. Они смотрели прямо на Лику, в них было столько света, тепла и встревоженности, что Лика не смогла удержаться – ахнула, обернулась восхищенно.
– Как вам удалось? – проговорила она.
– Не знаю, – улыбнулся он. – Я с ним разговаривал. Я всегда разговариваю. Они... любят, когда мы с ними говорим. И отвечают. – Он как-то светло и в то же время немножечко лукаво улыбнулся и сказал: – Меня зовут Саша. Саша Канатопов.
Ей хотелось спросить: «Тот самый?» – но она промолчала.
Она протянула ему руку, пробормотала:
– Гликерия. Лика.
Посмотрела нечаянно на своего Архангела – ей показалось, что он грустно улыбается и смотрит на нее так, точно теперь случилось то, чего он хотел, и он может и улыбаться, и смотреть, и ждать...
Он сам не мог понять, почему, придя сюда, он потянулся к этой иконе.
Потянулся сам? О нет... Его потянуло – со страшной силой он ощутил одиночество Ангела, и больше всего на свете захотелось это одиночество – разрушить, вернуть глазам свет. И – это жуткое черное пятно, делающее его слепым, как у прадеда – пленка катаракты. От него надо было избавить ангела в первую очередь – что он и сделал. А уже потом... Потом он начал «лечить». Потихонечку, ласково, разговаривая с ним про себя, как говорят с больными детьми.
В комнате была только Людмила – он поговорил с ней немного. А Димы не было. Как назло, когда он решился на эту встречу, на серьезный разговор – его не было. Может быть, такова воля Бога, а может быть – того, другого, но – Саша не мог ничего в данный момент изменить, кроме глаз Архангела, а – когда он не мог ничего изменить, он смирялся.
А этот Архангел с опустевшим взглядом почему-то показался Саше одиноким в мире людей, как сам Саша был одинок в этом мире, и таким же непонятным и замерзающим.
Рука сама потянулась к кисти. Прикоснуться. Придать этому замерзшему взгляду теплоты...
– Тебе самому надо этим заниматься, – проговорила Людмила, глядя из-за его плеча на работу. – А то эти девчонки ничего не могут... В них духа нет.
– В каждом человеке он есть, – усмехнулся Саша. – А в нас с тобой его, быть может, меньше, чем в них.
А потом появилась она.
Он не ожидал этой встречи. Сначала он вообще подумал, что таких совпадений не бывает. Не может быть.
Это было чудо.
Он замер, стараясь не выдать затаенной своей радости и удивления, постарался смотреть на нее спокойно. Голова наполнилась туманом и даже немного, кажется, кружилась – но он ничего не замечал, только ее глаза, которые были похожи на глаза Архангела, и сама она сейчас казалась ангелом, случайно залетевшим сюда. Почему-то он вспомнил, как тогда, когда они увиделись в первый раз, случайно, ушла куда-то его беда, дав ему отдых, и второй раз они встретились, и вот теперь – снова... Каждый раз беда прячется, а вместо нее приходит тихая радость и негромкая надежда. «Третий раз – это ведь уже не случайность?»
Она, кажется, не сразу его узнала – и ему стало обидно, что она не запомнила его. Он – запомнил, он думал о ней, а она... Впрочем, глупо ведь, укорил он себя. Разве он вправе требовать от другого человека, чтобы тот был таким же романтично настроенным идиотом? Мало ли ей за день встречается людей!
Таких же, как он. И кто ему вообще сказал, что ей не о ком думать, кроме случайно встреченного пару раз Саши Канатопова, который просто мелькнул в череде других лиц – и растаял?
– Сашка! – обрадовалась Марина, увидев его. – Я за тебя волновалась... Где ты был, тебе Димка звонил, я звонила, приходили к тебе... Опять по лесам шлялся? Отшельничек ты наш...
Девушка с лицом ангела слегка нахмурилась, подошла к своему столику, посмотрела – и он понял, что она потрясена, просто не хочет показать виду. Она стояла, глядя на образ, и смотрела так, как будто видит чудо. А он продолжал вести себя глупо, по-детски – разговаривал с Мариной, делая вид, что совершенно не замечает этой девушки, не видит ее, как будто – ее вообще нет.
Но даже когда он не смотрел на нее совсем – он продолжал ее видеть там, внутри себя, и даже осмеливался там улыбаться ей.
Повторял ее имя – такое странное и такое милое – Гликерия... Оно ей удивительно подходило. Она и не могла бы носить другое имя.
И от того, что мысли продолжали кружиться вокруг нее, было сладко и – страшно немного, как будто что-то очень важное в этот миг совершалось, а он, Саша, мог это пропустить мимо, погубить – и кто-то напоминал ему, что это третья встреча, больше может не быть, может не быть, Господь может не дать им еще шанса.
В твоих словах, в твоих вопросах
К живому сердцу мы идем...[12]
Это не он, это там, внутри него – кто-то смотрел с нежностью на то, как она задумчиво накручивает на палец выбившуюся прядь золотистых волос, и – немного наклоняется, пытаясь понять, как у него получилось добиться такого живого взгляда, смотрит с прищуром, а ему хочется, чтобы она обернулась и вот так, внимательно посмотрела на него – и она оборачивается... Она смотрит удивленно, и ее губы что-то шепчут едва слышно.
Все, что говорит Марина, доносится издалека, гораздо яснее ему слышится то, что шепчут ее губы: «Как странно, как все странно», и ему начинает казаться, что это – он сам думает, как все странно и как – хорошо. Странное состояние. Ощущение того, что ты на границе двух совершенно разных миров.
– Сашка, я сама Димку найти сегодня не могу, и он тебя, кстати, все спрашивал, а сейчас – мне надо бежать, я вон Лике даже оставила для него сверток... Тебе как, можно теперь звонить? Ты не уедешь?
– Нет. – Он вернулся. Он даже позволил Марине чмокнуть себя в щеку.
– Ну и славно, я тебе вечерком позвоню...
А девушка с чудесным именем все стояла, прижимая к груди какой-то сверток, и – смотрела на икону.
А потом она побледнела. Она пошатнулась, еще сильнее прижимая к себе сверток, и наверняка бы упала, не подхвати он ее.
Ему показалось, что она без сознания – губы ее шевелились, и он пытался понять, что она говорит, потом – очень осторожно вынул из ее рук сверток, достаточно тяжелый, положил – она встрепенулась, распахнула глаза, и он подумал – кажется, очнулась...
– Спасибо, – прошептала она. – Вам не везет. Вы... наверное, теперь будете думать, что я немного... не в себе. И что я нездорова.
Он рассмеялся:
– Вовсе нет. Вот что вам явно надо побольше гулять и бывать на свежем воздухе – это да.
– Да она же не слушается, – вступила в разговор Людмила.
Она смотрела на Лику как-то напряженно, с оттенком удивления и странного неодобрения.
Странно смотрела – точно не она. Он знал Людмилу давно – так давно, что все ее тайные движения души, казалось, мог угадывать, и – никогда еще не видел вот такой тяжести, холода, враждебности в глазах – ни к кому.
И в комнате стало словно темнее, сумрачнее, он невольно, неосознанно встал между ними, закрыл Лику от этого взгляда, как будто – взгляд мог убить...
И Людмила точно очнулась. Вернулась к себе прежней – улыбнулась, пробормотала:
– Нам всем надо бывать на свежем воздухе. Как можно чаще.
Девочка. Маленькая девочка, она идет по деревенской улице – вдруг останавливается, задирает высоко голову, смотрит в небо – и неожиданно улыбается, так широко, так радостно, что Лика хочет улыбнуться в ответ. Но – она не может. Что-то не так.
Нет, это самая обычная улица. Самая обычная. Где-то мычит корова. Лает собака. По дорожке с важной и торжественной неспешностью шествуют гуси. Девочка очень славная – у нее живые, любопытные глаза и милое лицо. Ей не больше семи лет.
Она идет дальше, вдруг останавливается, присаживается на корточки – наклоняется и – звонко смеется. Она увидела маленького лягушонка. Наблюдает за ним с интересом, но – наверное, он испугался, она встает, смотрит в сторону небольшого, заросшего пруда...
И – идет дальше. Чем она ближе подходит к дому – тем Лике тяжелее дышать. Теперь она видит – за девочкой движется тень. И эта тень растет, чем ближе девочка к дому – тем больше тень, теперь Лике начинает казаться, что она – вокруг, эта чертова тень, и дышать так тяжело, как будто в легких – дым, она хочет вырваться, а тень словно заполняет все окружающее Лику пространство – она повсюду, она везде, еще одно мгновение – и она будет в самой Лике.
А еще она слышала шепот, тихий, вкрадчивый, едва слышный, но проникающий в сознание: «Он в тебе, в тебе, в тебе – бес, в тебе тень, в тебе...»
В какой-то момент это прекратилось. Внезапно – так же, как и появилось. Дыхание стало снова свободным. Она даже не успела понять – что это было.
Когда она положила Маринин сверток на стол? Или – когда он загородил ее?
И шепот она слышала – отголоском, все еще держала его краешком сознания. «Он в тебе».
Она подняла глаза. Людмила смотрела на нее с сочувствием, и ей отчего-то это сочувствие было неприятным.
Она схватилась за Сашину руку – он не убрал ее, даже сжал осторожно ее пальчики.
– Пожалуйста, – попросила она тихо. – Давайте выйдем. На... воздух...
Когда шли по коридору, где висели его картины, он нахмурился. Ему почему-то всегда было неуютно и стыдно, что его работы удостоены такой чести. Он никогда не считал себя талантливым. Более того – ему казалось всегда, что его кисть вялая и безжизненная, и – если выбирают именно его, то это исключительно из-за прадеда, человека известного в среде музейщиков. И от этого было еще гаже, хотя Саше хотелось втайне, чтобы его работы увидели, – но он и признаваться в этом себе стыдился.
Поэтому он сейчас старался не смотреть по сторонам – рядом с Ликой (нет, с ГЛИКЕРИЕЙ) чувство стыда было непереносимым, и в то же время – ему так хотелось узнать, как она к его творчеству относится. Особенно – к монастырским руинам.
Они как раз поравнялись с этой картиной, и – Лика вдруг резко отвернулась, зажмурилась...
– Вам... не нравится? – спросил он, чувствуя, как обрывается что-то внутри.
Она замотала головой:
– Нет, это моя любимая картина, правда-правда, только... Сегодня я все как-то воспринимаю странно. Сегодня что-то со мной не так.
Она хотела что-то еще сказать, но – не стала, просто посмотрела туда, где закатное солнце освещало разрушенные стены, и тихонечко, с облегчением, вздохнула.
– Ну, вот, кажется, это все кончилось, – прошептала она. – Знаете, у меня просто... совершенно разнузданное воображение, как говорит моя мама. Я что-нибудь придумываю, и так убедительно, что начинаю сама себе верить.
Он хотел ее спросить, что же она себе напридумывала, – ему было интересно по-настоящему, но – он побоялся. А вдруг то, что она придумывала, совпадет с тем, что он видел тогда, в тот черный для него день, в самый первый черный день, в череде других, ведущих его к Беде?
Он сам не мог понять, почему эта мысль появилась сейчас, и уж совершенно было непонятно, почему ему хочется, чтобы она видела именно это, как будто – общее видение сближало их, делало ближе, чем брата и сестру...
– Где это? – спросила она.
– Этот монастырь – далеко отсюда, – сказал он. – Очень далеко. Он расположен в лесу, и добраться до него трудно. Чтобы найти его, нам пришлось в свое время так плутать, хотя человек, который первый раз привез меня туда, прекрасно знал дорогу. Знаете, такое ощущение, что он – монастырь – это нарочно делает.
– Что? – спросила она.
– Прячется, – пояснил он. – Он прячется от людей. Пусть найдут только те, кому нужно найти. Очень нужно...
И – сам испугался откровенности своей: «Зачем, почему я так говорю с ней, как будто очень хорошо ее знаю и уверен, что не будет насмешки, не будет – удара?»
– Красота в самом деле начала прятаться от людей, – кивнула Лика. – Осталось так ее мало, и то, что остается, многим не кажется прекрасным – у них уже совсем другое представление о том, что можно назвать «красотой», и теперь ничего не исправить, наверное.
Немного помолчав, она добавила, что очень любит эту картину, и ему было от этого приятно, первый раз – обычно он только смущался, когда его хвалили. Но – не сейчас, сейчас – ему очень хотелось вдруг оказаться с ней вдвоем – там, и чтобы вокруг был зеленый лес, и цветы, и... Да, чтобы был дядя Миша. Рядом с ними.