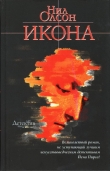Текст книги "Агни Парфене"
Автор книги: Светлана Полякова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Светлана Полякова
Агни Парфене
OCR & SpellCheck: Larisa_F
Полякова С. П54 Агни Парфене: мистический роман. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 270 с. – (Insomnia. Бессонница).
ISBN 978-5-9524-3179-9
Аннотация
Саша Канатопов не может забыть слова умирающего деда, который просил найти того, кто поможет вернуть старинную икону Богородицы – семейную реликвию – туда, откуда она была взята. Икона беспокоит Сашу: бледное лицо, выплывающее из темноты, похоже скорее на смерть, чем на святой лик. Кажется, только робкая девушка Лика, названная в честь святой Гликерии, способна помочь Саше. Успеют ли они? Тень зла следует за ними по пятам...
Светлана Полякова
Агни Парфене
Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь.
Исаия, 21: 11—12
Потому мы удобоуловимы и удобоодолимы, что вооружаемся друг на друга, имея у себя вождем общего врага... Это происходит оттого, что и богатство, и славу, и все житейское, увядающее, подобно траве, почитаем мы за великое.
Преподобный Исидор Пелусиот (V век)
Почитание икон в Церкви – как зажженный светильник, свет которого никогда не угаснет. Он зажжен не человеческой рукой, и с тех пор свет его не истощался никогда. Он горел и горит и не перестанет гореть, но пламя его не неподвижно, оно горит то ровным светом, то почти невидимо, то разгорается и превращается в нестерпимый свет. И даже когда все, что враждебно иконе, ищет угасить этот свет, одев его покровом тьмы, не иссякает и не может иссякнуть. И когда от потери благочестия иссякают силы в создании икон и они как бы теряют славу своего горнего достоинства, и тут не иссякает свет и продолжает жить и готов опять явиться во всей силе и наполнить торжеством Фаворского Преображения. Думается, что и мы сейчас находимся в преддверии этого света, и хотя еще ночь, но приближается утро.
Инок Григорий Круг
– Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал? – спросил вдруг Николай Всеволодович.
– Я, то есть собственно, помолиться спервоначалу зашел-с, – степенно и учтиво, как будто ничего и не произошло, отвечал бродяга; даже не то что степенно, а почти с достоинством. Давешней «дружеской» фамильярности не было и в помине. Видно было человека делового и серьезного, правда напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды.
Ф.М. Достоевский. Бесы
Мальчишка этот Канатопову покоя не давал.
Глаза. Видно же, как он боится. Губы шевелятся в почти беззвучной молитве. Только – обрывками: «На аспида и василиска наступиши». Это они с Коллекционером Аспид и Василиск. Канатопов едва заметно усмехнулся – и кто есть кто? Только – хоть и глаза у мальчишки перепуганные, шальные, видно – ему, несмотря даже на свою веру в то, что он с Христом возлюбленным наконец увидится, страшно, так страшно умирать, что страх в глазах не помещается, выплескивается... Несмотря на вот этот страх – Канатопов мог поклясться, ни за что он живым эту доску не отдаст. Так и будет прижимать к груди, и – жизнь отдаст. За доску крашеную. Она ему дороже всего на свете. Даже – жизни.
А глаза-то какие – огромные, синие, и ресницы – на щеках лежат, когда мальчишка глаза прикрывает. Да и лицом бел, черты – правильные, глаз от такой красоты не оторвать.
Канатопов даже испытал какие-то нехорошие ощущения – жалко ему стало, что юный монашек не женщина. Красив, как девка.
И чтобы побороть «движения телесные», он особенно хмуро на паренька смотрел или вообще глаза отводил – да только притягивали его глаза эти лучистые и стройная фигурка...
А губы мальчика все шептали – не останавливаясь, неслышно, теперь на языке непонятном, тягучем, красивом: «Агни Парфене», – и про деспотов что-то, это Канатопов понял, а при чем тут деспоты? Или – намекает на них двоих, что они-де тираны, они – деспоты?
Канатопов усмехнулся – пускай говорит, пока говорится. Скоро – будет немым как рыба. И Бог не спасет...
И старый монах уловил этот страх, повернулся, посмотрел на мальчишку с жалостью, проговорил – тихо, но слова так четко произнес, что Канатопов услышал:
– Не бойся, вспомни слова апостола: «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный».
– Не за себя я, – покраснел мальчик. – Я за...
Ресницы взмахнули, он – взглядом выдал, за что боится. За доску, которую к груди прижимает.
Канатопов не выдержал, коротко и зло рассмеялся. Что за люди – им о себе надобно беспокоиться... Или – так глупы, что не понимают?
– Некоторым не смерти надо бояться... вечности, – уловив его усмешку, проговорил старик и посмотрел не на него – мимо, туда, где серое небо соединялось с землей, покрытой снегом.
От этих слов, адресованных ему, Канатопову стало отчего-то неспокойно. И старик – уловил это движение, едва заметно усмехнулся, грустно, с жалостью посмотрел на Канатопова.
– Обманутый он, Господи, – прошептали губы. – Ты его прости. Они обмануты. Сердце не из камня. Просто – обманули.
«Черт дернул сюда ехать», – подумал Канатопов, отводя глаза от этого лика, точно из камня высеченного. Уходя от этих слов, проникающих почему-то в самое сердце. «Обманули». Кто обманул? И – ярость поднялась в душе, как огонь запылала, пытаясь попалить в нем отзвук живящих слов.
– Это вы народ обманываете сказками своими, – пробормотал он, удивляясь, что слова не уходят, напротив – укрепляются, и огонь ничего поделать не может. Обманули.
Перед глазами возникла картина – огонь, который в нем, вырывается наружу, и – вот горит величественный, сумрачный храм. Стены рушатся. И он, Канатопов, смеется и плачет, и сам не может понять, почему в его сердце такие разные чувства? С одной стороны – точно он освобождается, как Прометей, а с другой – закрывает сам двери, а двери – железные, отворить будет трудно. И – зависит все сейчас именно от него.
Нельзя. Он не должен.
Он же помнит: «В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Кто это сказал – он не помнит. Однажды он прочитал эти слова, и – они ударили его в самое сердце. Он был беден. Отец и мать ходили постоянно в церковь, отдавали последнее нищим и попам. А ему говорили – так Бог велел. Но почему тогда этот Бог не велел им стать богатыми, как хозяева огромного дома на Немецкой? Да те и в Бога ни в какого не верили.
И – когда он прочитал, то – понял. Все это – из-за Него. Это Он уготовил ему жалкую участь. И обида снова вспыхнула в груди, жестокая, сжигающая все вокруг – и этот монастырь тоже.
Прямо перед их праздником. Завтра – Христос рождается, славьте... Вот они и прославят.
Он усмехнулся. «Будет Тебе, Господи, такая слава – до небес подымется».
Экспедиция их в этот отдаленный монастырь, подлежащий закрытию, была вообще особенно трудная. Зачем-то позволили этому столичному хлыщу присутствовать при «списании и уничтожении». Вот и задержались, потому как – просто доски эти, как всегда, порубить да на дрова пустить – из-за хлыща не получалось. Он долго, с прищуром, рассматривал иконы, вертел в руках, и – почти все отдельно складывал. Ничего против не скажешь, поскольку – друг-приятель Главного. Все, что скажет, велено выполнять неукоснительно. Раз говорит – наследие, искусство, – пускай собирает. Непонятно откуда мысль пришла: еще хуже. Были они объектом поклонения, станут объектом поглазения. Будут зеваки ходить, разглядывать. Унижение.
Да и не в этом дело! Стране деньги нужны. Золото нужно. Голод победить, неграмотность, так Вождь сказал. Ну, и если эти доски крашеные могут помочь – пускай помогут хоть так. Хотя – Канатопов снова усмехнулся – разве что оклады помогут... Вон какие богатые.
Коллекционер эти оклады «ризами» называет. Сначала грустил, но – потом вынужден был согласиться. Доски-то некоторые себе забирал, оценивал... Что-то шептал себе под нос, и вид его выражал довольство безграничное. А иные, те, что новые, отбрасывал в сторону. А зря – они Канатопову казались более достойными внимания, такую продать легче и подороже можно – краски вон какие яркие.
Не то что у этих, выцветших, темных, одни оклады и есть только, или, как там говорят, – эти «ризы».
Он одну даже узнал – у матери такая висела, в красном углу, только у матери-то была новенькая, блестящая, улыбчивая, а эта – смотрит на него мрачно, исподлобья и с жалостью непонятной. Так на него мать смотрела, когда он шалил. И все к иконе этой обращалась – с просьбой вразумить, вырастить, сохранить! Только – и ее не сохранили. Умерла от чахотки.
Отец ее пережил всего на год. Все это время был не в себе, как говаривал потом дядюшка. Так и ушел вслед за матерью, молчаливый, задумчивый, а сына оставил на попечение дядюшки. Жизнь его изменилась. Не то чтобы стала веселее, но – дядюшка был человеком неверующим, веселым, увлеченным политикой.
«Да почему я вспоминаю все это? – очнулся Канатопов. – Что со мной происходит? Уже все быльем поросло. Мальчишки того нет. И не вернется он никогда».
И – снова не выдержал – посмотрел на юного монашка, на мальчишку, которого тоже – скоро не будет.
В монастырь они рано утром приехали – еще затемно. Пока ехали лесом, случилось страшное событие – хоть и зима стояла, а откуда ни возьмись медведь-шатун взялся. То, что волки выли – этого Канатопов ожидал, про здешних волков наслышан был еще в детстве – родился-то он неподалеку... Медведь же вроде спать должен был, да вот – вышла огромная зверюга, злая, опасная, голодная... Спутник его аж побелел – что с него, франта столичного, взять, но – Канатопов не растерялся, достал ружьецо, прицелился... Стрелять-то он мастер всегда был. Рухнул этот медведь, тогда франтишка слез, решил поближе чудовище рассмотреть.
Пришлось и Канатопову – а зря... Какая-то странность с ним случилась – сердце вздрогнуло от жалости – в медвежьих глазах боль застыла, как у человека, и – как будто этот медведь в небо смотрел, виновато так, словно дело важное не выполнил. «Не остановил, – подумалось Канатопову, и он сам мысли этой удивился, – не остановил их мишка...»
– А ведь придумали же – монастырь в таком месте построить, – выдохнул его спутник. – Страшно тут. И место – для человека не подходящее...
Точно в ответ где-то далеко, там, где было село, – залаяли собаки, точно – зарыдали навзрыд, а потом перешел лай в вой. Жутко, по коже мурашки... Канатопов едва удержался, чтобы не показать виду, усмехнулся, сплюнул, но – от хитро прищуренных глаз коллекционера страх скрыть не удалось.
– Вот и вы, бесстрашный красный командир, боитесь, – заметил он. – Впрочем – не ведомого, не видного простыми взглядами, а – лишь смутно ощущаемого в самом деле стоит опасаться. Или вы – ни во что не верите?
– Нет, не верю...
– Зря. Знаете историю Линкольна? «Я находился в Белом доме, – рассказывал Линкольн. – Вокруг стояла мертвая тишина. Слышались только чьи-то сдавленные всхлипывания. Я встал с постели и спустился вниз. Тихие рыдания не смолкли, но нигде не было видно ни души. Пока я переходил из одного пустынного зала в другой, печальные звуки сопровождали меня. Помещения были залиты ярким светом. Каждый предмет в них был мне знаком. Но куда подевались люди, которых, судя по всему, постигло какое-то страшное горе? Я был изумлен и встревожен. Что все это могло означать? Преисполнившись решимости узнать, в чем дело, я миновал залы и добрался наконец до Восточной комнаты. Здесь меня ожидал неприятный сюрприз. Прямо передо мной на катафалке возлежал труп, облаченный в погребальные одежды, а вокруг выстроились солдаты военного караула. Тут же стояли гражданские: одни просто глядели на тело (лицо мертвеца было закрыто), другие плакали.
– В Белом доме кто-то умер? – спросил я у одного из солдат.
– Погиб президент, – ответил тот. – Он пал от пули убийцы.
Толпа вновь разразилась рыданиями, и от этого я проснулся. В ту ночь я больше заснуть не смог. С тех пор это видение преследует меня постоянно». Вот такая история. И в самом деле – сон оказался в руку. Так что – я не стал бы относиться к знакам судьбы так легкомысленно.
– Если хотите вернуться, то возвращайтесь, у меня дела, – проворчал Канатопов.
– Да ни в коем случае, – рассмеялся спутник, показывая ряд ровных, великолепных зубов. – Просто я думаю, нам следует быть осторожнее с тем, что мы понять не можем. Знаете, как у баснописца:
Пождем, —
Юпитер рек, – а если не смирятся,
И в буйстве прекоснят, бессмертных не боясь,
Они от дел своих казнятся[1] .
Он улыбнулся. Улыбка страннейшим образом портила его лицо – глаза суживались и становились холодными и пустыми. И смеялся он странно, по-бабьи как-то, мелко, высоким голосом.
– Что ж вы сами тогда не задумываетесь, – проворчал Канатопов. – Или – с вас другой спрос?
– Тут вы совершенно правы. С нас спрос другой. Мы знаем, против кого идем и зачем. А вот вы... не знаете. Впрочем, вам и не следует знать...
Тьма камней, туча стрел от войск богомятежных,
Но с тысячью смертей, и злых, и неизбежных,
На собственные их обрушились главы[2] .
Хотел ему тогда возразить Канатопов, что он реакционных поэтов не читает, потому как безбожник, но удержался. Только плечами пожал – не вступать же сейчас в споры.
Да и в самом деле, пришло в голову монастырь выстроить – лес, а потом – болота, и снова чаща, и только в самой глубине – куда нога человеческая ране не ступала, построили монастырь. Ходили легенды, что до того, как построили его, – было тут смутно и страшно, житья от лихих людей не было, и – вроде как даже нечисть стала появляться, а вот – как построили, так все и успокоилось потихонечку. И – самое странное было то, что раньше-то тут в основном не было людей богатых, почва была плохая, урожая не было. После – как подменили, земля стала плодородная, источники появились, и – тогда кто-то сказал, что за выстроенный монастырь явил им Господь милость свою, так и стали все его, монастырь этот, Милостивым называть.
В этом самом Милостивом монастыре монахов было немного, а теперь, говорят, совсем почти не осталось – часть под расход пустили, в самые первые годы советской власти, а та часть, что уцелела чудом, – с голоду помирали. И никакой Бог их не спасал. Начались тут и голод, и разруха. Те сельчане, которые сюда хаживали подкормить монахов, сами с голоду теперь умирали и уезжали отсюда.
Место стало совсем пустынным.
Так что – не рассчитывал Канатопов встретить тут живых. Ан нет, остались двое. И ведь – один старик совсем, немощный с виду, да этот мальчишка.
Старик стоял гордо, руки морщинистые за четки уцепились, как за соломинку, он перебирал эти бусины, и губы его шевелились. А мальчишка – этот к груди икону прижал, и тоже тихо то ли разговаривал, то ли напевал.
Их во двор вывели, хотели связать – да старик проговорил, глядя на Канатопова своими выцветшими серыми глазами, странно так, вроде и не презирал он Канатопова, и не ненавидел – а Канатопову нехорошо стало, униженно:
– Мы не сбежим. Нам бежать от диких зверей тут некуда.
И улыбнулся одними губами, глаза оставались серьезными.
Почему ему показалось, что не волков и медведей старик имеет в виду и даже не хмурых красноармейцев, которые иконы собирали по приказанию этого франта из Москвы, а – их двоих? Его, Канатопова, и коллекционера?
Он ничего не сказал, только подумал – вот гнида, а говорить не стал. Чего с мертвецами разговаривать – пять минут этому монаху осталось или чуть больше, и – все, конец.
А коллекционеру и дела нет ни до чего, только иконы рассматривает внимательно, отбирает – и ведь все норовит те, которые совсем облезлые, черные, в сторонку отложить.
А те, что новые, красивые – отбрасывает в сторону презрительно: на растопку.
Обернулся к Канатопову, в глазах – радость, одними губами шепнул: «В ризнице еще посмотреть надо, там много ценного должно сохраниться...»
Старик на него обернулся, что-то в глазах вспыхнуло – страх? Или – удивление?
– От зверей никуда не скрыться, – тихо повторил. – От зверей...
А коллекционер не испугался, только еще шире улыбнулся и проговорил насмешливо:
– Ну, куда же мы от своего-то естества уйдем, все мы от обезьян-с произошли, так что – инстинкты в нас темные, что и говорить...
– Кто-то от Зверя произошел, – тихо ответил старик. – Сам дверь приоткрыл, да впустил его в себя. Но – люди Богом созданы. А вот некоторые в слабости своей Зверю-то уподобляются. Не зверям, что животных обижать... Зверю.
Коллекционер, казалось, внимания на эти слова не обратил.
Подошел к стене, провел руками по выбитой надписи. Губами зашевелил только.
Канатопов последовал за ним.
На стене крупными буквами было выбито:
рбсЬдпуз
– Это на каковском? – спросил Канатопов.
– Греческий, – сказал коллекционер. – Переводится как «предание».
Усмехнулся невесело. Посмотрел на стены монастыря – словно жалел, что стены не может в свое собрание унести...
– А ведь предание и есть, – пробормотал едва слышно.
– С досками-то что делать?
Он еще понимал, зачем нужно золото, ковчег был хорош – который принесли из ризницы, золотой, инкрустированный камнями, с тончайшей резьбой... Но – доски эти, на которые так восхищенно смотрел коллекционер? Что в них?
А тот и не ответил – уставился на ту икону, которую мальчишка в руках держал, прижимал к себе, боясь отпустить на секунду. Пристально так, с прищуром, и губы облизывал – почему-то Канатопову показалось сейчас, что этот благообразный, холеный, с правильным лицом господин похож на хорька. Точно у него лицо заострилось, и глаза от прищура стали маленькими, мутными, алчными.
– Подождите-ка, – проговорил он.
Подошел к мальчишке. Протянул руку.
– Дай посмотреть, – попросил, пытаясь спрятать нервные, раздраженные нотки. Даже дружелюбно у него это получилось.
Мальчишка хмуро, исподлобья посмотрел и только прижал эту доску крепче.
– Дай, тебе говорят, – вступил в «задушевную» беседу Канатопов.
А этот паршивец и на сей раз не отдал – отпрянул даже, побелел лицом.
И губами зашевелил еще быстрее, стараясь не на них смотреть – вверх, в небо, точно там, в этом сером небе, что-то видел. Даже улыбнулся.
Канатопов теперь подошел совсем близко, глаза сощурил – рука взметнулась, и – прошлась по лицу этому тонкому, красивому, – рука-то у него тяжелая...
А мальчишка продолжал шептать, только – громче, точно не обращал внимания ни на кровь, струящуюся из разбитых губ, ни на боль:
Заступнице усердная, надеждо ненадежных, —
Радуйся, Невесто Неневестная!
В бедах и скорбех помощь нам, покров и утешение. —
Радуйся, Невесто Неневестная!
И – тихо так, нараспев, и мелодия странная, тягучая, печальная... Канатопов понял – никогда ему этого не забыть будет, всю жизнь.
Когда коллекционер протянул снова руку за иконой, мальчишка вдруг встрепенулся, и, словно что-то для себя решив, побежал от них, неловко, по сугробам, прижимая эту икону к себе – Канатопов выстрелил, сам испугался этой отчаянной безнадежности попытки спасти что-то важное...
– Зачем? – крикнул коллекционер.
А Канатопов пожал плечами – он смотрел, как мальчик падает, но икону к своей груди прижимает, даже в смерти – надеясь спасти...
И – точно свечи зажгли, хотя – негде было и зажечь эти свечи, однако ж в морозном воздухе теперь пахло не пролитой кровью – свечами... И старик этот смотрел почему-то на них с коллекционером с жалостью и пел тихонечко:
Рождество Твое, Христе, Боже наш,
Воссия мирови свет разума,
В нем бо звездам служащий
Звездою учахуся.
Тебе кланятися, Солнцу правды,
И Тебе ведети с высоты востока,
Господи, слава Тебе.
Так и пел, пока – не оборвалась его песня навсегда...
И – когда они уезжали уже, пошел снег – крупными хлопьями, никак не мог Канатопов избавиться от запаха зажженных свечей. И подумал – что ему от этого запаха не избавиться теперь до самой смерти своей, да и после смерти – не избавиться...
Глава 1
СЕРЫЕ ОТТЕНКИ НЕБЕСНОГО
Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямой, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пяту.
Святитель Николай Сербский
Где б нашей встречи ни было начало, Ее конец – не здесь.
Черубина де Габриак
Ночью наконец выпал снег.
Не важно, что он таял под ногами, и идти по улице, самой старой в городе, где старинные дома с рыцарями и львами уродовали яркие, аляповатые витрины бутиков, было скользко и мокро, и сапоги, которые Лика надела сегодня «по случаю новой работы», на глазах приходили в негодность – они были замшевые и из светло-коричневых уже стали темными, почти черными от снега, влаги и луж.
Настроение у Лики было радостно-испуганным. Она была почти счастлива, что наконец устроилась туда, куда мечтала. Вернее, ее устроили. Подруга матери.
Она так боялась, что – не понравится там. Даже надела сегодня юбку. Чтобы казаться строгой и приличной. Даже мама рассмеялась: «Лика, ну ты же не в церковь...»
И вместо своих привычных двух кос Лика заплела сегодня одну.
Сейчас изо всех сил сдерживала улыбку, потому что ей казалось, что эта ее улыбка мешает «серьезному образу». Так и шла по улице, старательно удерживая на лице вновь обретенное выражение – словно опасалась, что, если на минутку позволит себе расслабиться и улыбнется – не получится вернуть эту «серьезность», как ни старайся...
Земля, слегка припорошенная снегом, выглядела жалкой, несчастной, сиротской. «Лучше бы его вообще не было, – тоскливо подумала Лика, даже на минуту ушло предвкушение грядущего Великого События, уступив на время место унынию – больше всего Лика не любила поздний ноябрь, грязный и серый, а этот-то самый поздний ноябрь растянулся на целую зиму, и – никакого от него не было спасения. Каждое утро она просыпалась и осторожно смотрела на небо, тщетно надеясь увидеть солнце. Или – снег. Ах, как же ей хотелось – и неба синего, морозного, ясного, и хрустящего снега, и деревьев, щедро украшенных снегом, и морозных узоров на оконном стекле.
Ничего этого не было – и по телевидению уже начали озабоченно говорить о катастрофе, о потеплении, еще о чем-то, а одна мамина подруга сказала, что это все от неправильного общения с космосом. При этом она смотрела строго и печально.
Лика с космосом говорить не умела, да и вообще не очень доверяла новомодным тенденциям в духовных поисках. Она чуть не ступила в огромную лужу перед тротуаром и невольно загрустила, потому что этот раз мог стать роковым для несчастного сапога.
До музея оставалось немного, всего один квартал, и Лика присела на лавочку, потому что волнение стало сильнее, дыхание участилось, в глазах вдруг появились слезы, душу заполнил отвратительный страх – что ее, Лику, не возьмут на эту вожделенную работу.
А ей хотелось этого больше всего на свете. Чтобы ее взяли в реставрационную мастерскую и она получила наконец возможность заниматься тем, к чему у нее лежала душа. Мамина подруга, благодаря которой все пока складывалось удачно, уверяла, что Ликины работы очень понравились, у нее было даже обнаружено дарование, но – если верить второй подруге, которая беседует с космосом, могло произойти все, что угодно, – вдруг сегодня космос пребывает в дурном расположении духа? Или – именно сегодня ему не нравится Лика и он с гадкой улыбкой порушит все Ликины «воздушные замки»? Ее не возьмут, и...
Она вздохнула.
И придется ей, Лике, расписывать для продажи всякие доски, и – что самое плохое – творить матрешек с ликами Богородицы, потому как жить на что-то надо. Матушка за свое преподавание в художественном училище получает немного, на это только при сильной изобретательности можно месяц протянуть. А Лика – сама не могла понять, что с ней происходит каждый раз, когда она святотатствует – появлялось у нее ощущение того, что она в этот момент больно делает кому-то или – нарушает гармонию, в Свет темноту впускает... А однажды ее попросили отреставрировать икону – старинную, пострадавшую изрядно от неизвестных вандалов. Глаза у Господа на иконе были выцарапаны, да и у окружающих его святых – лики были уничтожены. Хозяйке иконы она досталась в подарок от подружки, которая ее из деревни привезла – там ей икону и отдала старушка, так что – кто это варварское преступление сделал, было неведомо. Лика сначала боялась, ей казалось, что недостойна она, только – икона эта манила ее, она сначала сидела перед ней подолгу, точно говорила с ней тихонечко, ладонью поглаживала раненые места, и – так ей жаль было, точно и в самом деле больно было этой иконе, и эту боль она, Лика, ощущала... Она о своих ощущениях странных никому не говорила – засмеют, скажут, что Лика с доской разговаривает и что доски боли не ощущают. Она просто фантазирует – она всегда была склонна к фантазированию. Ей бы не в художники, в писатели податься. А еще лучше – сценарии писать для длинных сериалов...
Да и вообще – к чему она сейчас это вспоминает? С тех пор пять лет прошло. Лика с той поры еще несколько икон отреставрировала – по просьбе, не за деньги, не хотелось ей почему-то за свое «целительство» деньги брать. А ту икону – самую первую – она забыть не может... И не в том дело, что эта икона ее учила – благодаря ей и тем трудностям, которые Лика испытала тогда, она начала потихонечку обучаться и утраты левкаса восстанавливать, и доску склеивать незаметно, и даже в мастерскую реставрационную на курсы пошла – потому что ведь мало «дара Божия», знания нужны и опыт...
Она докурила сигарету. Еще несколько секунд сидела, прикрыв глаза. «Как странно, я ведь в этом музее все детство провела, а сейчас – боюсь открыть тяжелую дверь, боюсь, как будто – иду в совершенно незнакомое место, к незнакомым людям», – подумала она. В груди и в самом деле поселился и не желал уходить страх, и справиться с ним казалось невозможным...
– Хватит, – сказала себе Лика вполголоса. – Пора. Тебя ведь ждут.
Поднялась с лавки, еще раз посмотрела на желтоватый особняк, спрятавшийся в сплетениях оголенных ветвей, закинула на плечо сумку-торбочку и решительно направилась прямо к массивной, так сейчас устрашающей ее двери, за которой Лику ждала новая жизнь.
Она уже протянула руку, дотронулась до массивной ручки, чтобы открыть вход в «святилище», но дверь открылась сама – резко, так резко, что, если бы Лика не успела отскочить, вместо «святилища» вполне могла бы оказаться в больнице.
Парень, вылетевший из музея, словно и не заметил Лику, даже не извинился. Глаза у него были какие-то странные. «Ошпаренный», – подумала она.
Мимо Лики пролетел, как праща, и – вдруг неожиданно замер, остановился, опустил голову.
Она уже собралась открыть вожделенную эту дверь, но парень остановил ее неожиданным вопросом:
– Который час?
«Вечность», – хотелось ответить и язык показать. Но – обернувшись, она увидела его взгляд. Больной какой-то, точно у него что-то случилось страшное.
– Только не говорите: «Вечность», – попросил он.
И в самом деле – странный парень, отметила про себя Лика. Бледный такой, как будто сейчас в обморок упадет. И мысли отгадывает.
Он странно покачнулся, рука взметнулась, точно парень хотел удержаться с помощью воздуха, Лика невольно подалась к нему. С языка чуть не сорвался вопрос: «Что с вами, вам плохо?»
Но он уже стоял, как будто ничего и не было. Только глаза оставались напряженными, больными.
– Одиннадцать часов вечности, – сказала она. – Утро-с...
– Господи... Как мало времени, – прошептал парень. – Как же у меня мало времени осталось... – И, обернувшись к Лике, пробормотал: – Спасибо. И... простите, что я вас толкнул. Просто я очень спешу.
– Конечно, ничего страшного, раз у вас так мало времени, можно и толкнуть, – не удержалась она.
– Да, – сказал он, пропустив ее иронию мимо ушей. – Времени у меня почти не осталось...
И пошел по улице, уже медленно, как будто смирившись окончательно с этим отсутствием времени.
А Лика, пожав плечами, подумала, что тип все-таки ей повстречался странный. И – почему-то от этой неожиданной встречи у нее испортилось настроение, ей снова стало страшно, захотелось уйти, но она сказала себе: «Заканчивай-ка ты с этими глупостями, детка. Твоя нерешительность глупа и мешает тебе жить. Нельзя же обращать внимание на каждого встречного, право... Ты слишком чувствительна, так нельзя».
И все же она не могла избавиться от ощущения, что с этим парнем что-то произошло, и – еще произойдет, нечто плохое, страшное, от чего у Лики стискивает горло, хочется кричать, хочется остановить его, но... Это ведь будет глупо выглядеть.
И – сколько уже раз Лике говорили, что она всех достала своими фантазиями. Как же она будет смешно выглядеть, если сейчас побежит за этим парнем, схватит его за рукав, начнет ему говорить, что лучше ему идти сейчас совсем в другом направлении, потому что в том, в котором он сейчас движется, ей, глупой Лике, мерещится Тень. «Подумает, что я сумасшедшая, и отчасти будет прав», – хмыкнула она.
Поэтому Лика прикрыла глаза, сказала себе что – сейчас нет ничего важнее ее самой и ее будущей работы, сосредоточилась, собралась с силами и вошла в музей.
Глава 2
БЕДА
И изменить он ничего не сможет. Беда дышит ему в лицо. Она осязаема, она вокруг. Она иногда приобретает черты давно знакомых людей, и ты удивляешься – как же ты не видел раньше, что она смотрит на тебя из их глаз. И эти люди – они становятся странными, как будто это и не они совсем, а кто-то другой теперь в них.
Теперь в них – беда.
И ему ничего не остается, только принять это. Изменить ничего нельзя. Ты же не можешь забраться внутрь, в человеческую душу, и – починить ее. Ты не можешь навести порядок в чужой голове.
Тщетно. Бежать – некуда, выхода – нет. Если твоя беда подошла к тебе так близко, и человек, которому ты всегда доверял, стал ее союзником – что ты можешь сделать? Нет выхода. Нет. Бе-да...
Но ладно бы вот это ощущение безвыходности. Хуже всего страх. Страх, который пожирает силы, лишает возможности думать о чем-то другом. Страх, который почти парализовал его, лишил воли. И даже нет уже гнева, перегорело все, и жажда мести, которая раньше помогала дышать, потухла, осталось только одно, уже слабеющее желание: чтобы они не добились того, чего хотят. И это желание уже тоже ослабевает, просто потому что он начинает верить – они сильнее. Сопротивляться им бесполезно.
И это – самая большая, самая страшная часть Беды...
«...И дверь ко спасенью закрыта, закрыта дорога к Царю»[3], – вспомнилось ему. И – он поднял глаза, туда, в серое небо. Закрыта страстями. Да, его страсти были виной всему. И – он сам во всем виноват.
Если бы не его страсти, он сейчас был бы свободен от страха. Вот и все.
Зазвонили колокола на маленькой церкви – ему показалось, что это ответ, он хотел остановиться на минуту, но даже попытка была пресечена страхом, тут же отозвавшимся, и уже эти перезвоны показались ему зловещим предзнаменованием, предсказанием: «Они же по мне, по мне звонят!!!»