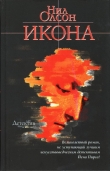Текст книги "Агни Парфене"
Автор книги: Светлана Полякова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Они вышли на улицу – уже потемневшую, насупившуюся, как казалось Лике, переносившей по своей привычке собственные переживания на окружающее пространство, остановились у входа – Димка пытался отыскать перчатки, потом хлопнул по карманам – забыл...
– Подождешь меня? Я, кажется, их там оставил...
Он снова исчез в кафе – Лике ничего не оставалось, как остаться у входа, наблюдая за ним через стеклянную витрину-окно.
А раньше тут было маленькое, уютное кафе рядом с булочной, в которую ездили со всего города, потому что тут был самый свежий и вкусный хлеб, вспомнила она. И – еще тут продавали необыкновенной красоты торты... Один раз она видела огромный торт, украшенный бледно-желтыми розами, а посередине была маленькая фигурка балерины. Лика долго-долго стояла, затаив дыхание, потому что ей казалось – еще мгновение, и эта сказочная воздушная фигурка оживет. Ах, какое это было чудесное время – Лика даже помнила чудесный сдобный запах из своего детства – каждый раз, когда они с мамой ездили в детский театр или в цирк, она обязательно тащила маму сюда, чтобы – пройти мимо, втянуть в себя запах праздника, и – оставить в себе на подольше...
Булочная эта была старинная, принадлежала до революции какому-то купцу. Потом ее конфисковали, и вот теперь – булочную снова забрал какой-то частник, только вот сделал из нее бестолковую кофейню с аляповатым интерьером, теперь тут больше не пахнет Ликиным детством, и Лика сама выросла настолько, что вернуться в детство никогда не сможет. Да и города, в котором Лика росла, тоже вообще-то больше не было. И мира. И это грустно, конечно, но, как говорила мама: «Если ты ничего не можешь исправить, Лика, самое правильное будет – с этим смириться и принять как неизбежность. Даже если ты не хочешь, чтобы это происходило. Просто – так будет легче тебе самой».
И то, что сейчас ты стоишь тут, рядом с этой глупой витриной, смотришь туда – девочка со спичками, – а Димы все нет, а тебе хочется сейчас оказаться дома и не торчать тут, на темной улице, тоже – своего рода неизбежность. Глупо как... Она начала разглядывать людей там, за стеклом, люди были похожи на аквариумных рыбок, такие же беззвучные, попыталась увидеть аквариумную рыбку-Диму, пропавшего в поисках утраченных перчаток, и ей показалось, что она его видит – там, в самой глубине кафе, только никакие перчатки он не искал, а стоял и разговаривал с кем-то, забыв, что тут, на улице, его ждет Лика.
Она попыталась рассмотреть, с кем он разговаривает.
И почти разглядела серый костюм, красный шарф, но остальное размывалось, рассыпалось, не желало принимать формы – один абрис, ничего больше, тень...
Самым странным было то, что рядом с ними сидела женщина, и Лика отчетливо видела ее – даже ровный ряд искусственных зубов, когда женщина смеялась, а вот того, с кем разговаривал сейчас Дима, – она не могла рассмотреть.
Тень. Просто расплывчатая тень.
Но эта тень смотрела на нее, Лику. Пристально. И Лика чувствовала это, – немного усмехаясь, пытаясь проникнуть в Ликины мысли, понять ее получше.
Ей от взгляда тени было зябко и жутко, как будто она сама становилась такой же расплывчатой и зыбкой, она отвела взгляд, постаралась отойти от окна подальше, попыталась раствориться в темноте – а не в этой тени.
На лбу выступили холодные капельки пота, Лике стало жарко, она даже набрала снега в ладони, прикоснулась к обжигающему холоду. «Что это, – спросила она себя, – что со мной? Я же большая девочка, я уже давно не придумывала самой себе страшилки, что со мной сейчас? Как тогда, в подвале, когда я прикоснулась к иконе...» Все кружилось у нее перед глазами, где-то смеялась женщина, ей показалось, что она сейчас упадет, а смех был таким громким, что хотелось закрыть уши ладонями, исчезнуть отсюда...
– Что с вами? Вам плохо?
Она замотала головой – уходите, пожалуйста, не трогайте меня, это сейчас пройдет, – хотела сказать она.
– Подождите, я сейчас вызову «скорую»...
– Нет, – смогла прошептать она одними губами. – Не надо. Со мной такое случается, это ерунда.
– Ну, тогда прислонитесь вот тут, к стене...
Она послушалась его, все еще не открывая глаз, позволила ему отвести себя куда-то – только чтобы не было видно витрины этого проклятого кафе, этой тени за стеклом.
Когда она открыла глаза, она не сразу узнала его – просто лицо показалось знакомым, она даже нахмурилась – откуда она его знает, где видела...
– Вы в порядке? – спросил он.
Лика заметила, что у него удивительно грустные и одинокие глаза. А еще в его глазах живет что-то тяжелое. Или – ей сейчас все кажется таким? Ожидание? Смирение перед неизбежной бедой?
Он вздрогнул, посмотрел на нее внимательнее.
– Да, спасибо, – сказала Лика. – У меня иногда начинается...
Она оборвала себя на полуслове, поправилась:
– Начинает кружиться голова. Наверное, это оттого, что я мало бываю на свежем воздухе и дышу красками.
– Я тоже мало бываю на свежем воздухе, – неожиданно улыбнулся он. – И тоже дышу красками...
Ей понравилась его улыбка, она была легкой, искренней, и она вспомнила, где его видела. Ну конечно. Она входила в музей, а он – выходил оттуда.
Она хотела даже напомнить ему, что они уже встречались, но он оглянулся и вдруг очень быстро, как будто испугавшись чего-то, проговорил:
– Простите, мне пора...
И ушел. Так быстро, что она даже не успела его поблагодарить – даже крикнуть ему «Спасибо!» не успела... Только пожала плечами недоуменно.
– Прости, – услышала она за спиной. – Я задержался... А... ты почему здесь? И с кем ты разговаривала? Мы же договаривались, что ты подождешь меня у дверей, я волновался, когда тебя там не оказалось...
Дима говорил все это, а сам напряженно всматривался в темноту, точно пытался разглядеть там кого-то.
– А ты... – начал он неуверенно. – Ты тут была одна?
– Одна, – почему-то сказала она. – А с кем я тут могла быть? Просто там мне стало нехорошо. Я ушла сюда – здесь тихо и спокойно.
– Значит, мне показалось... Что ты разговаривала с кем-то... Понимаешь, я ищу одного человека. И никак не могу найти, у него телефон не отвечает, и дверь он не открывает, и... Ладно, это мои проблемы. Вот мне и мерещится в каждом прохожем он, потому что мне очень нужно с ним поговорить, объяснить ему... Но – зачем я говорю тебе это?
– Не знаю, – честно призналась Лика. – Наверное, тебя это очень беспокоит.
– Да, мне в самом деле очень нужно с ним поговорить, – сказал он в пространство, даже не ей, а ускользнувшему, растворившемуся в темноте силуэту. – Очень нужно...
Дед позволил себе умереть, когда Саша закончил художественное училище.
Началось все в день Сашиного рождения. Дед подарил ему видеокамеру, и Саша был совершенно счастлив. Он снимал всех, особенно деда. На следующий день было решено отправиться в гости к дяде Мише, и первый раз за много месяцев дед, до этого и слышать не хотевший о таких дальних поездках, неожиданно согласился.
Дело было летом, а то лето было удивительным – нежарким, ласковым, теплым. Было решено поехать к дяде Мише вдвоем, на этот раз без художника – у него в ту пору были собственные проблемы, но – об этом позже...
Последнее время дед стал задумчивым, Саше иногда казалось, что он настолько погружается в собственные мысли и ощущения, что почти не слышит его. А еще однажды он застал деда плачущим. Дед сидел, обхватив голову руками, перед ним стояла «черная Мадонна», как Саша называл странную икону, и плакал. Саша был готов поклясться в этом. Он позвал его испуганно, дед вздрогнул, но взял себя в руки и, когда обернулся на Сашин зов, уже улыбался. И был спокоен.
Они старались не говорить об этом – дед был мужественным человеком и предпочитал прятать от внука свои переживания.
Они долго ехали, потом – шли по лесу, Саше казалось, что дед повеселел. Он даже смеялся и счастливо вдыхал полной грудью запахи только родившейся, дерзко верящей в бессмертие зелени.
– Как хорошо-то, Саша, – сказал он. – Какое место...
– А ты не хотел сюда ехать, – проворчал Саша, и, вспомнив о камере, поспешил заснять деда у старой сосны – огромной, с неохватным стволом. Дед рядом с ней был маленький, улыбающийся, и – Саше вдруг показалось, что он весь светлый. Такой светлый, точно это уже и не дед. А – душа одна... Вот и светится так, что страшно. Он почему-то так испугался, что перестал снимать. Дед посмотрел на него с удивлением, хотел спросить, что случилось – но, как казалось Саше теперь, сам это понял и промолчал. Только в глазах мелькнуло и погасло это знание – что он скоро уйдет.
Тогда Саша еще не понимал, что происходит – просто почему-то кольнуло в сердце предчувствие неминуемой грядущей разлуки. Но он не хотел в это верить – в тот момент ему казалось, что все изменится, откуда может появиться темнота в светлый день? В такой светлый, в такой радостный день?
Они шли по лесу, разговаривали, дед впервые за эти годы рассказывал ему о своем детстве, каждый рассказ начиная со слов: «Когда я был мальчиком», – и по мечтательной и счастливой улыбке его Саша догадывался, что – тогда дед был счастлив. Тогда дед еще не знал, что в этом мире много странного, непонятного и страшного. Тогда он был – Сашей.
Они прошли уже большую часть пути, немного устали и решили передохнуть возле руин монастыря – тем более что Саша взял с собой этюдник.
– Вот, сейчас ты увидишь его, – сказал он деду со счастливым вздохом – наконец он покажет ему это чудо, то, что волновало его и – что до этого момента дед видел только в его, Сашином, воплощении. Когда он обернулся, он замер.
Дед стоял, слегка склонив голову. Он не смотрел на эти руины – он словно был частью их. Это было так странно и фантастично, что Саша снова схватился за камеру – он должен был это запечатлеть... Человек, стоящий рядом с руинами. Часть их. Часть – вечности...
Он поднял камеру – но ему вдруг показалось, что так нельзя, это – как святотатство, что сейчас с дедом происходит что-то важное, незримое для него и – непонятное ему. Он подошел ближе – дед шептал, Саша прислушался, пытаясь расслышать слова. Дед читал стихи Теннисона.
– «И кто я, в сущности, такой?.. Ребенок, плачущий впотьмах...»
– Дед, – позвал он.
Тот стоял, словно не слыша его, погруженный в свои мысли. Саша дотронулся до его руки, снова спросил:
– Ты что? Что с тобой, дед?
Он словно очнулся, едва улыбнувшись, посмотрел на Сашу, проговорил:
– Какое странное место... «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»[6] И – не могу отделаться от ощущения, что это – наша с тобой загадка, Саша. Она связана с нами. Странно, почему мне вспомнился Теннисон? Я ведь уже давно не читал его стихотворений, но сейчас...
And Arthur said,
Man's word is God in man:
Let chance what will, I trust thee to the death...
– Тут мысли появляются в самом деле странные, – сказал Саша.
От последних слов деда почему-то по спине его пробежал холодок. «Слово человека есть Бог в его душе, – говорит король Артур присягнувшему ему молодому рыцарю. – Что бы ни случилось, верю тебе отныне и до смерти». Слова в душе деда были грустные, напоенные смертью, а сам он – не был ли сейчас этим молодым рыцарем?
«Лучше бы мы сюда не приходили, – подумал он. – В лесу было хорошо. А тут...»
Первый раз Саша чувствовал отчуждение этого места, и это было странно – сейчас тут было темно, как будто солнце не хотело быть здесь, и сам монастырь был враждебен, мрачен, и – смотрел на них, гостей непрошеных, исподлобья.
– Знаешь, самое страшное – что очень редко человека хоронят там, где он этого хочет, – задумчиво сказал дед. – Я бы хотел быть похоронен здесь. А это невозможно.
– Дед, что у тебя за мысли?
– Человеку в моем возрасте уже пристало думать о смерти, – сказал он. – А тут... – Он вздохнул и прошептал: – «What matter? Out of cavern comes a voice, And all it knows is that one word «Rejoice!..» Да, а я уже почти забыл, что знал английский, как русский, и Теннисон, Йейтс, Вордсворт, Эллиот – были мне родными, как братья, и я понимал их когда-то, понимал... Теперь же – я понимаю их, но мне страшно от этого. «Ну и что? Из склепа доносится голос, и он повторяет одно слово: «Радуйся!» Помнишь, я читал тебе это стихотворение Йейтса – «Круги»?
Саша промолчал. Ему хотелось сейчас уйти, увести деда, говорить о другом – и в то же время он понимал, что деду очень важно находиться здесь, и – говорить, говорить, говорить с ним, Сашей – именно об этом...
Они пробродили в этих развалинах почти до самого вечера, ему казалось, что дед стал какой-то странный, притихший, усталый и – счастливый. Словно он привел деда туда, куда нужно. Дед иногда останавливался, замирал, подолгу смотрел вверх – туда, где сквозь обезглавленную макушку церкви смотрело на них небо, и Саше казалось, что он, дед, сейчас просит прощения за что-то или – за кого-то...
К домику дяди Миши они добрались лишь вечером, когда солнце почти скрылось, стало совсем прохладно.
Саша немного боялся – как они найдут общий язык, но – напрасно...
Когда они подходили к дому, он услышал удары топора и – пение. Невольно улыбнулся – как всегда, дядя Миша занимался делами с непременным вокально-молитвенным сопровождением.
...Помоги мне, Боже,
Дай мне крепость сил,
Чтоб спои я страсти в сердце погасил.
Помоги мне, Боже! Щедрою рукой,
Ниспошли терпенье, радость и покой.
Грешник я великий на земном пути...
Господи, помилуй, Господи, прости...
Когда он увидел их, он так радостно улыбнулся, что у Саши потеплело на сердце, и ему показалось, что все тени, все страхи сейчас – отступили.
– Это хорошо, что успели, – сказал дядя Миша. – Я уж боялся, что придется чаи гонять в одиночестве...
Он внимательно посмотрел на деда – Саше показалось, что на одно мгновение лицо дяди Миши омрачилось, но это было одно мгновение, вот он уже улыбался широко и приветливо снова, обнимал Сашу и пожимал руку деду. Саша заснял эту встречу на камеру, потом они долго болтали, пили чай, и дед, кажется, совершенно успокоился, проникся теплой атмосферой лесной избушки, а потом, уже совсем поздно, они смотрели на звезды, и дед тихо сказал:
– В городе не увидишь такого неба...
– Небо не город, а люди от себя отодвигают, – возразил дядя Миша. – Только им кажется, что оно далеко-то, никуда оно не денется, некуда ему от нас, и нам от него – некуда...
Так бы и сидеть, слушать их разговоры, думал Саша, но глаза его слипались, он чуть не заснул и был изгнан из этого рая...
А они разговаривали еще долго – Саша слышал их голоса, не разбирая слов, потому что они говорили очень тихо, и ему захотелось молиться, и он удивился тому, что в этом доме всегда почему-то этого хочется, а дома он забывает, и так он заснул.
Утром его разбудил голос дяди Миши, тот вопрошал под его окном: «Кто Бог велий, яко Бог наш, – а потом тихонечко сообщал: – Ты еси Бог творяй чудеса». И Саша не выдержал, вскочил с кровати – впрочем, в окошко уже светило солнце, а дядя Миша готовил завтрак.
– А где дед? – спросил Саша.
– Пусть поспит, – сказал дядя Миша. – С завтраком мы без него управимся, да и мне с тобой поговорить надобно...
Он вздохнул. Посмотрел в окно, потом на Сашу долго, пристально.
– Как ты думаешь, что есть смерть? – спросил он. – Смерть – это просто дверь, через которую мы проходим в вечность. Вот что такое смерть. И через эту дверь все мы пройдем. Это единственное, в чем мы можем быть уверены. А с нас довольно одного – быть к ней готовыми. Тогда в день Страшного суда мы окажемся по правую руку Господа нашего Иисуса Христа. Там все мы встретимся и будем наслаждаться благами рая. Сюда мы пришли не навсегда, а для того, чтобы, пройдя через все испытания, уйти в вечную жизнь.
– Зачем вы все это мне говорите? – спросил Саша, чувствуя, как темнеет в глазах и так мучительно становится на душе, так она – болит...
– Твой дед, Саша, болен. Очень болен. Говорить тебе этого он не хочет. Он знает, что ты расстроишься. Он боится оставить тебя одного. И – если он до сих пор боролся с болезнью, сопротивлялся ей, то – ради тебя. Теперь его силы на исходе... Ты должен ему помочь так же, как он помогал все это время тебе. От нас с тобой зависит очень многое сейчас. И... не печалься о том, чему суждено случиться. Многие не хотят этого осознавать и говорят: «Здесь – и ад, и рай». Но это не так. И те, кто так говорит, сами это знают и в глубине души не верят в то, что говорят. Однако, когда они встретятся лицом к лицу со смертью, кто спасет их? Разве ты не слышал, что те, которые считают себя неверующими, при первой же опасности призывают на помощь Господа? Разве мы не слышим их крик: «Боже мой! Матерь Божия!»? И не взывают ли они к какому-нибудь святому, которого считают своим заступником? А зачем я тебе это говорю... Чтобы ты подготовился к неизбежному. Чтобы боль твоя не выплеснулась из тебя, лишив твоего деда такой необходимой ему сейчас помощи и поддержки. Чтобы ты... отпустил его.
Саша не мог смотреть ему в глаза. Он хотел закричать. Ударить его. Это ведь – неправда. Этого просто быть не может... Как он не понимает, что этого никогда не должно случиться?
– Нет, – прошептал он. – Нет...
Дядя Миша молчал. Он знал, что пока Саша не может принять этого.
– Он... Он же здоров! Он всегда был здоров!
– Он уже давно болен, Саша. Рак.
В самом этом слове таилась угроза, разрушение, не только жизни деда – и его, Сашиной, тоже... Обрыв. Край пропасти.
Край пропасти, и там – они вдвоем с дедом. Почему им надо расплачиваться за чужие грехи? Почему – им? Почему не прадеду, который умер в глубокой старости, ведь это он совершал, говорят, преступления, он – убивал, он – грабил храмы? Почему не матери-самоубийце, бросившей вызов и Богу, и самой жизни?
Почему – им с дедом, двум самым невинным, почему?
Его душа кричала, его душа билась, как птица в силках, – Саша не мог уже справиться с собой, он выскочил наружу – где-то далеко пела безмятежная птица, макушки деревьев освещали ласково солнечные лучи, и он подумал, что ничего плохого в таком мире быть не должно. Не может быть... И – зная, что это не так, что плохое уже – есть, испытал еще более сильный приступ боли – в этом вот, солнечном, ласковом мире именно с ним, Сашей, скоро случится беда.
Уже случилась.
Он пошел по дороге, все дальше и дальше от дома, в сторону монастырских руин, не оглядываясь, – как будто зная, что там, возле дома, стоят два человека, для которых он, Саша, очень дорог, молча смотрят в ту сторону, в которую он уходит сейчас, и им обоим больно от его боли, и оба они не знают, может быть, впервые, что им делать, и – как помочь ему с ней справиться.
Он сам не помнил, как дошел до монастыря – казалось, он не шел, а летел, и, несмотря на сгущающиеся сумерки, ему не было страшно – боль заглушала страх. Ему хотелось упасть лицом в траву – и просто лежать так вечность, потому что сил плакать у него не было.
Он вошел внутрь – и остановился там, где стояли унылые кресты. Когда-то здесь было кладбище, тут хоронили монахов монастыря. А что стало с теми, кого не предали земле? Мысль эта пришла в голову внезапно, отозвалась болью в сердце и страхом. Может быть, они – так и бродят по монастырю неслышными, тихими тенями?
Тихими голосами поют «Радуйся», как в том стихотворении, которое так любит его дед:
And wherefore rather I made choice
To commune with that barren voice,
Than him that said, «Rejoice! Rejoice!».[7]
Но – вслед за Теннисоном дед мог воскликнуть: «Для чего же я вступил в беседу с этим унылым голосом, а не с другим, говорящим: «Радуйся!»?»
А он – Саша?
Он остановился внезапно прямо перед могильным памятником, на котором – словно неведомый пастырь не желал и после смерти своей покидать места своего служения, были изображены Евангелие и крест, и – невольно, наклонив голову, положил руку на Евангелие. «Что мне делать? – спросил он неслышно, одними губами. – Я останусь совершенно один, когда дед уйдет. Мне страшно, мне очень страшно. Что мне делать, Господи?»
И – тихо зашуршала листва, повинуясь налетевшему ветру, – Хэре, Нимфи Анимфевте...
– Хэре, оде тон Серафим, хара тон Архангелон, – отозвалось где-то в самой глубине монастыря.
Саша оглянулся. Ему не было страшно. Он сделал шаг в сторону и, подняв голову высоко-высоко, закричал:
– Но я не могу радоваться! Мне плохо, Господи! Мне так жаль деда, и я ничем, ничем не могу ему помочь!!
И хотя теперь вокруг царила тишина, спокойная и величественная, он почувствовал, что ему стало намного легче. Как будто кто-то невидимый провел рукой по его лицу, убирая слезы.
– Хэре, Нимфи Анимфевте, – прошептал он благодарно. – Ра-дуй-ся... Rejoice...
Оказавшись дома, Лика испытала невероятное облегчение – как будто закрывшаяся дверь отрезала от нее мир сегодняшнего вечера, и теперь все происшедшее с ней казалось ей туманным, нереальным и зыбким. Осталось только какое-то странное, горькое ощущение – но и оно скоро растаяло под натиском обычных дел, маминого голоса, которая рассказывала ей о какой-то передаче по каналу «Культура» – кажется, она говорила о Каппадокии и о том, что сейчас там в опасности древние фрески. И как люди не понимают, что нет ничего прекраснее, и сама Каппадокия – волшебное место, и они туда обязательно должны съездить, пока люди, эти варвары, все не уничтожили... Лика слушала, кивала, пила чай, отвечала – и думала, что этот мир, уютный, теплый, ласковый – дарован человеку во спасение и в поддержку, а о хрупкости этого мира ей думать сейчас не хотелось. Смутное ощущение тревоги не уходило, словно ее, Ликиному, миру и в самом деле угрожали, как Каппадокии.
Угроза была слишком близко, странная, почти невидимая, но – ощущаемая, как будто кто-то дышал ей в лицо холодом, и – снова ей почему-то вспомнилась та тень за витриной, и Лика невольно поежилась.
Почему он (или она!) произвел на нее такое впечатление? Ее воображение наделяет совершенно неизвестных людей магическими свойствами, да что там люди – уже и предметы в ее руках словно оживают, действуют на нее. Что с ней творится?
Сначала история с иконой – теперь это головокружение на улице, прямо на улице, от одного взгляда на какую-то тень...
– Так не может продолжаться...
Нет, если так будет продолжаться дальше, ей ничего не останется, как подыскать себе хорошего психоневролога.
Ее положат на кушетку и будут спрашивать про детство, и Лика начнет смеяться, потому что ей всегда бывает смешно смотреть эти сеансы в фильмах. А самое главное – ей совсем не хочется рассказывать про свои ощущения неизвестным людям.
– Я справлюсь сама, – пробормотала она.
– Что? – посмотрела на нее удивленно мать.
– Так, это я сама с собой, – рассмеялась Лика. – Ты же знаешь, я иногда очень глубоко задумываюсь.
Чтобы отвлечься, она взяла книгу, которая лежала тут, рядом, и удивилась тому, что мама снова читает английскую поэзию – она уже давно не брала в руки этот томик, темно-зеленый, с золотым тиснением, почему вдруг сейчас эта страсть к изящному словоплетению к ней вернулась?
...Вниз погляжу ли, в пропасть, – там в теснине
Слепой туман клубится: столько мы
Об аде знаем; обращаю взор
Вверх – облачной текучей пеленою
Закрыто небо; застит кругозор
Туман – он подо мной и надо мною...[8]
Она прочитала строчки Китса вслух, мать обернулась и посмотрела на нее недоуменно, с легким испугом.
– Почему ты вдруг вспомнила Китса? – спросила она.
– Не знаю, так открылось... Это ведь ты достала книгу?
– Нет, – странно посмотрела на книгу мать. – Я... не брала ее. Ты же знаешь – после его... ухода я не могу...
В ее глазах блеснули слезы, и Лика пожалела, что вообще заговорила сейчас об этом. Тревожить мать воспоминаниями ей не хотелось. У матери была трагическая первая любовь, и последняя любовь тоже оказалась трагической. Завершение цикла, как грустно пошутила мать однажды. Таким образом мы отдаем долги Богу.
– Странно, – пробормотала она. – Откуда тогда...
– Знаешь, может быть, в самом деле я просто забыла, что я...
Они обе понимали, что лучше забыть. Не вспоминать. Не говорить сейчас. И обе старались не смотреть туда, на подлокотник кресла, где лежал томик английской поэзии, который положил кто-то, как будто хотел предупредить их о чем-то. Уберечь? Или – это было предсказание грядущих изменений в жизни?
Но – счастливых ли?
Она невольно открыла книгу – наугад, как когда-то, давно, в детстве, пытаясь угадать судьбу, и прочитала стихотворение Теннисона:
О да, когда-нибудь потом
Все зло мирское, кровь и грязь,
Каким-то чудом истребясь,
Мы верим, кончится добром.
Она посмотрела на мать и постаралась улыбнуться ей как можно теплее.
– Вот видишь, – сказала она. – «Кончится добром». Все кончится добром, вот увидишь...
Мать кивнула, правда, глаза ее остались грустными, да и самой Лике от этих строчек не стало легче...
Глава 5
СТРАННОСТИ АНТИКВАРНОГО ДЕЛА
...Кристалл живого сердца раздроблен
Для торга без малейшей подоплеки.
Стук молотка, холодный и жестокий,
Звучит над ним как погребальный звон.
Увы! Не так ли было и вначале:
Придя средь ночи в фарисейский град,
Хитон делили несколько солдат,
Дрались и жребий яростно метали,
Не зная ни Того, Кто был распят,
Ни чуда Божья, ни Его печали.
Оскар Уайльд[9]
– Да плевал я на все это, плевал! На попов этих, на старух, на...
Молодой человек взмахнул руками, жест у него вышел несколько странный – похожий на приветствие фюрера. Он говорил быстро, громко, но в то же время создавалось ощущение, что он заискивает перед хозяином.
– Сами на мерсах разъезжают...
– Ну, ты бы новое хоть сказал что-нибудь, – вздохнул хозяин и снова замолчал.
Интерьер этого дома был подчеркнуто своеобразен. Мебель из карельской березы, старинная и изящная, с чернениями и накладками из мореного дуба, была изысканной и свидетельствовала о хорошем достатке хозяина.
Сам он, сидя в кресле с высокой спинкой, выглядел спокойным и насмешливым – чего нельзя было сказать о его собеседнике.
Собеседник вел себя странно, вскакивал, кричал что-то, размахивал руками, – и если при первом взгляде казался совсем молодым, почти подростком, из-за своей субтильности, присмотревшись, можно было обнаружить, что он далеко не молод – ему перевалило за сорок. Одутловатое лицо чем-то напоминало Гитлера, равно как и взгляд фанатика – пустой, безумный, быстрый и хитрый.
И говорил он странно, отрывисто. Казалось, что мозг его наполнен лозунгами и слоганами до такой степени, что уже и не осталось там места для простых, ясных человеческих слов.
Сам он явно увлекался до такой степени, что терял контроль над эмоциями, начинал вскрикивать, и глаза становились еще безумнее.
А человек в кресле слушал его, слегка склонив голову, лишь иногда позволяя себе едва заметную улыбку.
Иногда он украдкой смотрел на часы – сейчас ему было совсем некстати это затянувшееся рандеву, в конце концов – деловая встреча была важнее, намного важнее, чем эти бессмысленные разговоры: «Обидели юродивого, отняли копеечку...»
Он бы давно от него избавился – Нико Садашвили уже настолько вжился в образ скандалиста, что разучился разговаривать нормальным голосом, он почему-то всегда кричал. И скандалил уже с ним.
– Как ты мог все это допустить? – кричал он и сейчас. – Все, все разрушено, эти люди никогда меня не поймут, разве они способны почувствовать настоящую, подлинную свободу, они жалки, жалки, жалки!
Во всей его фигуре, в этих выкриках было что-то отвратительно-театральное, жеманное, как у стареющей травести, пытающейся изобразить из себя нимфетку. Да и сам он был жалок – с этой внешностью вечного мальчика, инфан террибла, совершенно уже не соответствующего возрасту, в который Нико отказывался поверить, с таким же упорством, как отказывался поверить в Бога, в здравый смысл и в то, что ничего нового он не делает, а вся его скандальность и вычурность – смешны-с...
Но на содержание Нико Садашвили платили деньги. И на содержание группы таких же инфанов и терриблов, которые делали то, что прикажут, при этом – были глупо доверчивы и внушаемы настолько, что им казалось, будто они абсолютно свободны и произносимые мысли принадлежат действительно им. Ему тоже платили много денег за то, что он занимается ими. Выставляет их поделки, продвигает их бездарные опусы в издательства, защищает их и – внушает окружающей элите, что перед ними – истинные творцы. Покрывает их выходки, иногда и ему самому кажущиеся дикими, нелепыми, глупыми.
Деньги он любил, может быть, это вообще было единственное, что он любил. «Поэтому – надо терпеть», – подумал он. Этого сумасшедшего, который на основании собственного безумия заключил, что он гениален. Мрачную старую деву Виталию с ее страшными картинками в духе бредовых фантазий на темы детства Калеба. Вечно хихикающего толстяка поэта и мазилу Викторова, который писал исключительно в подпитии и – просто набирал слова, желательно – грязные, желательно – матерные, желательно – подтверждающие лозунг: «Мы животные, мы произошли от обезьян, и нечего тут пытаться изобразить высокую духовность». Пьяницу Айделя, который из всей компании хотя бы действительно когда-то умел рисовать, но теперь – рука дрожала, и даже вот этот тремор, приводящий к неуверенности и изломанности линий, он умело выдавал за гениальность. И – бог весть, как они надоели со своими скандалами, капризами, просьбами, дикими желаниями... И публика надоела, потому что – нормальные люди не будут восхищаться их мазней, значит, те, которые приходят и восхищаются, – такие же больные.
То, из-за чего сейчас разразился скандальной тирадой Нико, было предсказуемо.
Неунывающий вечный борец с «религиозным мракобесием», зарядившийся богоборческим экстазом еще в пионерском возрасте, художник Садашвили, устав от того, что глупая публика не желает признавать в его странных треугольниках, ромбах и просто чернильных пятнах Роршаха хотя бы отдаленное сходством с Малевичем, решил привлекать внимание этой глупой публики так называемыми перформансами. Почему ему показалось «мракобесным» исключительно христианство – неведомо, но вот к исламу он относился с пиететом, да и к другим религиям – тоже. Гнев в основном он по своей давней, пионерской привычке обратил прямо и конкретно на Православие и все, что было с ним связано.
Собственно, идею подсказал ему Хозяин.
Как-то раз, сидя за «рюмочкой кофе», они вели беседы о непременном для романтизма безбожии, поминали и Ницше, и Байрона, и вот дошли до Маяковского.
Так как Нико, сам будучи наполовину грузином, очень этого поэта чтил и любил, он не удержался.
Как в своей юности, воспрянув духом, гордо вскинул голову и продекламировал из «Облака в штанах»:
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища