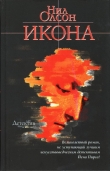Текст книги "Агни Парфене"
Автор книги: Светлана Полякова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Взрывотехники многократно закладывали тротил. Гремели взрывы, но стены обители упорно не хотели «складываться» – только отлетело несколько кирпичных глыб. В течение целого месяца саперы пытались разрушить монастырь, но все попытки приносили минимальный успех при максимуме расхода тротила. Военные плюнули и уехали.
Местные механизаторы решили отколовшиеся фрагменты стен разорвать на части тракторами – не вышло. Тогда дробить глыбы на кирпичи наняли цыган. Те согласились, но вскоре пожалели – двоих придавило. Раненые в ужасных муках умирали на глазах у соплеменников несколько часов. Погибших похоронили прямо в лесу. Табор в страхе снялся и исчез из села, посчитав гибель цыган карой свыше. Подходить близко к монастырю с тех пор цыгане боялись.
Впрочем, Саша слушал рассказ художника внимательно, мерный голос успокаивал, и какие-то знакомые, простые слова, и нарочито газетный стиль изложения – точно стирали сейчас все таинственное и загадочное, что ждало его там, за спиной, в самой глубине – ждало, когда он оглянется наконец.
– Откуда вы все это знаете? – спросил он. В тишине голос прозвучал как-то гулко, отозвался эхом – «знаете... знаете... знаете...».
– Тут неподалеку живет один отшельник-нелюдим, – рассмеялся художник. – Я у него ночую. Да ты сам с ним познакомишься, если сегодня задержимся... Он со странностями, конечно, но ничего мужик, славный и добросердечный... Может, еще тебе баек расскажет. А сейчас – надо и поработать, а то солнце уйдет... Пойдем?
Они пошли к выходу, но на прощание Саша все-таки оглянулся, решительно, собравшись с силами.
В черном проеме ничего не было, только лучик солнца. Он вздохнул облегченно: «Ну вот, прав дед, я слишком большое значение придаю собственным фантазиям...»
Он сделал еще шаг вслед за своим взрослым другом и замер.
Ему послышался тихий вздох и слова, почти неразличимые, произнесенные голосом совсем юным, точно пропевал-проговаривал их Сашин ровесник:
– Агни Парфене...
Он остановился – сердце снова забилось, кровь прилила к щекам.
– Вы... ничего не слышите? – спросил шепотом, чувствуя, как сдавливает горло.
Художник обернулся, недоуменно вздернул брови, посмотрел на бледное Сашино лицо. «Наверное, зря я ему рассказал про цыган, – сказал себе. – И вообще – зря его привез сюда. Рано ему еще... Боится он».
– Нет, – покачал головой. – Только вода где-то журчит... Наверное, тут источник.
Саша снова оглянулся – и в самом деле, теперь он слышал, что это вода, бежит где-то ручеек, а ему мерещится мальчишеский голос, произносящий странные слова.
Все в порядке. Он широко улыбнулся, и они вышли наружу. Хотя Саше сразу стало легче дышать тут, на привычной природе, ему отчаянно хотелось вернуться, преодолеть страх, попробовать расслышать этот голос, эти слова и понять, что же было выбито там, на остатках стены...
Глава 4
«ТАМ МНОГО МЕСТА ДЛЯ ИКОН»
...Красным, белым и зеленым
Нагоняем сладкий бред...
Взгляд блуждает по иконам...
Неужели Бога нет?..
Н. Рубцов
В тот день Лика спустилась покурить. Она стояла у окна, наблюдая, как медленно падает снег – наконец-то! – и прохожие идут с трудом, потому что снега теперь намело сугробы, и от этого Лике было радостно. Ей даже хотелось все бросить сейчас и отправиться на прогулку по этим сугробам, а вокруг деревья заснеженные, и солнце, и синее, морозное небо...
«Так долго небо было серым, что мороз – в радость, раз он делает его таким вот, радостным...»
Она увидела Диму – он прошел мимо нее, сосредоточенный и немного напряженный. Он явно кого-то ждал – даже вышел на улицу раздетый, постоял там несколько минут – она видела пар, идущий из его рта, и ей хотелось позвать его, сказать, что он простудится, но он уже хлопнул входной дверью, и, когда подошел к ней, она почувствовала запах мороза и легкий холод.
– Эх, черт, забыл сигареты, – хлопнул он расстроенно себя по карманам.
Она протянула ему пачку «Винстона».
– Синий, – протянул он расстроенно. – Он же легкий...
– Какой есть.
– Ладно, я тебя ограблю, да?
– Грабь, – пожала она плечами. – Сделай доброе дело...
Он засмеялся.
– Ты увеличиваешь мои шансы выжить, – улыбнулась Лика. – Так мама говорит. Когда у тебя берут сигареты, тебе делают доброе дело. У тебя что-то случилось?
Он пожал плечами, продолжая смотреть в окно странным, беспокойным взглядом.
– С чего ты взяла?
– У тебя вид взъерошенный... Как будто ты «барышню» увидал.
Он рассмеялся. Про эту «барышню» он и рассказал Лике первым. Это была музейная легенда. Тут когда-то свершилась страшная трагедия – дочь смотрителя не вынесла несчастной любви или, по другой версии, грехов своего отца, – и однажды повесилась в хранилище. Теперь ее мятежный, беспокойный дух иногда бродил по музейным залам, и не только ночью. Утверждали, что как-то она напугала экскурсантов, явилась среди бела дня пред ними. Рассказывая эти небылицы, Дима был артистичен, даже пытался сие действо отобразить. Получалось у него забавно и не страшно. Лика хихикала, а когда дошло до пугливых экскурсантов, которых при виде местной достопримечательности-привидения взяла оторопь, она рассмеялась.
– Да уж лучше иногда увидеть «барышню», чем некоторых людей, – вздохнул Дима.
Она хотела пошутить, спросить у него, не ее ли он имеет в виду, но – посмотрела ему в глаза и осеклась. Нет, он пытался скрыть от нее свой страх, но его было слишком много, – и это было странно, потому что Диму она могла представить каким угодно, но – не таким вот, раздавленным, беспокойным, все время оглядывающимся на дверь. Ей даже показалось, что, если она сейчас уйдет, затушив сигарету, ему станет совсем невмоготу, поэтому она закурила новую – Диме нельзя было сейчас оставаться одному.
Спросить же напрямую, что случилось, Лика не решалась. Да, они сдружились, но той степени доверительности, когда человек открывается перед тобой до конца, у них не было. Поэтому они молчали какое-то время. А потом он вздохнул:
– Ладно, пошли, работа ждет... Он сегодня не придет.
И тихо повторил:
– И сегодня он не придет... Что-то случилось. Что-то случилось, и я...
Дима махнул рукой, оборвал фразу и пошел вниз по лестнице. Там он остановился – перед тем самым пейзажем с руинами монастыря, который так нравился Лике. Долго стоял, прищурившись, не отводил взгляда. Лике показалось, что губы его беззвучно шевелятся, как будто он просит о чем-то, или – спрашивает, или просто – молится.
– Знаешь, – сказал Дима, – есть такая притча. Не знаю, может, ты ее слышала. При создании фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощенное в образе Иисуса, и Зло, воплощенное в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. Леонардо на середине прервал работу и возобновил ее лишь после того, как нашел идеальные модели. Однажды, когда художник присутствовал на выступлении хора, он увидел в одном из юных певчих совершенный образ Христа и, пригласив его в свою мастерскую, сделал с него несколько набросков и этюдов. Прошло три года. «Тайная вечеря» была почти завершена. Однако Леонардо пока так и не нашел подходящего натурщика для Иуды. Кардинал, отвечавший за роспись собора, торопил его, требовал, чтобы фреска была закончена как можно скорее. И вот после многодневных поисков художник увидел валяющегося в сточной канаве человека – молодого, но преждевременно одряхлевшего, грязного, пьяного, оборванного. Времени на этюды уже не оставалось, и Леонардо приказал своим помощникам доставить человека прямо в собор, что те и сделали. С большим трудом его притащили туда и поставили на ноги. Он толком не понимал, что происходит, а Леонардо запечатлевал на холсте греховность, себялюбие, злочестие, которыми дышало его лицо. Когда он окончил работу, нищий, который к этому времени уже немного протрезвел, открыл глаза, увидел перед собой полотно и вскричал в испуге и тоске:
– Я уже видел эту картину раньше!
– Когда? – недоуменно спросил Леонардо.
– Три года назад, до того, как я все потерял. В ту пору я пел в хоре, жизнь моя была полна мечтаний и какой-то художник написал с меня Христа.
Некоторое время он молчал, глядя мимо Лики, а потом тихо добавил:
– Каждый из нас – как этот нищий. С нас можно написать и Христа, и... – Дмитрий замолчал, резко обернулся к ней, сказал: – Кстати, я хотел тебя кое о чем попросить.
– Проси, – милостиво разрешила Лика.
– Не сейчас и не здесь. Давай вечером посидим в кофейне. Я тебя провожу потом, не бойся!
– Я и не боюсь, – улыбнулась Лика. – Конечно. Давай.
Ей было любопытно, что за странные, таинственные просьбы могут быть у Димы. Она даже легкомысленно подумала, что он решил объясниться ей вот так в любви, но сама рассмеялась, с чего бы это на него нашла такая напасть?
Домик был совсем маленький, он прятался в листве, и, когда Саша его увидел, на ум пришло сравнение с пещерой отшельника – они набрели на остатки этой пещерки по дороге сюда, художник показал ему источник, в котором они обнаружили на удивление чистую, прозрачную воду. Они даже умылись ей, правда, пить ее художник Саше не разрешил.
– Еще заболеешь, что мне потом с тобой делать, – проворчал он.
– Нет, от этого я не заболею, – возражал Саша. Его глаза светились, он улыбался, и снова художник удивился – с каким восторгом этот мальчик воспринимает все эти монастыри, пещерки, молитвы. Каким образом у старого безбожника-атеиста вдруг вырос такой правнук? А мальчик в самом деле был преисполнен восторга – ладонью дотрагивался до креста, который определял местоположение разрушившейся пещерки, и так благоговейно, так нежно смотрел вокруг, словно наконец пришел туда, куда должен был рано или поздно прийти.
А когда они уходили, постоянно оглядывался, и губы его что-то шептали – художник даже спросил его:
– Ты прощаешься?
– Ненадолго, – кивнул мальчик. – Я же ненадолго. Мы еще вернемся сюда, правда?
– Конечно, – согласился он тогда. Скорее чтобы успокоить парня и быстрее идти к ночлегу – все быстрее сгущались сумерки, все темнее становились деревья.
Впрочем, дошли они довольно быстро.
Казалось, что в доме никого нет – такая вокруг царила тишина. Художник даже испугался – не случилось ли чего. Когда он постучал и позвал хозяина:
– Дядя Миша, ты дома? – ответа не было. Художник постучал еще. – Дядя Миша! – крикнул громче. И проворчал обеспокоенно: – Куда он мог подеваться?
Наконец дверь открылась. К тому моменту ими обоими овладели отчаяние и беспокойство. Теперь все исчезло. Снова стало легко и радостно на душе.
Саша ожидал увидеть седенького, согбенного старичка – почему-то именно с таким образом у него ассоциировалось слово «отшельник», а – на пороге стоял высокий, широкоплечий мужчина лет сорока с длинными кудрявыми волосами, перехваченными на затылке аптечной резинкой, и яркими, светлыми голубыми глазами.
– Ну, вот и славно, что добрались, – сказал он. – Христос посреди нас...
Он обнял художника. Саше стало страшно, что богатырь сейчас раздавит его хрупкого спутника.
– И ангелочка привез, ну молодец, – заулыбался дядя Миша, протягивая Саше свою огромную мозолистую ладонь. – Хороший какой... И – Богом отмеченный. Сразу видно.
– Только замеченный, – смутился Саша.
– Ну, замечены-то мы Им все, – рассмеялся дядя Миша. – А вот тех, кого Он отметил, мало. Да ты не смущайся – талант не твой, он тебе на время дан, потом возвратить будет надобно, так что – заслуги-то нет, одна ответственность перед Тем, кто его дал тебе, как распорядишься, как сохранишь... Это вот с нас двоих спросить особо нечего, а с тебя, милый друг, спросится.
Теперь сконфузился художник – невольно дядя Миша признался, что в его творчестве он никакой Божией искры не усматривает, но, подумав, не стал обижаться. Глупо ведь. И с чего ему пришло в голову, что мальчик талантлив, если он и работ его не видел?
А дядя Миша уже ставил чайник и, усмехаясь, глядя хитро на Сашу, сказал:
– А воду-то я оттуда и беру, откуда ты пить мальчонке запретил... Фома ты неверующий, одно слово!
– Она ж холодная, простудиться мог, – покраснел художник. – А мне отвечать за него перед дедом...
– Да не того ты боялся, я ж говорю, Фома... Ты за желудок его побоялся, что вода эта – грязная, стоялая, а там, глупый ты человек, и святой родник, целебный... А перед дедом чего отвечать – за него самого отвечать придется, потому как – все мы упертые, души у нас огрубели, и собственные грехи нам стали в радость. Тяжко идти человеку, а он на Бога ропщет, не на себя. И грехи свои продолжает лелеять, пестовать, так свыкся с ними, что и расстаться не может. Смешные мы люди.
– Ты только пропаганду-то свою религиозную не разводи, – рассмеялся художник. – Все равно – сколько со мной бьешься, а никак не обратишь.
– Ну, – развел руками дядя Миша. – Я и не могу обратить никого, не святой. Обращает только Господь, а если тебя не обратил – значит, пока не видит в тебе готовности и ума понять и принять Истину. А мальчика Он уже к себе приблизил, так что...
Он долго и ласково смотрел на Сашу, потом тихо добавил:
– Наши с тобой слова все пустые, Он ему сам все скажет, и за руку возьмет, и отведет туда, куда нужно. Мы же с тобой – только проводники, помощники, чтобы не дать бесам заблудить мальчонку, запутать, чтобы беду отвести.
Он дотронулся мягко до его руки.
Потом они пили травяной чай – удивительный, вкусный. Саша, глядя, как горит в печке огонь, окончательно сомлел, почувствовал, как слипаются глаза, а дядя Миша понял это и поднялся:
– Э, братишка, ты совсем сейчас заснешь, со стула свалишься, упадешь, а нам тебя потом собирай да в постель неси! Пойдем-ка с Богом простимся и – спать...
– Да не трогай ты его, пускай спит, сам и помолишься за него...
– А когда я ем, он насыщается? – засмеялся дядя Миша. – Ничего, пусть привыкает потихоньку. А то вот тебе – и поговорить в трудную минуту не с кем бывает, небо твое пустынное, одинокое, и некого на помощь позвать...
– Я в людей верю и их на помощь позову.
– Людей? А, ну конечно, в кого же и верить еще, как не в людей, – усмехнулся дядя Миша. – «Видеши бо во гробе брата своего бесславна и безобразна». В кого и верить, вот придет он к тебе и окажет всяческую посильную помощь в тяжелый твой миг... А если таково твое несчастье, что человек этот самый, даже самый чудесный, замечательный, безгрешный, – тебе помочь не сможет, а совсем другая тебе будет нужна помощь-то? К кому будешь адресоваться? К тарелке летающей с зеленым гуманоидом, что ли? Или Зевса начнешь призывать?
– Да хоть и Зевса, человек свободен...
– Ну, вот и сиди со своей придуманной свободой, только не спрашивай, почему у тебя вместо монастыря одни каменья получаются, – улыбнулся дядя Миша. – Или у зевсов своих спроси, может, ответят они тебе...
Саша испугался, что этот их спор перерастет в ссору, но – кажется, эти двое, несмотря на то что спорили яростно и неистово, были друг к другу привязаны искренне, и чувствовали друг друга лучше и тоньше, чем это можно было выразить словесно.
Потом была его первая молитва – и он до сих пор помнит это ощущение – сначала трудно, и слова непонятные, и то, что говорит дядя Миша, непонятно, а по щекам вдруг начинают течь слезы, и из темноты в душе рождаются лучики света и надежды, а слезы все сильнее, потом вдруг начинаешь понимать слова и что это про тебя, и спать уже не хочется...
– Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас, – говорил дядя Миша, а Саша не мог оторвать взгляда от глаз на бумажной иконе – таких внимательных, светлых, и ему казалось, что Тому, Кто на иконе, больно, и он, Саша, тоже виноват в этой боли, и было так невыносимо, так странно, так хотелось утонуть в этих глазах, успокоить, потому что Саша видел там Любовь, а Любовь была до этого момента – безответной. «Я ведь не знал...» – Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем... Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго, – продолжал молитвы дядя Миша, и, когда он кончил и посмотрел на Сашу, тот почувствовал, что сейчас произошло нечто важное, пока еще непонятное, что он сейчас сделал первый шаг, и шаг этот – не в пустоту. – Спаси, Господи, за молитвы, – серьезно сказал дядя Миша.
– Да это же вам спасибо, – смутился мальчик. – Я и не молился...
– Ты плакал, – сказал дядя Миша. – А слезы иной раз сильней слов. Куда больше – молитва... – И, вернувшись к себе прежнему, деловито сказал: – Ну, лампадку-то я тебе оставлю. Чтобы ангелу-хранителю тебя видно было. Спокойно спи, тут рядом место святое, святые мученики – наши лучшие заступники...
Он ушел, тихонечко затворив за собой дверь. Саша довольно долго не мог заснуть. Как в тумане, слышал обрывки их беседы, хотя они и старались приглушить голоса, иногда что-то долетало. Они спорили, и Саша обнаружил, что почему-то больше соглашается с дядей Мишей. Дядя Миша говорил как-то удивительно понятно и красиво и словно утешал Сашу. «Ни в телесном, ни в каком бы то ни было виде, – говорил художник, – данный человек нигде и никогда не повторится. По смерти его ожидает то же, что было до рождения, – небытие... С разрушением тела прекращается существование данной личности». А дядя Миша усмехнулся, заметил на это, что уже читал подобные глупости сто лет назад, в настольной книге атеиста, которая не может служить образцом мудрости. И добавил: «Вместо христианской веры в свое вечное бессмертие предлагается мрачная и безысходная вера в вечную смерть. От этой безысходности веет ужасным холодом. И чтобы человек не отчаялся окончательно, атеизм вместо идеи личного бессмертия предлагает ему какую-то жалкую пародию: «Человек продолжает свое существование в памяти людей, в книгах, творениях искусства, машинах, домах и других плодах своей жизни...» Как не ужаснуться от этой диавольской философии и не поразиться величием христианства?!» – «Что же, по-твоему, смерть?» – спрашивал художник. «А нет ее, – сказал на то дядя Миша. – Нет. И бояться нечего. Как сказал Антоний Великий: «Смерти не следует бояться, ибо она есть бессмертие».
Саше так понравилось, что он улыбнулся. Эти слова были связаны и с ним, и с матерью, и с монастырем. Он даже повторил тихонечко: «Смерть есть бессмертие». И мать его тоже жива, просто по-другому. А существовать в чьей-то памяти ему не хотелось. И если мама не писала книг и картин, что же она – должна была исчезнуть совсем? Нет, ему понятнее и ближе то, что говорит дядя Миша.
Он хотел еще послушать, но, несмотря на сопротивление, он все-таки растворился во сне. Ему снились монастырь и мальчик его возраста, почему-то очень плохо говорящий по-русски, и старик, который единственный понимал этого странного мальчика, – они молились вдвоем на музыкальном, таинственном языке, и он не понимал ни слова, но откуда-то знал, что они молятся – за него.
А потом старик вдруг обернулся и посмотрел на Сашу.
– Горевать не надо, – сказал он. – Твоя мама не умерла, а перешла в другой, вечный мир, ибо тело – из земли и в землю пойдет, а душа – от Бога, к Богу и пойдет. Эта наша жизнь временная и наполнена разными скорбями, и никто не может их избежать... Мама твоя теперь избавилась от всех земных скорбей и будет жить вечно в другом мире, где нет конца. И весь род человеческий, от Адама до Второго пришествия Спасителя на землю, пойдет туда.
Кофейня, в которой они решили поговорить, была местом достаточно странным и эклектичным. Казалось, хозяин просто разрывается между двумя своими пристрастиями – с одной стороны, стены были увешаны неплохими репродукциями Брейгеля и Гольбейна, в то же время присутствовали в оформлении некие нотки декаданса начала прошлого века. Лика всегда грустно улыбалась, когда слышала про век, в котором родилась, – «прошлый». Однако – что было поделать с этой юной самоуверенностью нового, только что родившегося тысячелетия? Она даже иногда переиначивала фразу: «Я полный хлам, мне двадцать пять» на: «Я полный хлам, я родилась в прошлом веке».
Располагалась кофейня в очень удачном месте – с одной стороны был музей. Рядом – буквально в двух шагах знаменитая своими нетрадиционными взглядами и одиозными выставками арт-галерея. С другой же стороны мирно и спокойно проживали традиционные художники – в доме на верхнем этаже располагались их мастерские. Чуть подальше находилось художественное училище, еще дальше – консерватория, еще дальше – музыкальное училище. Так что в этом кафе народу всегда было много, и народ в основном бывал творческо-элитарно-богемный. Может быть, поэтому владелец кофейни сделал ее такой, какими виделись ему кафе начала двадцатых годов прошлого века?
На центральной стене было сделано целое панно, на котором грустный Пьеро и неприятная, похотливо-вычурная Коломбина застыли в неестественных позах, наблюдая за Арлекином, изогнувшимся в издевательском поклоне с высокомерной ухмылкой. Там же, возле стены, грустно стоял одинокий рояль – говорят, тут бывали вечера романса, поэты читали свои стихи, и, несомненно, было что-то еще интересное для неведомого хозяина... Судя по его увлечению началом прошлого века, тут могли проходить даже музыкально-спиритические утренники. Приходят люди попить кофе или горячего шоколаду – а Коломбина вдруг улыбается, подмигивает, скверным голосом начинает распевать: «Я ехала домой». И Пьеро ей подтягивает. Лика так себе эту картину живо представила, что ей на самом деле показалось, будто эта мерзкая Коломбина на нее как-то чересчур осмысленно и пристально посмотрела. И уголки губ приподнялись слегка – обнажились зубы, больше похожие на клыки, небольшие, белые, но очень острые.
«До чего неприятное место, – подумала Лика. – Название тоже вычурное: «Декаданс». «Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс»...» Она вздохнула. Надо было встретиться в обычной забегаловке на углу. Может, не такое престижное место, но там на стенах не рисуют готично-гламурных уродцев. Которые к тому же так невоспитанны, что пялятся на тебя, хотя это – совершенно неприлично.
Впрочем, к чести данного заведения, кофе тут был отличный. И маленькие пирожные – восхитительные, настоящие, украшенные взбитыми сливками. К тому же все было недорого, может быть, потому в основном тут клубилась молодежь и – интеллигентно-улыбчивые старушки. Наверное, истинные приверженцы декаданса подойдут позже, поскольку ночью умирать веселее и денег за это дерут больше.
– Какое странное место, – заметила Лика.
Ей казалось, что Дима, хоть и старается выглядеть безмятежным, все-таки чем-то обеспокоен. Вот и сейчас – она словно вырвала его своим вопросом из плена собственных мыслей, он поднял глаза, посмотрел на нее – как будто соображал, кто она, откуда взялась, и – как они оба сюда попали. Но наверное, ей только казалось. Дима улыбнулся своей обычной насмешливой улыбкой и сказал, подражая голосом птице Додо из «Алисы»:
– Это очень странное место!
Лика, не удержавшись, рассмеялась.
– «Ну вот и славно, хоть кто-то под луной, таящей скорби будущего, не потерял способность веселиться», – проговорил Дима, и почему-то Лике почудилось, что это не цитата, что он на самом деле так думает... – Так вот, драгоценная моя Гликерия, – начал Дмитрий, – насколько я понял, вы чрезвычайно одарены Богом и природой, и, возможно, именно ваша помощь окажется бесценной. Да и тебе, Лик, заработок ведь нужен, так? На наших ставках далеко не уедешь, дальше собственной дачи не разбежишься... А есть люди, согласные трезво оценить наши дарования. То есть – не просто оценить, но и оплатить.
Она не понимала его. Смотрела и глупо улыбалась.
– Лика, – позвал он ее тихонечко. – Я думаю, что сейчас я делаю тебе очень выгодное предложение. Человек, которому я хочу тебя порекомендовать, очень солидный, это фигура, фи-гу-ра, понимаешь? Он известен. И фирма у него солидная...
– Я уже слышала про его солидность, мне даже страшно, – остановила Лика. – То есть ты мне предлагаешь заняться подпольным, противозаконным бизнесом...
– Ли-ка! Каким противозаконным? Что ты придумываешь? Это же не черный антиквар, это известная фирма! И Борис Георгиевич человек знаменитый, да больше тебе скажу – он очень православный человек, в отличие от нас с тобой, а ты его записала в преступники! Просто он поднялся на антиквариате, мощно поднялся, кто спорит – ну, так дед его известный коллекционер... Вот я вас познакомлю, и ты сама убедишься – он замечательный человек! Лика, нам вообще повезло, что он решил открыть собственную реставрационную мастерскую! Там совсем другие перспективы!
Он говорил так убедительно и горячо, что Лика почти сдалась. «Может быть, ты и прав, – хотела уже сказать она. – Может быть. Я не знаю, почему я сейчас против твоего предложения. Я должна подумать».
– Но ты знаешь, откуда у него иконы? Вся эта его коллекция, на которой он поднялся, как ты выражаешься? Может быть, это иконы краденые? Из храмов?
Дима усмехнулся, взял сигарету, затянулся.
– Кажется, тут нельзя курить, – нахмурилась Лика. – Сейчас будет скандал.
– Не будет. Это кафе моего... знакомого. А по поводу икон, неправедно приобретенных... Лика, а ты сейчас в музее реставрируешь образ Архангела Михаила, да? А ты знаешь, откуда в музее появился этот образ?
– Нет, – призналась Лика. – Но это музей. Тут же все принадлежит...
– Народу, ага, – перебил он и зло рассмеялся. – Поэтому все лежит в запасниках. Заметь, что богатства у нас так много, что даже не все успеваем учесть. Зато в храмах старинных икон ты найдешь мало. В основном – современная мазня, иной раз даже не соблюдающая канонов. Лика, ты сама говорила, что глаза у музейных икон пустые, больные, потому что им молиться надо, а они у нас – спрятаны от того самого народа! И ты думаешь, они все вот так к нам из экспедиций попадают? Нет, милая... Вот та икона с выцарапанными глазами – это, например, нам на реставрацию мужик из Сербии привез. Он ее из храма, разрушенного албанцами, «спас», проще говоря – украл он ее! И назад возвращать не собирается! Продаст потом тому же самому коллекционеру, антиквару, и – все дела! Да и сама музейная коллекция – присмотрись внимательнее, откуда там все это? Или ты не знаешь, что она создавалась в те самые первые годы советской власти, когда эти иконы, ковчеги-мощевики, кресты наперсные, кресты-мощевики... Лика, милая, как ты думаешь, откуда это все?
Она молчала. Она не знала, что ему ответить. По сути он был прав. Лика и сама часто думала, что в том, что икона находится в музее, есть что-то неправильное, нечестное, но разве там, у антиквара, который превращает это в бизнес, – не хуже?
– Дорогая моя Лика, я тебе сейчас процитирую совсем не собственную мысль, а ты подумай над этими словами, ладно?
Он наклонился к ней совсем близко и, глядя в глаза, сказал, четко проговаривая каждое слово:
– «Помещение и удержание иконы в музее – это кощунственное деяние, когда у священного отнимается его сакральный статус. И более того – здесь священное уничтожается и унижается под предлогом того, что в музее ему будет лучше – уютнее и теплее». Это не мои слова, Лика. Поверь мне, нет особенной разницы между тем же музеем и коллекцией антиквара. Впрочем, я бы сказал, есть. У антиквара условия содержания икон лучше, чем в нашем хранилище. Так что – думай, Лика. Пока время есть...
– Сколько? – спросила Лика.
– Неделю, – развел он руками. – Он собирается сделать свой музей. Так что – не такой он плохой, как видишь. Не лишен благородства.
«Если б был не лишен, отдал бы в храмы эти иконы», – усмехнулась она про себя.
– Хорошо, я подумаю, – кивнула тихо.
«Может быть, Дима действительно – прав. «Священное уничтожается и унижается». Я ведь и сама это чувствую. Так – в самом деле, какая разница, где это происходит?»
Краски вечера потускнели. Словно кто-то их смазал. Осталась только горечь – странная такая, как будто тебя обманули. А еще она первый раз посмотрела на Диму без симпатии. Как-то он сейчас стал ей неприятен. Она даже заметила, что, когда он улыбается, у него один уголок губ поднимается вверх, а второй опускается вниз и улыбка получается пренебрежительная. «Странное место, тут все кажется хуже, как будто невидимый художник наносит нарочно мазки, придающие нормальным человеческим лицам уродливые черты. Призванный разрушить красоту... Где я слышала эти слова? Откуда они? Призванный. Откуда? Из ада. Все просто. И Дима виноват лишь в том, что привел меня сюда. А у меня сейчас – какое лицо? Да в принципе – не в нем дело. Как бы до души этот мазила не дотронулся своей бездарной кистью...»
Но если в голову пришли такие мысли, значит, дотронулся.
Нет, она это опять придумывает. Она подняла глаза – Дима смотрел на нее, слегка улыбаясь. «Точно мысли мои подслушал», – пришло ей в голову. И повторила:
– За неделю я что-нибудь решу.
Он кивнул:
– Подумай... И... Знаешь, я так думаю, что о моем предложении лучше пока ни с кем не говорить. То есть – не обсуждать это, понимаешь?
– Вообще-то я и не собиралась, – сказала Лика и почувствовала себя совсем плохо. Еще и обидел ее непонятно за что... Что за тайны мадридского двора?
Дима понял, что она обижена, и постарался исправить положение:
– Лик, просто этот проект в стадии разработки, и пока еще...
– Дима, – холодно прервала она его. – Я все поняла. Поверь мне, я никому не скажу об этом... таинственном проекте. И давай больше не будем. Я обещаю, я подумаю. И... мне уже пора. Знаешь, время позднее, мама будет волноваться, так что – пока!
Она поднялась.
– Подожди, я провожу тебя...
– Не надо.
– Нет, я обещал.
«Да не надо мне исполнения обещаний!» – хотелось крикнуть ей. Но она посмотрела на него и развела руками – что с ним поделаешь, ему очень важно это обещание выполнить.
Лицо у Димы было несчастным, растерянным, обиженным. Лика ощутила вину – ну зачем она так, в самом деле? Он ведь прав, так и есть все. В конце концов – какая разница, где работать? Здесь, в музее – а откуда в музее иконы? И – ладно иконы, но ковчежцы-мощевики? Они – откуда? Хотя она почему-то все равно не могла сейчас представить себе, как это она, Лика, вдруг пойдет работать на крутолобого новорусского успешного антиквара – фу, нет, она даже вздрагивает, морщится от отвращения... При одной лишь мысли. Сколько бы он ей ни заплатил.
Но Димка тут точно ни при чем – он же хотел ей, Лике, помочь. Так что – зря она на него обиделась. Откуда ему было знать, что Лика так к этому предложению отнесется?