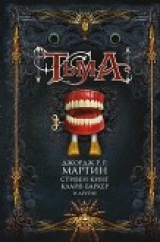
Текст книги "Тьма (сборник)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Нил Гейман,Дэн Симмонс,Клайв Баркер,Поппи Брайт,Джозеф Хиллстром Кинг,Питер Страуб,Келли Линк,Стив Тем,Элизабет Хэнд,Джо Лансдейл
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Но для этого надо встать, набрать номер, а ему было куда приятнее просто сидеть и слушать шумы вселенной и печальную песнь жизни, нисходящей в ничто.
Он задумался о том, какими умиротворенными были музыканты «Посмертия», как бледные руки пианиста скользили по клавишам, будто медленные белые животные, звук, будто рябь на воде, как запрокинул голову трубач и из-под темных очков стали видны его глаза (одни белки, глядящие куда-то внутрь, на нечто умиротворяющее), как басист, чьи пальцы сливались над струнами, откинул голову назад, открыв рот и уставившись в потолок, как если бы там были звезды.
«Так это и было», – подумал он, казалось, что так и было; нет, он это осознавал, но не смог теперь испугаться, было совсем не страшно. Лишь слушал, двигая пальцами по подлокотникам, поглощал все это. На ближайших небоскребах гасли огни.
«В самом деле, черт подери, это происходит… и мне не страшно». По сути, ему уже начинало нравиться это ощущение. Похоже на небольшой отпуск. Убавить громкость и эмоции, сидеть, позволяя мозгу дозревать, будто сыру в подвале.
«Интересно, что бы сказала Рэйчел?
Ну, она бы была в восторге! Она этой музыки не слышала, в конце концов, она была бы чертовски рада идти в числе первых. Пусть он сидит и пиршествует, а она будет приводить чужих и отдаваться им прямо на ковре в гостиной. В смысле, я же не буду возражать, так? Может, мертвецам приятно просто смотреть. Может…» – у него зачесались руки, от грязи, которой осквернил их город. Похоже, надо ополоснуть. Придется вставать, но надо же иногда шевелиться. Нельзя же просто сидеть и под себя гадить.
Большим усилием воли, будто поднимая пару сотен килограммов, он встал на ноги и побрел в ванную. Казалось, ушла пара минут на то, чтобы дойти и, нащупав выключатель, зажечь свет, который едва не ослепил его. Отблески на кафеле и хромированных поверхностях, будто шрапнель, ударили по сетчатке глаз.
– О Господи! – воскликнул он. – Бог ты мой…
И поглядел на свое отражение в зеркале. Бледная кожа, губы, слишком красные, круги вокруг глаз, будто синяки. «Мистер Зомби», – обратился он к себе, в темно-сером костюме от Кельвина Свайна, с отворотами в итальянском стиле, в шелковом галстуке от «Вечеринки Висельника», оранжевой шелковой рубашке цвета голубиной крови, туфли, на самом деле – куски мерзкой мертвой кожи с узором под крокодиловую, аксессуары от Мистера Морга.
Не сразу он смог отвернуться.
Включил воду. Музыка играла в такт течению воды, он не ощутил холода, когда подставил руки. Просто еле заметная щекотка по коже.
Отдернув кисти, он глядел, как сверкающие капли стекают по ним в такт альту и ударным, басу и пианино. Выключил свет и стоял в благословенной прохладной темноте, слушая альт, играющий вдалеке, позволил своим мыслям уходить дальше и дальше по извилистому золотому тоннелю в никуда.
«Надо признать, ты способен глубже осознать мир живущих, если твоя жизненная сила ушла к нулевой отметке, – подумал он. – Вот, например, Рэйчел». Она может вернуться в любой момент, довольная и улыбающаяся, вертя задницей, бросить сумочку и плащ, задорно поцеловать его, спросив, как дела со статьей… а поток ее сексуальной энергии будет угасать, потрескивая, как заглушенный мотор машины в тишине гаража. Это совершенно ясно, весь масштаб ее обмана, теперь, когда он не закрыт бессильным гневом и разочарованием, осталось лишь осознание неприемлемости этих отношений. «Очевидно, надо что-то сделать. Удивительно, как это раньше в голову не приходило… или неудивительно.
Я был слишком возбужден, слишком эмоционален. Теперь… теперь это возможно. Надо поговорить с Рэйчел, сделать все иначе.
На самом деле, – понял он, – даже в разговоре нужды не будет.
Просто ей надо немного послушать эту музыку, и она встроится».
Совсем не хотелось покидать умиротворяющий мрак ванной, но он чувствовал, что надо закончить статью… подбить концы. Вернулся в гостиную и сел у компьютера. Трансляция на WBAI закончилась. Похоже, он долго был в сортире; выключил радио, чтобы слышать мелодию у себя голове.
Я сижу здесь, слушая маленькую ночную серенаду, шелестящий шепот музыки, просачивающейся из щели двери, ведущей к смерти, сами понимаете, не слыша почти ничего, кроме этого пронизывающего звука, который стал скорее благом, чем помехой, который начинает устанавливать в мире совершенно новый порядок. Незачем объяснять это тем, кто ее слушает, как и я, но для остальных позволю себе пролить свет на этот опыт. Можно понять… совершенно ясно, так сказать, но это слово не объясняет всего. Ощутить освобождение от пут, от безудержных чувств, понять, что малые перемены могут привести к спокойствию и совершенству. Понемногу, там-сям. И вдруг становится очевидно, что больше нечего делать, совершенно нечего, и достигаешь полной гармонии с окружающим.
Экран слишком яркий. Гудрик убавил яркость. Понял, что даже у темноты есть свое, особенное свечение. «Странно», – он глубоко вдохнул… вернее, попытался, но грудная клетка не пошевелилась. «Круто, – подумал он, – очень круто. Не шевелиться. В совершенном спокойствии, белом-белом спокойствии на черном-черном фоне. Осталось уладить совсем немного. Я уже почти готов. Что бы это ни было».
Прохладный голос альта, тоненькая струйка удовольствия в рокоте ночи.
Не могу сказать, что это очень уж приподнятое ощущение. В конце концов, ничто над тобой не довлеет, никакие опасные желания, никакое скверное настроение, никаких ненавистных привычек…
Щелчок. Открылась входная дверь, и от этого звука, похоже, в комнате стало светлее. Шаги, голос Рэйчел.
– Уэйд?
Он ощущал ее. Горячую, липкую, мягкую. Ее груди, из жировой ткани, виляние ее бедер, сокращение сухожилий, живых. Будто своеобразную музыку, бесстыжую мелодию жизненной силы и обмана.
– Вот ты где! – радостно воскликнула она. Обжигающая вспышка звука, и она уже позади него. Наклонилась, положив руки ему на плечи, поцеловала в щеку. Прядь ее каштановых волос змеей упала Уэйду на шею и грудь. Он едва ощущал запах духов, еле-еле. Она всегда ими так заливалась, что он едва мог терпеть, задыхаясь от этой цветочной вони.
– Как дела со статьей? – спросила она, отходя в сторону.
Он повернулся, впиваясь в нее взглядом. Округлая задница, затянутая в шелк, теперь напомнила ему лишь о канализации, наполненной черной желчью, ее сердце стало для него отвратительно красным гамбургером с ядом. А эти крохотные торчащие соски…
Он вспомнил, как она убирала волосы наверх, надевала передники, будто Вильма Флинтстоун, как он приходил домой и прикидывался прелюбодеем Барни Рабблом.
Как им было смешно.
Уба-дуба-ду.
А теперь лихорадочная температура ее плоти будто сверкала. Сверкал даже воздух. Даже тени стали черными отблесками.
– Нормально, – ответил он. – Почти закончил.
…Бесконечно медленные минуты. Медленные, будто клубы дыма, мысли. Лишь время, лишь намек на существование. Лишь совершенная музыка, которой не существует, будто дым…
– Как там в «Авангарде»?
Он кашлянул.
– А ты радио не слушала?
Пауза.
– Нет, я была занята.
«Занята, угу».
Бедра, вздымающиеся под мятым одеялом, скользкие от пота, рот и язык, раскачивающиеся груди, большая задница, приплющивающая бедра.
– Мне понравилось, – сказал он.
Нервный смешок.
– Очень понравилось. Больше, чем когда-либо.
Он прислушался к своим ощущениям. «Все в порядке, все под контролем… что бы это ни было. Осколки отчаяния, гнева, осколки любви. Ничего особенного, ничего, что исказило бы восприятие».
– Ты в порядке? Говоришь как-то странно.
– Я в порядке, – ответил он с мерзким чувством, смешанным с наслаждением. – Хочешь послушать концерт в «Авангарде»? Я записал.
– Ну да… но тебе ведь спать хочется? Могу завтра послушать.
– Не хочется.
Он включил диктофон. Экран компьютера сверкал, будто полуденное солнце.
…Раскаты грозы, красные сполохи огня на горах вдалеке; весь мир осветился волшебным светом и вибрацией, воспрянувшие части плоти остыли и расслабились, Белый Нил умиротворенного ума, текущий повсюду…
– Нравится? – спросил он.
Она подошла к окну и стала глядеть на панораму города.
– Это… занятно, – сказала она. – Не знаю, нравится ли, но цепляет.
Услышал ли он, как ее голос стал глуше, стал зачарованным? Или она просто о другом думает?
Слушай во все уши, детка, позволь этой черной магии победить тебя… Просто слушай, просто позволь ей войти, заполнить пустоты, в твоем мозгу этим бормотанием, переливами баса, змеиными извивами струй красной жидкости, дай ей тебя окутать и угнездиться в твоей голове, в этом все, вся Америка, все, что тебе надо знать, черт подери, красота и истина Китса в обертке из странной мелодии…
Статья его уже не интересовала. Кто, черт подери, станет ее читать, в конце концов? Сейчас для него важнее Рэйчел, важнее помочь ей пройти трудные перемены, преодолеть смущение и чувства. Он с трудом поднялся на ноги и подошел к ней. Положил руки на ее бедра. Рэйчел напряглась и тут же расслабилась, прижавшись к нему. Снова напряглась. Он поглядел на Манхэттен поверх ее головы. Совсем немного огней осталось. Сигнал все проще и проще. Точка, точка, точка. Остановка. Точка, точка. Остановка.
Остановка.
– Давай поговорим, Уэйд?
– Слушай музыку, детка.
– Нет, на самом деле. Нам надо поговорить.
Она попыталась отодвинуться от него, но он держал ее, ухватив пальцами за тазовые кости.
– До утра подождет.
– Я так не думаю.
Она обернулась к нему и впилась в него взглядом зеленых глаз.
– Я и так слишком долго это откладывала.
Она открыла рот, будто желая сказать что-то еще, но отвернулась.
– Мне очень жаль…
Он понимал, к чему все идет, и не желал это слышать. Неужели она подождать не может? Еще пара минут, и она начнет понимать. Узнает то, что знает он. Боже, как она не может подождать?
– Слушай, – сказал он. – Хорошо? Послушай музыку, а потом поговорим.
– Уэйд, боже! Что с тобой такое из-за этой дурацкой музыки?
Она дернулась в сторону, но он схватил ее за руку.
– Если попытаешься, то поймешь, о чем я, – сказал он. – Но это займет время. Тебе надо подождать.
– О чем ты?
– Музыка… в ней есть нечто. Она влияет.
– О боже, Уэйд! Это важно!
Она попыталась вырваться.
– Знаю, – сказал он. – Я это знаю. Но сначала сделай, что я говорю. Ради меня.
– Хорошо, хорошо! Если тебе с того лучше будет.
Она вздохнула и с видимым усилием сосредоточилась на музыке, наклонив голову набок… но лишь на пару секунд.
– Я не могу слушать, – сказала она. – Для меня это слишком.
– Ты не пытаешься.
– О, Уэйд, – сказала она дрожащим голосом. С дрожащим подбородком. – Я пыталась, правда. Ты не понимаешь. Пожалуйста! Давай просто сядем и…
Она снова вздохнула.
– Пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить.
«Надо ее успокоить. Усилить свое спокойствие и дать ему войти в нее». Он положил ладонь ей на шею, прижал ее голову к своему плечу. Она сопротивлялась, но Уэйд не отступал.
– Проклятье, отпусти меня! – сказала она приглушенно. – Отпусти! Ты меня душишь, – добавила она после паузы.
Он позволил ей поднять голову.
– Что с тобой случилось, Уэйд?
На ее лице были испуг и недоумение. Ему захотелось успокоить ее, развеять страхи.
– Ничего плохого, – со спокойствием священника ответил он. – Я просто хотел, чтобы ты послушала. Завтра утром мы…
– Я не хочу слушать. Ты можешь это понять? Я. Не. Хочу. Слушать. А теперь отпусти меня.
– Я делаю это ради тебя, малышка.
– Ради меня? Ты свихнулся? Отпусти меня!
– Не могу, малышка. Просто не могу.
Она снова попыталась вывернуться, но он не пустил.
– Хорошо, хорошо! Я не хотела устраивать скандал, но ты сам напросился!
Она отбросила назад волосы и яростно поглядела на него.
– Я ухожу…
Он не мог позволить ей сказать это, позволить испортить эту ночь, позволить ей прервать процесс исцеления. Без злобы, без горечи, аккуратно, расчетливо, будто поправляя, он ударил ее тыльной стороной руки, в челюсть, молниеносно, со всей силы – так, что у нее покраснела кожа и откинулась голова. Рэйчел ударилась затылком о толстое оконное стекло с резким хрустом и осела на пол. Шея была неестественно вывернута.
Щелк, щелк.
Он стоял в ожидании того, что его захлестнут страх и печаль, но ощутил лишь прилив безмятежности, будто поток холодной воды, будто вдали мелодично зазвучала труба, золотая и безмятежная.
Щелк.
Его жизнь обрела идеальную форму.
Как и жизнь Рэйчел.
Лежащая, бледная, с приоткрытыми губами, отсутствующим выражением лица, обмякшего, свободного от похоти и эмоций, она была прекрасна. Из-под волос текла струйка крови, и Уэйд ощутил, что ее линия идеально согласуется с мелодией альта, что музыка истекает из нее, символизируя недолгую жизнь. «Она не мертва, она лишь подверглась необходимому ограничению». Он ощущал потрескивание ее мыслей, будто потрескивание угольков, когда тухнет огонь.
– Все хорошо, малышка. Хорошо.
Он подсунул руку и поднял ее, держа за талию. А затем перетащил на диван. Усадил ее и сел рядом, обнимая за плечи. Она стукнулась о него головой. Мягкие груди прижались к его руке. Уэйд слышал, как музыка исходит от нее, как исходит электрическое потрескивание мыслей. Никогда они не были ближе, чем сейчас, подумал он. Будто парочка старшеклассников на первом свидании. Сидят вместе, слушают музыку – с замершими сердцами, с сознанием, настроенным на одну волну. Ему хотелось что-нибудь сказать, сказать, как сильно он ее любит, но Уэйд понял, что уже не может говорить. Мышцы горла обмякли и не повиновались.
«Что ж, так и надо».
По крайней мере Рэйчел знает, каково ему теперь.
Если бы он мог говорить, то сказал бы ей, что всегда был уверен – они смогут разобраться, все равно они созданы друг для друга, хоть у них и были проблемы…
«Эй, Бильма, – сказал бы он, – уба-даба-ду».
А затем они начали бы открывать эту новую и спокойную жизнь, чистоту музыки и ясности.
Слишком яркой ясности, сказал бы он.
Свет становился ослепительным, будто предельная простота жизни перенесла его в новую реальность – пылающей белизны. Свет стремился отовсюду – от радиоприемника, телевизора, от разомкнутых губ Рэйчел, – с каждой поверхности. Он заливал белым воздух, ночь вокруг, свет заслонял собой надежду, истину, красоту, печаль, радость, оставляя место лишь музыке, которая становилась все громче, заглушая мысли, музыка становилась жаждущей сущностью внутри его. Слишком круто, если так можно сказать, все изменилось. Но это и к лучшему, понимал он.
«Так по крайней мере нет шансов что-то испортить.
Иисусе, как этот чертов свет глаза режет!
Скорее всего, – подумал он, – тут есть какая-то ложка дегтя, и это совершенство несет в себе какой-то изъян».
Он крепко обнимал Рэйчел, приговаривая: «Малышка, скоро все будет хорошо, просто полежи, просто расслабься». Хотел успокоить ее, помочь пройти этот этап. Он ощущал, что свет ее беспокоит, судя по тому, что она спрятала лицо, уткнувшись ему в шею.
Если эта хрень продолжится, ему придется купить им обоим темные очки.
Поппи З. Брайт
Калькутта, владыка чувств
Первые рассказы Поппи 3. Брайт были опубликованы малыми тиражами в начале 90-х, когда ей и двадцати не было. Брайт сразу стала известна среди авторов жанра «хоррор». Последовало несколько публикаций в крупных сборниках. Три романа – «Потерянные души», «Пуская кровь» и «Отменный труп» – создали ей репутацию человека бесстрашного, сделавшего гомосексуалистов главными героями и без стеснения описывавшего откровенные сексуальные сцены. Затем она отошла от хоррора, написав несколько романов о ресторанной жизни Нового Орлеана в жанре «черного юмора».
«Калькутта, Владыка чувств» живописует нам загадочную и зловонную Индию, идеальное место для ада на земле, наполненного зомби. Рассказ был впервые опубликован в сборнике «Еще мертвые» под редакцией Джона Скиппа и Крейга Спектора.
Я родился в больнице в северной части Калькутты посреди черноты индийской ночи, перед самым сезоном дождей… Воздух окутывал тяжелым влажным бархатом реку Хугли, приток священного Ганга, обрубки баньянов на Читпур-Роуд были покрыты светящимися, как пламенеющие призраки, пятнами. Я был черен, как небо в новолуние, и почти не кричал. Мне кажется, что я это помню, поскольку именно так и должно было быть.
Моя мать умерла при родах, вскоре той же ночью больница сгорела дотла. У меня нет причин связывать эти два события, но опять же нет и причин не связывать их. Возможно, в сердце моей матери таилось желание быть сожженной заживо. Возможно, огонь родился из ее злобы, направленной на меня, на ничтожного вопящего младенца, который убил ее. Медсестра вытащила меня из ревущего огня и сунула в руки моему отцу. Он, онемевший от горя, начал качать меня.
Мой отец был американцем. Прибыл в Калькутту за пять лет до этого события, по делам Влюбился в мою мать и, как человек не способный сорвать цветок в саду, не мог даже помыслить, чтобы забрать ее из жаркого, пышного, убогого города, породившего ее. Это было одной из особенностей матери. Так что отец остался в Калькутте. Теперь его цветок исчез.
Он прижался узкими потрескавшимися губами к шелку моих волос. Помню, как я открыл глаза. Его губы были твердыми и блестящими, пересохшими из-за пламени пожара Я поглядел на столб дыма, уходящий вверх, затянутое облаками ночное небо – розовое, будто кровь с молоком.
Мне не грозило пить молоко – только капли смеси с химическим привкусом через пластиковый сосок. Морг был в подвале больницы, поэтому не сгорел. Моя мать лежала на металлическом столе в заскорузлой от пота больничной ночной рубашке, прикрывающей окровавленный пах и бедра. Ее глаза глядели вверх, сквозь почерневший остов больницы, в небо цвета крови с молоком, а поверх оседал пепел, закрывая ей зрачки.
Отец и я отправились в Америку раньше, чем начался сезон дождей. Без матери Калькутта стала тлетворной адской дырой, местом, где проводят массовые кремации. Или так думал мой отец. В Америке он сможет отдать меня в школу, на баскетбол, в бойскауты, водить в кино, совершенно уверенный в том, что кто-то обо мне позаботится, кроме меня самого. Там нет тхагов, которые бы меня похитили и перерезали горло, нет аборигенов, которые схватят меня, а потом продадут кости для ритуала плодородия. Нет коров, заваливающих улицы своим священным дерьмом, от которого идет пар. Отец мог предложить мне относительную целостность американской жизни, чтобы самому в это время сидеть в темной спальне и пить виски, пока его длинный изящный нос не начнет покачиваться и не притупится острое лезвие его боли. Он был из тех, что влюбляются лишь раз в жизни, зная с болезненной ясностью, что когда-нибудь потеряет эту любовь. И вряд ли был удивлен, когда это произошло.
Напиваясь, он начинал говорить о Калькутте. Сознанию маленького американца она была противна – я был влюблен в кондиционеры, гамбургеры и пиццу, эта свободная и ничем не ограниченная любовь обрушивалась на меня всякий раз, как я включал телевизор. Но где-то в глубине моего индийского сердца я тосковал по Калькутте. Отец однажды не очнулся от очередного запоя. Когда мне исполнилось восемнадцать, я вернулся в родной мне по крови город, как только смог собрать денег на авиабилет.
Калькутта, скажете вы. Каким стало это место, когда восстали мертвые?
А есть место лучше, спрошу я в ответ? Какое место может быть лучше того, где пять миллионов человек и так выглядят, как мертвецы, – мертвые они или еще нет, – а остальные пять миллионов предпочли бы смерть?
У меня была подруга по имени Дэви, проститутка, которая занялась своим ремеслом в пятнадцать лет, в обтянутой рубероидом хижине на Саддер-стрит. Саддер в Калькутте – то же самое, что Бурбон-стрит в Новом Орлеане, но в ней куда меньше от карнавала; на Саддер-стрит никто не носит масок, поскольку скрывать себя незачем за отсутствием, понятия срама. Сейчас Дэви работает в больших отелях, продавая американским туристам, британским экспатам и немецким бизнесменам частичку своего особенного бенгальского вкуса. Она худощава и прекрасна, и крута, круче некуда. Дэви говорит, что весь мир – блудница, а Калькутта – влагалище мира. Мир приседает, раздвигает ноги, а Калькутта открывает тебе буйный, неприкрытый секс – влажный, пахнущий тысячью запахов, приятных и омерзительных. Источник самого темного наслаждения и рассадник всех мыслимых зараз.
Влагалище мира. Это по мне. Мне нравятся влагалища, мне нравится мой мерзкий город.
Мертвым тоже нравятся влагалища. Если им удается поймать женщину и сладить с ней, чтобы она не могла сопротивляться, ты увидишь, как они втискиваются меж ее ног, радостно, будто алчные любовники. Им не надо отрываться, чтобы дышать. Я видел, как они проедали все насквозь, до брюшной полости. Женские внутренние органы, похоже, для них особый деликатес, почему бы и нет? Будто черная икра человеческого тела. Мигом очухаешься, увидев в кювете женщину, у которой кишки висят поверх остатков ее матки, однако реагировать не стоит. Не стоит отвлекать мертвых от их трапезы. Они тупы и медлительны, но это лишь еще одна причина быть умным, тихим и проворным. С мужчинами они делают то же самое – пожирают мягкие ткани пениса и мошонки, будто отборные куски кальмара, оставляя лишь рваную красную дыру, сочащуюся кровью. Но ты можешь проскользнуть мимо, пока они питаются, и тебя не заметят. Я от них не прячусь – просто иду, глядя по сторонам, вот и все. Я восхищаюсь. Это не ужас, это просто еще одна сторона Калькутты.
Для начала я проспал допоздна все жаркое утро и до палящего дня. Я нашел себе место в одном из полуразвалившихся мраморных дворцов старого города. Дэви часто ко мне туда приходила; но однажды, обычным утром, я проснулся один, и на мне были лишь мятые простыни и оставшийся от наслаждений пот. В окно светило солнце, рисуя на полу яркие полосы. На втором этаже я чувствовал себя в безопасности, пока дверь закрыта. Мертвецам обычно не хватает сообразительности подниматься по лестницам; собраться вместе, чтобы сломать закрытую дверь, они тоже не способны. Так что они для меня не опасны. Они кормятся теми, кто сдался, теми, кто слишком перепугался, чтобы убежать. Выжившими из ума, одинокими стариками, обезумевшими молодыми женщинами, сидящими в кюветах и качающими на руках умерших ночью младенцев. Легкой добычей.
Стены моей комнаты окрашены в ярко-коралловый цвет, оконные переплеты и двери – в цвет морской волны. Яркие в солнечном свете, они радовали, несмотря на жару снаружи. Я спустился вниз, прошел через пустой внутренний двор мимо пересохшего мраморного фонтана и вышел на улицу. Пустынно и жарко, ослепительный солнечный свет, высохшая трава по обочинам, кое-где у кюветов – коровьи лепешки. К ночи ни травы, ни лепешек не останется. Дети соберут навоз и слепят из дерьма и соломы лепешки, которыми можно будет топить печи и готовить еду.
Я пошел в сторону Чоринги-Роуд, одной из главных улиц города. На полдороге увидел безумную молодую женщину под навесом матрасной фабрики. Мертвые ее уже нашли. Уже забрали из ее рук младенца и ели самое мягкое – с темени. Лишенные выражения лица припадали и подымались. С обмякших ртов свисали комки мозга. Мать сидела на бордюре, покачивая пустыми руками. На ней было грязное зеленое сари, разорванное на груди. Торчали груди, набухшие от молока. Когда мертвые покончат с младенцем, то примутся за нее, и она не станет сопротивляться. Я такое уже видел Видел, как брызнет молоко, а потом кровь, когда они вопьются в ее груди. Знал, с какой алчностью будут они лакать эти реки молока и крови.
С жестяного навеса над их качающимися головами свисали длинные полосы хлопковой ткани – с крыши в дверном проеме, как паутина. Где-то в другом конце здания еле слышно играло радио. Англоязычный христианский канал. Евангельские песнопения, чтобы мертвецы Калькутты воскресли во Христе. Я пошел дальше к Чоринги.
Большинство улиц города переполнены домами. Они теснятся один к одному в полном беспорядке, будто книги разного формата, втиснутые в шаткий книжный шкаф. Нависают над улицами, и ты видишь над головой лишь узкую полоску неба, через которую тянутся бесчисленные бельевые веревки. На них болтаются шелка и хлопок, яркие на фоне влажного грязно-серого неба. Но есть особенные места, где город вдруг распахивается, и ты видишь панораму Калькутты. Вытянутые глинистые холмы, где раскинулись трущобы, тысячи и тысячи хижин, в окнах которых всю ночь горят крохотные огоньки. Мертвые часто приходят к этим жилищам из картона и жести, но люди не уходят из трущоб. Куда им уходить? Видишь заброшенные фабрики и склады с почерневшими дымоходами цвета ржавчины, торчащими в небо. Видишь отблеск реки Хугли, серо-стальной, под покрывалом тумана, через которую перекинулась ажурная полоса моста Хоура.
Сейчас я шел в противоположную от реки сторону. Берег нельзя считать безопасным, потому что там – утопленники. Каждый год тысячи людей прыгают с моста или просто уходят в воду. На берегу реки так легко совершить самоубийство, отчаяние как будто сгустилось в ее испарениях. Осязаемое облако отчаяния окутывает Калькутту, заодно с покрывалом влаги.
А теперь самоубийцы и утопшие дети-беспризорники стали выходить из реки. В любой момент вода может извергнуть одного из них, и ты услышишь, как он ковыляет, взбираясь на берег. Если он пробыл в воде достаточно долго, то может и порвать сам себя в клочья, о камни и битый кирпич, которыми усеяна кромка воды. Останется лишь тяжелый дурной запах, будто запах ила из глубины реки.
Полиция загоняет мертвых на мост и отстреливает. Издалека я даже вижу красные пятна между серых переплетений стали. Иногда полицейские их обливают бензином и поджигают, а потом скидывают с моста в реку. Ночью, ниже по течению, нередко можно увидеть у моста извивающиеся силуэты, симметричные, будто пятиконечные звезды.
Я остановился у лавки торговца пряностями, чтобы купить пучок красных хризантем и горсть шафрана. Шафран я попросил завернуть в алый шелк.
– Отличный день, – сказал я ему по-бенгальски. Он посмотрел на меня с легким удивлением и смятением.
– Отличный день для чего?
Настоящий индуист считает священным все. Нет ничего мирского – ни в грязной собаке, роющейся в урне с пеплом на месте кремации, ни в вонючем, пораженном гангреной пальце нищего, который тычет им тебе в лицо, будто считая тебя виновником всех его невзгод. Это столь же свято, как праздничный день в святейшем из храмов. Но даже самые набожные индуисты, похоже, не в состоянии узреть святость в ходячих мертвецах. Эти человеческие оболочки – пустые. Это самое ужасающее, хуже их ненасытной жажды живой плоти, хуже запекшейся у них под ногтями крови, хуже обрывков плоти, свисающих с их зубов. Они лишены души. В их глазах ничего нет. Звуки, которые они издают (пердят, хрюкают, подвывают от голода), – чистые рефлексы. Индуисты, которых учат верить в то, что душа есть во всем, испытывают особенный ужас по отношению к этим пустым человеческим оболочкам. Но жизнь в Калькутте продолжается. Открыты магазины. На Чоринги, как всегда, беспорядочное и плотное движение. Другого выхода у людей нет.
Вскоре я пришел туда, где в любом случае должен был сделать первую остановку. За день я часто прохожу и двадцать, и тридцать миль, моя обувь крепкая, и мне нечего делать – только ходить и смотреть. Но я всегда останавливаюсь в Кали-гхате, храме Богини.
Для нее есть миллион имен и миллион красочных описаний. Кали – ужасная, Кали – яростная, «Ожерелье из черепов», «Убийца людей», «Пожиратель душ». Но для меня она – Матерь-кали, единственная в огромном пестром пантеоне индийских богов, кто воодушевляет меня и пробуждает воображение. Она – Разрушительница, но и последнее прибежище. Богиня нынешней эпохи. Может гореть и истекать кровью и снова восстать, в полной силе, прекрасная и ужасная.
Нырнув под висящие ожерелья из цветов календулы и колокольчиков на входе, я вошел в храм Кали. После непрекращающегося гама улицы тишина казалась оглушительной. Я представил, что слышу малейшие шумы своего тела, будто отражающиеся от высокого потолка. Вокруг моей головы витали клубы сладкого дыма опиумных благовоний. Я подошел к джаграте, изваянию Кали. Когда я приблизился, ее глаза будто впились в меня.
Джаграта была рослой, худощавой и вызывающе обнаженной, даже больше, чем моя подруга Дэви в лучшие из наших мгновений.
Ее груди окрашены кровью (по крайней мере, так я себе всегда представлял), торчат два острых клыка с длинной полосой языка алого цвета. Волосы разметались вокруг головы, глаза безумны, но третий глаз, серповидный, в центре лба, милосерден. Он все видел и все принимал.
На изящной шее висело ожерелье из черепов, подчеркивая углубление под горлом. Четыре руки изогнуты так замысловато, что, если хоть на мгновение отведешь взгляд, кажется, что они шевелятся. В них она держала веревку, посох с черепом, сверкающий меч и отрубленную голову с распахнутым ртом – мертвее некуда. У подножия статуи стояла серебряная чаша, прямо под этой головой, там, куда капала бы кровь из разрубленной шеи. Иногда в качестве подношения туда наливали кровь – козью или овечью. Нынче чаша была полна. В такие времена кровь вполне могла быть и человеческой, однако я не ощутил характерного гнилостного запаха крови мертвеца.
Я положил к ногам Кали хризантемы и шафран. Среди других подношений, по большей части – сладостей и специй, я увидел несколько странных предметов.
Фаланга пальца, сморщенный грибок плоти, который при ближайшем рассмотрении оказался ухом, – подношения ради особой защиты, обычно такое отнимали у мертвецов. Но как знать, не могли ли самые преданные из почитателей отрезать себе фалангу пальца или ухо, чтобы вымолить у Кали особую милость? Иногда, когда я забывал принести подношение, я делал себе надрез бритвой на запястье и проливал к подножию статуи несколько капель крови.
Услышав донесшийся снаружи крик, я на мгновение отвернулся. Когда же снова посмотрел на статую, мне показалось, что четыре руки сложились в новый узор, а длинный язык сильнее высунулся из алого рта. И – мне такое часто представлялось – широкие бедра немного подались вперед, дозволяя мне мельком узреть прикрытую лепестками плоти сладостную и ужасную расщелину меж бедер богини.
Я улыбнулся ее чудесному таинственному лицу.
– Будь у меня язык длинный, как у тебя, Мать, – прошептал я, – я бы преклонил пред тобой колена и лизал бы складки твоего священного влагалища до тех пор, пока ты не завопишь от наслаждения.
Зубастая ухмылка, казалось, стала шире и блудливее. В присутствии Кали у меня разыгрывалось воображение.
Выйдя из храма, я увидел тот самый источник шума Там стоял большой камень, где в жертву Кали приносили животных, чаще всего – козлят. Их обезглавливали жрецы. Группа мужчин в лохмотьях поймали девушку-мертвеца и били ее головой о жертвенный камень. Подымали и опускали руки, под кожей играли мышцы. В узловатых руках они держали острые осколки камней и кирпича. Голова девушки, уже наполовину размозженная, болталась туда-сюда. Нижняя челюсть еще щелкала, несмотря на то что зубы и кость уже были разбиты. Мерзко пахнущая жидкая кровь стекала вниз, смешиваясь с густой кровью животных у основания жертвенного камня. Девушка была нагой, покрытая кровью и нечистотами. Дряблые груди болтались так, будто внутри их ничего не было. Живот раздулся от газов. Один из мужчин сунул палку в растерзанную щель между ног девушки и навалился на нее всем весом.








