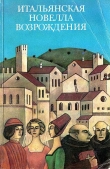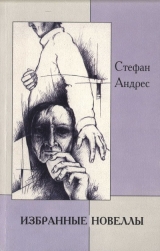
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Лицо Пако залила краска стыда. Его заставила покраснеть ложь Педро, вдобавок – то, что теперь он вынужден выступить из своей солдатской безымянности, и, наконец, ему было стыдно перед Педро, ибо тот прекрасно знал, что ему, Пако, предстоит умереть. Странный это был стыд, подобного он еще никогда не испытывал. Как частичное обнажение перед глазами несведущего, но еще тоньше, еще беспомощней воспринимал он себя, обреченный смерти перед этим посвященным, который только что покинул трапезную, оставил арену зловещей битвы, повелев смерти явиться и не собираясь умирать сам.
Вот почему Пако с трудом, тяжелой поступью, почти шатаясь, выступил перед пленными. Но и перед ними, ни о чем не подозревающими, он испытывал стыд, когда прочел у них на лбу письмена смерти, на лбу, который либо морщился от всяких незначительных мыслей, либо оставался гладким и безмятежным применительно к минуте. Он не имел права сказать им: вы погибли! Он подтвердил только, что он и в самом деле священник и намерен дать им отпущение, затем, повинуясь внезапному побуждению, он взошел на кафедру, где так часто сиживал, читая вслух из Библии. Сперва он думал, что его привлекло возвышение, но потом понял, что привлекла его близость раздаточного окошка, – да, да, теперь он знал, откуда следует ожидать маленького подкрепления на дорожку, теперь он знал, где стоит исчезнувший из коридора пулемет.
И молниеносно смекнул, почему дон Педро сумел так искусно солгать: «немножко подкрепиться» предполагалось еще раньше того, как было принято решение о всеобщем отпущении. Поэтому ложь дона Педро вовсе не была такой гнусной, как он счел поначалу. Пако стоял спиной к окошку. Ему трудно было глянуть на пленных; с той минуты, как вышел Педро и он остался наедине с этими людьми, его еще неотвратимей охватило темное чувство вины. Он виделся себе жалким комедиантом, который в пределах спектакля изменяет и искажает свою роль. Как он использовал нож и множество других возможностей для побега? Да если б хоть один из собравшихся здесь имел хоть часть его возможностей, они, пожалуй, все были бы теперь свободны. А он вместо того облобызал своего палача – и обменялся с ним вежливыми словами и, стало быть, действовал с ним заодно. Какой прок остальным в том, что он и сам готов умереть! Ведь они-то умирать не хотят, по ним видно.
Часть пленных уже опустились на колени, часть остались стоять, хотя и без протеста: просто они стеснялись вдруг взять и преклонить колени, подталкивая друг друга локтями, они что-то шептали, широкоплечий парень перед самой кафедрой понимающе улыбнулся во весь рот, поднял сперва правую, потом левую ногу, широко развернул носки – может, он в прошлом был матросом. Пако заговорил хоть и с трудом, но просто и уверенно, он даже сумел улыбнуться, когда сказал, что человек на войне не может знать, с какого бока его зацепит, а потому каждому, у кого есть что-то на сердце, не обязательно грех, а просто тревога или забота, следует обратиться мыслями к Богу, равно как и к оставшимся дома жене и детям, к отцу и матери. И с той же тоской, как о близких людях, должно вспомнить и об Отце небесном. Только пусть никто не винит Господа во всем происходящем, а только людей, в том числе и себя самого.
– Вся готовность к насилию собралась в нас и теперь должна отбушевать, – добавил он, и почти торопливо: – но также и наша нерешительность, наша слабость, страх перед чем-то необычным и даже страх перед кровопролитием. Ибо сумей один из нас в нужную минуту воспользоваться ножом… но, друзья, надо сдаться. Судит только Бог, а Бог исполнен милосердия!
После этого он начал читать молитвы – он еще помнил их – слово за словом – Indulgentiam, absolutionem et remissionem – Отпущение, очищение и прощение ваших грехов… – Какая концентрация доброты в этих юридических точных формулировках, подумалось ему. Когда он сотворил крестное знамение и с силой послал в залу свое «Аминь», его ушей коснулся знакомый звук отодвигаемой дверцы у него за спиной, столь же многообещающий, как и прежде. Быстрый треск заполнил стены, словно железная боевая колесница незримо прогрохотала через весь зал. Пако услышал крик и увидел, как широкоплечий парень, стоявший перед ним, вскинул кверху руки, как несколько человек упали слева от него, а сам он, почувствовав удар между лопаток, рухнул назад, но рухнул плавно, словно подхваченный беспредельностью бездны, той, в которую можно падать до скончания века, так и не ударившись о твердое дно.
1942
МАШИНА
В о второй половине дня русские заняли лагерь, а уже к вечеру они доставили нас на грузовиках в другой город. Мы провалялись там несколько недель в наскоро приспособленных под ночлег времянках, пока не двинулись на запад первые поезда. В вагоне товарного поезда я сидел среди разнообразных грузов, о которых нынче уже не могу сказать, что там лежало в ящиках и мешках, то ли картофель, то ли газовые плиты, то ли консервы, потому что голова у меня была занята другими мыслями. Но если память мне не изменяет, размышления мои, как и сам поезд, передвигались рывками и всякий раз через короткий промежуток времени снова останавливались, теряя при этом свой предмет, то ли потому, что он был для них слишком уж отвратен, ведь даже умирающие от голода животные – подобные сцены я мог наблюдать сквозь щель благодаря неплотно задвинутой двери – не заглатывали подряд все, что казалась им мягким и подходящим для заглатывания. Я видел собак, которые старательно обнюхивали нечто неопределенное, потом оставляли, возобновляли поиски, возвращались к исходному пункту и под конец облаивали это несъедобное – как врага, который настолько мерзок, что переходит в разряд неприкасаемых. И вот этот перепляс между отвращением и голодом, который исполняли собаки, с омерзительной точностью повторял мои попытки предаться размышлениям, предпринимаемые мною в том товарном вагоне по дороге на Запад. Куда бы я ни поворачивал острие – чуть не сказал: нос – своего сознания, во всех воспоминаниях обнаруживалось одно и то же – гниль, разложение всевозможных форм морали, борьба за кормушку или, по крайней мере, за место на буфере, повсюду – совершенно нагой человек, разъеденный своими многочисленными язвами, отринутый природой, отторгнутый надеждой.
Я вынужден был признаться самому себе, что блаженство моей новой свободы заключалось в праве снова остаться наедине с самим собой, без постоянной близости товарищей по неволе, от которой я страдал больше, чем от угрозы со стороны государственных экзекуторов. Ибо палач, по крайней мере когда на него смотришь сзади, похож на человека, в то время как покрытые полосатой бязью скелеты похожи на схематические изображения из промежуточного мира, из мира Оркуса, которому мы давным-давно отвели место в царстве сказки и который вдруг вплотную подошел к нам и завладел нами.
И однако мои мысли даже во сне не меняли направления и неуклонно совершали обратный путь через лагерные ворота, в кухню для заключенных, и дальше, ощупью, до красной точки в ночь накануне освобождения, до неисправной машины по изготовлению колбас, а на самом деле – до того престранного человека, который так и не превратился в схему, а просто возник передо мной среди нашего мира лемуров, как античный, пусть даже гротескный герой, наполнивший меня надеждой благодаря своей неустрашимости и своему способу умирать.
Этот человек, по профессии адвокат, имя которого я смог узнать лишь после освобождения, этот бесстрашный, бросающий вызов бандитскому государству, который был выдан своим компаньоном и после короткого времени пребывания в тюрьме помещен в концлагерь, рассказал мне все это сам, в тот последний вечер, а еще он рассказал, что жена его подала на развод, после чего вышла за того самого доносчика.
Потом, когда я прибыл в товарном вагоне на родину, в университетский городок в Средней Германии, я не находил себе места, пока по прошествии двух недель снова не сел в поезд и не поехал еще дальше на запад. В той кухне, где готовили еду для заключенных, я пообещал покойному рано или поздно постучать в дом к его бывшему компаньону. И вот время приспело. Поскольку имя умершего было мне известно, мне не стоило особого труда отыскать и того, кто внедрился в его дом и улегся в его постель.
Я долго прятался за декоративным кустом, свисающим через забор на улицу, и разглядывал дом, в котором покойный со своей женой проживал еще в первый год войны; классического типа строение, со множеством красиво распределенных по фасаду окон, чьи белые, свежевыкрашенные перекладины делили стекло на сотни темных, мелких ячеек. Да и сам дом сиял свежей белой краской, так что с первого взгляда становилось ясно: новый хозяин придает большое значение безупречности фасада. Подойдя поближе, я увидел, что имя покойного все еще – или снова? – написано на эмалированной табличке, словно он все еще появлялся в приемные часы, указанные на той же дощечке под обоими именами. Было пять часов пополудни. Я позвонил, вручил свою визитную карточку, прождал чуть ли не целый час и за это время мог убедиться, что люди, намеренные отстоять свои права, отнюдь не обходят стороной приемную адвоката О. Нет, дело обстояло как раз наоборот.
И вот я оказался перед ним: приветливый, выхоленный господин, лет пятидесяти без малого, обратился ко мне на мягком рейнском наречии. Мой визит весьма его удивил, тем не менее он выразил свою радость по поводу возможности познакомиться с человеком, чьи книги были для него духовной опорой в тяжелые времена, в первую очередь одна книга, где, как он со знанием дела мне поведал, речь шла о государстве как о deus terrenus [17]17
Бог земной (латин.).
[Закрыть], кроме того, он помянул и другой труд – о происхождении и фундаменте силы. Возможность слышать из этих уст и в эту минуту названия собственных книг удручала меня и сбивала с толку. Когда же я вдобавок увидел его адресованную мне улыбку – он как раз наклонился, чтобы поднять с полу какой-то обрывок бумаги, – мне почудилось, будто он считает меня товарищем по мыслям и по борьбе, верней сказать – соучастником. Привыкнув читать лекции, я никогда не испытывал затруднений, если надо было изложить свои взгляды, однако после такого начала нашей беседы я почувствовал себя весьма смущенным. Прежде чем призвать к ответу компаньона моего покойного друга, я должен был сам давать ответ. И вот, чуть не заикаясь, я сказал, что книги, им упомянутые, могут сегодня свидетельствовать против моего прошлого, выступать как свидетели обвинения, доказывающие, что я не был ни самостоятельным, безоглядным мыслителем, ни храбрым наставником. Разумеется, как и каждый человек, подверженный заблуждениям, я мог что-то привести в свое оправдание, «ибо, – как сказал я, – с юных лет я учился, а с тридцати лет учил тому, что при всех обстоятельствах государство остается самодостаточной нравственной субстанцией. Вы ведь знаете, какие и по сей день весьма чтимые философы насаждали эту теорию в умах немцев, и не одних только немцев. Для того чтобы мне самому отринуть эти заблуждения, потребовалось время, потребовался горький опыт. И я приобрел его, этот опыт. И готов, пожалуй, признать, что к определенным убеждениям можно прийти лишь в результате нравственных решений. А вы какого мнения?»
– Я? – Он снова рухнул в кресло, положил затылок на подголовник и возвел глаза к потолку.
– Дело в том, что я почти прямым путем прибыл из концлагеря.
О. не шелохнулся и заговорил куда-то в воздух:
– Ах вот как! В свое время я кое-что об этом слышал, но не верил своим ушам.
Затем он пробормотал себе под нос что-то насчет всеобщего психоза арестов, обусловленного приближением линии фронта, и тут благодеяние обернулось напастью, – последнее слово он произнес каким-то дребезжащим голосом.
– Что до меня, – я был бы куда как рад наброситься на него с кулаками, – то вышло как раз наоборот: напасть обернулась благодеянием.
О. подобрался и в упор поглядел на меня:
– Вы что этим хотите сказать?
– То, что сказал. Концлагерь просветил меня касательно нашего государства, просветил основательнее и глубже, чем это могла бы сделать тысяча профессоров-гегельянцев. В этом и заключается благодеяние напасти. А к тому же я познакомился в лагере с одним человеком, человеком поистине бесстрашным и независимым – короче, с вашим бывшим компаньоном!
– А-а-а! – Он это не проговорил, это просто раздался звук, который бывает, когда из пузыря выходит воздух; лицо его, еще секундой ранее правильное и упорядоченное, стало походить на зеркало, в которое влетел камень.
– Впрочем, можете не бояться, – сказал я с таким видом, словно хотел его успокоить, вот только голос мой, надо полагать, прозвучал не слишком успокоительно, – его уже нет в живых.
Новость, судя по всему, ничуть его не удивила, он даже сделал правой рукой некое закругленное, торжественное движение, смысл которого остался для меня не ясен.
– А почему я вообще должен бояться? – Он задал мне этот вопрос с крайне утомленным видом, пытаясь при этом улыбнуться, точнее сказать, выставил напоказ свои сияющие белые зубы.
Я был ошарашен, заметил это, и разозлился на себя самого, и произнес таким тоном, словно хотел подсказать ему ответ на этот вопрос:
– Так ведь вы же донесли на него…
– Ну, зна-е-те ли! – Доктор О. так подчеркивал каждый слог, словно хотел, чтобы его слова были слышны сквозь обитую дверь.
И тут я понял: по этому, снова принявшему форму безупречного овала разгладившемуся лицу, по этой руке, которая, покуда мы молча таращились друг на друга, лежала на подлокотнике и совершала маленькие движения взад и вперед, словно желая что-то окончательно стереть, я понял: каждое дальнейшее слово, которое я здесь произнесу, уже не имеет смысла. Он поступил, сообразуясь с требованиями своей совести, он обезвредил неисправимого врага родины и народа, короче говоря, он встал на сторону порядка и отважно возложил личные пристрастия на алтарь отечества.
Я не ошибся: он заговорил, произнося речь для себя самого. Начал непринужденным тоном. Не желаю ли я пропустить рюмочку виски? Я отказался. Он поведал о себе, о пути своего развития, о том, как он изучал юриспруденцию и историю, причем не упустил случая дважды, трижды процитировать меня, который был двадцатью годами его старше. Как я с превеликим неудовольствием понял, у него была цепкая память, которая решительно все сохраняла и вдобавок страдала нарушением перистальтики. Он нимало не заботился о том, чтобы утихомирить расположенные в нем одно подле другого взаимоисключающие, бушующие духовные начала, располагая превыше всего свой наивысший символ веры, а именно что нельзя требовать, чтобы в такое время он принимал самостоятельные политические решения или даже просто предавался политически-моральным размышлениям. «Это ослабляет волю, – сказал он и снова совершил то же самое округлое движение по подлокотнику, – а единственная добродетель, которая должна во время войны остаться для народа неприкосновенной, это послушание». И снова он продемонстрировал мне свои зубы, как смазливый четырнадцатилетка, который мнит себя неотразимым и в этом закоснел. А потом он перешел на шепот, словно желая поведать мне бережно сохраняемую тайну:
– А сама церковь, не правда ли? Я один год пробыл на фронте, в нашем молитвеннике много говорилось о послушании, верности, жертвах, преданности – и ровным счетом ничего о том, что проповедовал он – я имею в виду своего тогдашнего компаньона – денно и нощно. Жена его больше не могла это вытерпеть – рано или поздно человеку хочется покоя. Вы только представьте себе: как составную часть супружеской верности он потребовал от нее приятия его политической веры, так это приходится называть. Но разве это…
– Это просто великолепно! – вскричал я. – Как хорошо, что я узнал от вас об этой черте его характера. Брак без согласия во всем, что мы любим, что мы чтим, к чему стремимся, есть не более как утвержденное государством и благословленное церковью сожительство.
– Что вы говорите, господин профессор! – И он осклабился.
На это я:
– Тогда скажите мне, пожалуйста, еще одно: ваш брак с женой покойного, ваш, заключенный еще при его жизни брак, – если он не зиждился на этом согласии во всех основополагающих этических вопросах, то на чем же тогда? Или, в конце концов, вы с ней оба заурядные прелюбодеи? И вы сдали своего компаньона, как и ваша жена своего мужа, лишь затем, чтобы на будущее можно было ни с кем не считаться?
Д-р. О. вскочил и указал мне правой рукой на обитую дверь. Я поклонился и вышел. Странным образом я совершенно не был взволнован. Внутри – а я уже шел по улице – мне слышался голос покойного, но не слова, а лишь его смех, холодный как лед, гордый смех, мне виделся сам он, ковыряющий своим инструментом в брюхе колбасной машины. И еще мне припомнился его торжествующий крик, после того, как ему наконец удалось демонтировать мотор: «Историк, ты только погляди, мы спасены!»
Он ошибся в ту ночь, ошибся на каких-то десять минут, ему довелось еще увидеть, что мы вовсе не спасены, и выкрикнуть в ночь, что самое прекрасное на свете – это конец. Крик его до сих пор звучит у меня в ушах. Уж и не знаю, что он при этом думал, поскольку был пьян.
По дороге к вокзалу и по пути домой я уже почти не вспоминал про свою встречу с доктором, казалось, она ушла от меня на максимально возможное расстояние – в область ничтожного. Я сознавал, что мой визит упорядочил жизнь д-ра О. Если до сего дня он питал страх перед тем мгновением, когда в дверях возникнет его компаньон, чтобы задать ему и его супруге некоторые, сами собой напрашивающиеся вопросы, то благодаря моему визиту этот страх от него отлетел. А для того, чтобы опасаться, как бы дух покойного не заявился к нему и не начал его терзать, у нашего доктора было слишком устойчивое сложение. И уж конечно, он даже ни на минуту не допускал мысли, что я подам на него в суд – и был вполне прав, надо сказать. Вдобавок ему трудно было представить себе существование такого суда, который способен привлечь к ответственности столь поднаторевшего в законности и предельно лояльного гражданина, каким является он.
Я дал мертвому обещание там, в лагерной кухне для заключенных, где перед очагом лежала его рука, призвать к ответу обоих виновных. И вот я возвращался с этой прогулки в поля романтических чувств, сидел в четырех стенах своего кабинета и не позволял более своим мыслям сделать ни единого шага в этом направлении. Порой, когда почтальон через щель в двери опускал адресованные мне письма, я даже опасался, как бы не оказалось среди них письмо от доктора О., эдакое невразумительное, нашпигованное статьями и параграфами послание, в котором он грозил начать против меня процесс. Я ведь и впрямь слишком громко позвонил у его двери, а в законодательстве наличествовало множество параграфов, на основе которых можно покарать подобных нарушителей спокойствия, а за обитой дверью, возможно, стояли свидетели.
Но доктор О. не являлся мне, зато каждую ночь являлся его компаньон. Постепенно мне в моих снах было выделено постоянное рабочее место перед некой колбасной машиной на кухне для заключенных. Я сотни раз ощупывал во сне это крытое красным лаком изделие. Сон этот, который посещал меня согласно кем-то где-то установленному распорядку, всегда имел одно и то же содержание, но тем не менее варьировался в том, что касалось расположения материала, освещения сцены, продолжительности спектакля и – прежде всего – четкости намеков. Но в каждом сне неизменно присутствовали плащи эсэсовцев, порой свешиваясь черными флагами со стропил, порой расстилаясь на плитах пола, а на них – аккуратно выложенные детали колбасной машины, четко, как знаки различия и награды. И еще голоса этих амбалов, их ухмылки, черепа на фуражках, которые внезапно срывались со своего места, обретали крылья, летали по кухне, оводы с черепами, силившиеся ужалить меня в шею, причем всякий раз в одно и то же место. А если я просыпался среди ночи, последними словами моего сна и первыми – пробуждения всегда были слова: «Я виновен».
Я посоветовался со своим другом, психиатром, и он разъяснил мне этот, как он выразился, «психологический механизм» неизменно повторяющегося сна. Но вопрос, почему в моем сне не существует прав человека, по которым мы можем поверять адресуемые нам требования, он с улыбкой пропускал мимо ушей. Да к тому же мой шутливый вопрос не был до конца искренним, ибо я более чем отчетливо сознавал, что никто не заставлял меня признавать свою вину, что признание это, уж и не знаю, по моей или против моей воли, само прорывалось из глубин моей души.
Я больше не смел открывать свои книги, заглядывать в папку с лекционным материалом. Я спасовал – перед своими учениками, перед общественностью. Это отнюдь не означало, что я восхвалял приукрашенное с помощью всевозможной моральной мишуры господство черни, пытался истолковать ее поступки и законы, благословил ее цели – однако с тех самых пор, как я впервые поднялся на кафедру, я оставался учеником Гегеля, страстным поклонником государства и националистом. Чтобы меня не путали с тем сбродом, который упивался властью, я, занимаясь своей наукой, ушел из современности в историю, под конец – в раннюю историю, до тех пор, пока однажды не был случайно обнаружен в своем укрытии и без всякого перехода отправлен в систематизированную смесь из плоти, крови и смерти – в концлагерь.
Сперва, когда дело мое только начиналось, я рассматривал его как грубую ошибку со стороны юстиции, каковая несомненно будет исправлена причастными чиновниками и функционерами, – друзья у меня, кстати сказать, тоже были. Ни одного дня в своей жизни я не вел себя так решительно и мужественно, чтобы меня можно было счесть открытым врагом этих власть имущих из низов, а потому и считал подобное внимание со стороны полиции как минимум незаслуженным.
Причина, по которой я нарушил свою политическую мимикрию, заключалась в торжественной речи, произнесенной мною однажды на тему партийной выдержки. В последние пять минут своего выступления я вдруг принялся импровизировать, а затем и вовсе философствовать. Кара последовала безотлагательно. Говоря о герое Фридрихе, которого я в глубине души всегда считал и продолжаю считать просто рисковым игроком, я завел речь о приеме deus ex machine [18]18
Бог из машины (латин.).
[Закрыть], каковой неоднократно помогал Фридриху выбраться из «bredouille» [19]19
Bredouille – здесь: глупое положение (франц.).
[Закрыть],– надо признать, что само слово «bredouille» и впрямь звучит не слишком почтительно. Это еще как-то сошло мне с рук. Но то, что я выдал потом про «deus ex machina» вообще, про этого «бога из коробки», конкретно говоря, про то, что на такого бога нельзя рассчитывать ни в политике, ни в искусстве и вообще нигде, но что в тех случаях, когда он и на самом деле появляется – как главный приз для обитателя заднего двора, – отрицательные последствия по большей части превосходят положительные. Ибо лишь истинному герою дано схватиться за спасительную руку бога, не пострадав от божественной помощи. И этого хватило с лихвой. Личность, состряпавшая на меня донос, судя по всему, была не из рядовых.
Еще во время поездки по чрезвычайно сложному маршруту в лагерь, название которого мне до тех пор вообще не доводилось слышать и который располагался где-то на Востоке, я питал дурацкую надежду, что вот-вот случится нечто особенное, например, что вдруг кончится война или что чиновник в партикулярном платье, весь первый день пути сопровождавший меня, вдруг скажет: «Ну, господин профессор, пошутили и будет! Мы просто хотели хорошенько вас припугнуть. А теперь поезжайте домой и возвращайтесь к своей науке!» Или, скажем, мужчина вполне безобидного вида, выглядевший как и все остальные пассажиры, вдруг встанет, направится в туалет, а проходя мимо, шепнет мне: «Сматываться на ближайшей остановке! Я и сам из Сопротивления!»
Но за этим последовала пересадка в товарный вагон, в вагон для скота, к остальным арестантам. Лишь когда я поставил ногу на соломенную подстилку вагона, осторожно, чтобы ни на кого не наступить, лишь когда меня окутал запах человеческого хлева, когда щелкнула задвигаемая дверь вагона, я осознал то, чего опасался, как свою судьбу. Но как можно было понять, что судьба эта уготована мне государством, иными словами, объективным разумом? Я ведь не был врагом государства. Я хоть и презирал современное государство в формах его проявления, но презирал весьма осторожно, про себя, в укромном приюте своих мыслей. И даже когда я уже облачился в полосатую робу и деревянные башмаки, когда я мерз ночью и днем, особенно мерзла спина между лопатками и еще пальцы ног, когда голод ворочал у меня в желудке свой холодный гравий, когда я, если мимо меня проходил охранник в черном, словно избитый мальчишка втягивал голову в плечи, да, да, даже и в ту пору я все еще пытался рассматривать это государство, которое низвело меня до уровня вещи, глазами философа. Свойства его, правда, были извращены, но по сути оно оставалось государством от государства. И каждое государство походило на природу в том смысле, что жертвовало отдельным ради целого.
Самое прискорбное для меня в ходе первых недель: у меня больше не было родины. Говоря «родина», я подразумеваю утрату всего того, что определяет противоречие между «Здесь» и «Там», противоречие между близью и далью, между знакомым, привычным, надежным и предельно чуждым и опасным. Всего острей я страдал от отсутствия рабочей комнаты, основополагающих привычек, сада, собаки, голоса приходящей прислуги, почтальона – даже ванной комнаты и того известного кабинета задумчивости, который принадлежал мне одному. Я пытался выстроить у себя внутри утраченное «Здесь», короче, вспоминал своих близких, свою жену, погибшую во время воздушного налета, двух сыновей, которые были на фронте, дочь, которая сбежала из дому с таким вот денди в мундире с черепом, с таким долговязым, белокурым красавчиком, который мнил, что может объединить в себе решительно все: жестокость с благородством, христианством, ну и всем тем, что я видел вокруг. Потом, однако, я заметил, что воспоминание о дорогих моему сердцу людях делает меня еще более одиноким, мое новое «Здесь» еще более лишенным корней. И тогда я попробовал забыть.
В 1945 году Пасха пришлась на первое апреля, и в Страстную пятницу еще стоял холод. Я очень хорошо запомнил этот день, потому что мороз гвоздями впивался в мои руки и ноги, и я невольно думал про крест на Голгофе, освещал этот крест со всех сторон, следовал за возникшей таким образом тенью, далеко-далеко вглубь истории, вперед-назад, вперед, назад. И вдруг я очутился перед сорока тысячами крестов, которые были расставлены вокруг Энны с распятыми на них рабами. И перед крестом Спартака. И я увидел маршала Красса – он стоял всего в десяти шагах от меня, был аккуратно выбрит, умащен благовониями, присыпан пудрой, увешан орденами, а свою рыхлую полноту он упрятал в корсет. Такой государственный визит, целый штаб сопровождающих, у всех на лице выражение, которое бывает у членов комитета в отделении для прокаженных. Закостенев от мороза, мы простояли два часа на аппельплаце, подпирали соседей локтями, бедрами, потом Красс удалился, зашагал прочь: государство в сапогах, deus terrenus obscenus [20]20
Бог земной бесстыжий (латин.).
[Закрыть], мясник, палач – наконец-то я в мыслях до этого дошел. И снова издали – из близи ко мне донесся стон с крестов, шепот сухих губ, хрипение последнего вздоха. Звуки поднимались из палой листвы, которую ворошил ледяной восточный ветер. Мы стояли молча, качались как травинки на ветру и дрожали. Это были две различных формы движения, я полагаю даже, что именно благодаря дрожи наше покачивание не давало нам упасть.
В это мгновение я внезапно очнулся от видений Страстной пятницы. Меня разбудили некие слова, слова, с помощью которых я неожиданно мог выразить казовую [21]21
Казовый – красивый ( примеч. пер.).
[Закрыть]сторону существующей справедливости. И слова эти были «колбасная машина». Если быть точным, я сперва воспринял только слово «колбасная», колбаса! Это слово открылось во мне как рог изобилия, наполненный в высшей степени приятными воспоминаниями: деревянные столы под сенью каштанов, цинковые подносы, охотничьи колбаски, мозговая колбаса, салями, чесночная. Холодные камушки у меня в желудке начали перекатываться, уши навострились, как у собаки, впившейся глазами в колбасный хвостик, который держит хозяин у нее над головой. И еще раз я услышал: отремонтировать – колбасную машину – выйти из строя! Я не вышел, я подскочил, как собака, которая подпрыгивает, чтобы достать добрую, но слишком высоко поднятую руку хозяина, споткнулся и чуть не упал. Я еще успел удивиться, почему не все как один выскочили из шеренги, почему не все устремились к казарме охранников, где единственно и могло стоять это чудо. Колбаса! Возможно – так я смекнул – возможно, машина вышла из строя во время работы, возможно, колбасный фарш еще лежит у нее в сердцевине, которая виделась мне неким подобием мясорубки. Я ощущал запах чабреца и чеснока, желудок сжимался и подгонял меня.
И тут, поспешно трюхая к казарме, я услышал у себя за спиной голос другого, который тоже вызвался – да, верно, слава богу – голос того, кто что-то смыслит в подобных машинах. Ибо – хотя в это трудно поверить – мне вдруг пришло в голову, что я скорей способен заставить паралитика припустить бегом, нежели починить неисправную машину. И потому я оценивающим взглядом окинул своего напарника; он не был мне знаком: настоящий, хоть и надломленный посредине бобовый стручок. Но вот нос у него – просто алебарда. Лицо его с крутыми, глубокими складками у носа и губ имело пронзительное, можно сказать, лихое выражение. Но он вполне мог оказаться механиком, монтером, слесарем. Я стал соображать, о чем он меня спрашивал. Не только мои ноги, но и мои мысли вдруг двинулись неуверенной, крадущейся походкой. И тут я тихо спросил у него, поскольку охранник был от нас шагах в десяти: о чем он только что меня спрашивал? И он повторил: «Кто ты такой, я хочу сказать: по профессии?» И я в ответ: «Ах, вот оно что! Я историк!», потом я решил, будто ему неизвестно, что это значит, и уже хотел объяснить. Но он опередил меня и прошипел: «Ну и придурок же ты!» Я испугался, а он еще через два шага: «Жеребец поганый, кто же теперь станет чинить этот чертов аппарат?» Я: «А ты сам, ты тогда кто такой?» – «Юрист, адвокат, чтоб ты знал, болван чертов! Вот что выходит, когда доверишься другому, а я уже делаю это второй раз в моей жизни». – «Ты что, вообще ничего в них не смыслишь, я хотел сказать: в машинах? У тебя что, не было автомобиля?» – подбадривающим тоном спросил я. «Быть-то был, но при машине был шофер! И жена! А вдобавок автомобиль – это вам не колбасная машина! Даже такой болван, как ты, должен бы это знать! Ты сам-то водить умеешь?» Я энергично замотал головой, я даже добавил: «Господи помилуй!» И тут, глядя на песчаную дорожку перед собой, ту, что вела мимо клумб к казарме охранников, я спросил: «Что нам тогда делать?» Он медленно обратил ко мне лицо: «Спроси лучше, что они с нами сделают», – после чего сплюнул. «Историк!» – повторил он и устало покачал головой. «Кому везет, тому и воробей в кошелек нагадит…» Мы разговаривали тихо, почти не двигая губами. Смеркалось. Я глубоко вздохнул и заметил, что весь дрожу. От холода, так сказал я себе. А потом, еще понизив голос и время от времени шмыгая носом: «А ты видел хоть раз такую машину? Я хочу сказать: когда мы сейчас войдем на кухню, мы ведь должны сразу подойти именно к ней».