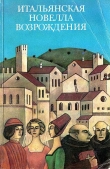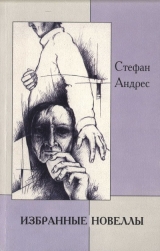
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
АМЕЛИЯ
Когда большой кабриолет небесно-голубого цвета медленно скользил в сторону Катени по прибрежному шоссе, унизанные бисером нити занавесок на дверях, призванных не пропускать внутрь мух, пришли в блестящее и звенящее движение, а люди, едва завидев машину, пробуждались от своей почти уже послеобеденной дремоты и говорили: «Маркиз вернулся!» Машина плыла мимо домов, сквозь орду восторженно ревущих мальчишек, как лодка на темной волне – по клавиатуре, состоящей из света и мрака, так что и сама она, то на ярком солнце, то в тени, казалось, вздрагивает. Когда же позади остались дома Катени, а кабриолет как раз подъехал к развилке, где от прибрежного шоссе отделяется дорога на Катени суль Монте, все и произошло: мужчины, стоявшие на краю поселка перед мастерской автомеханика, услышали металлический лязг и увидели, как машина Нарни неподвижно застыла на повороте. Лязг прозвучал для них будто выстрел стартового пистолета, и в мгновение ока крикливая и жестикулирующая толпа обступила голубой кабриолет, который пробил передним бампером невысокую каменную оградку и завис правым колесом над бездной, высоко над морской волной. Мужчины несколько раз окликнули маркиза по имени. «Нарни, Нарни!» – кричали они и трясли за плечо поникшую над рулем фигуру. Когда Нарни наконец поднял голову, механик снаружи ухватился за руль и вывернул его так, что собравшиеся могли теперь снова сдвинуть машину на шоссе. Нарни уронил прижатые к лицу руки и, наклонив голову, вполголоса принялся что-то втолковывать своей спутнице, которая сидела с закрытыми глазами и улыбалась своим мыслям, а мужчины тем временем глядели поверх обрушенной ограды в глубину, где разверстая пасть прилива угрожающе выставляла напоказ черные базальтовые клыки.
Нарни почувствовал, что должен как-то объяснить им случившееся. И тогда он хоть и прерывающимся голосом, но с улыбкой пробормотал: солнце как обухом по голове, он вдруг перестал видеть, словно и впрямь ослеп.
После этого объяснения Нарни вышел из машины и велел рыжеволосому механику, чтоб тот отогнал машину к себе в мастерскую.
Правую руку, из которой текла кровь, Нарни сунул в карман своих защитного цвета брюк-гольф.
– А с чемоданами как? – поинтересовался механик, вопросительно позвякивая автомобильными ключами, которые перебросил ему Нарни.
– Ах да, верно, чемоданы, конечно, конечно… – вид у Нарни стал какой-то растерянный, – но может… может, – он поглядел, моргая, наверх, туда, где среди маленьких белых домишек Катени суль Монте лежал замок, – может, мы так и оставим все в машине.
Когда механик со своей стороны возразил, что ремонт может занять немалое время, неделю, а то и больше, Нарни нетерпеливо отмахнулся своей длинной худой рукой и ответил:
– Ну ладно, тогда я пришлю за вещами.
После этих слов он, косо наклонив голову вперед, поспешно рассек стену любопытствующих, которая тотчас перед ним расступилась, левой рукой он, можно сказать, поволок за собой молодую даму, не иначе с единственной целью – как можно скорей укрыть ее от мужских взглядов. А два десятка катенцев глядели ей вслед совершенно одинаково: мрачно, почтительно и в совершенном восторге, какой только был предельно допустим по отношению к родственнице маркиза, – а ведь она, без сомнения, его родственница, эта юная дама: родственница из Германии, ради которой – и в этом все были согласны – ей-же-ей, стоит пострадать в чистилище – эти длинные ноги в белых брюках, походка все равно как у школьницы, и все-таки… Кстати – это заметил один из них – пуловер у нее был как раз под цвет машины, а другой, возвысив голос, добавил, что кабриолет был как раз под цвет ее глаз, механик же, словно испуганно, провел пальцами по лаку машины: и впрямь свежая краска.
После чего они объединенными усилиями закатили машину в мастерскую и разошлись по домам, мужчины и мальчики; колокола маленького собора торжественно возвестили полдень. Некоторые еще побродили по прибрежному шоссе, они желали собственными глазами убедиться, действительно ли маркиз со своей спутницей способен одолеть крутую лестницу, которая вела от края поселка прямо к замку, или он предпочтет дорогу на Сант Агату. И какое бы решение он ни принял, повел он себя несколько необычно и абсолютно необъяснимо: кто ж это ходит пешком, когда можно и подъехать, кто в раскаленный августовский день карабкается на Монте Випери, когда можно оказаться дома через пять минут? Почему бы тогда уж прямо не провести сьесту в духовке? То, что полезно для хлеба и для гадюк, христианину может только повредить.
Нарни – и это всем бросилось в глаза – ни разу не оглянулся на свою спутницу. Задрав подбородок, он вышагивал впереди – как слепой. Белая полотняная кепка косо сидела у него на голове, а короткие рукава его защитного цвета куртки выглядели как оборванные. Когда он шел вот так свесив руки, порой спотыкаясь и не глядя на дорогу, шел вплотную к домам, можно было подумать, будто он вырвался из огня и развалин, тем более что по правой руке у него все еще бежала кровь. Там, где начиналась уступчатая тропинка, он совсем остановился. И медленно обернулся к девушке, и люди услышали издали его голос, вот только говорил он по-немецки. Люди лишь сумели разобрать, как ее зовут, «Аня» – так обратился он к ней, громко обратился, один раз он даже выкрикнул ее имя. Но заметив, что они не одни здесь, оба быстро начали подниматься по лестнице – словно спасаясь бегством.
Дорога через поселок заняла от силы пять минут, и еще пять минут они после этого молча поднимались в гору, прежде чем он обернулся к ней и поглядел на нее, пожимая плечами и – до некоторой степени – растерянно. Аня глядела мимо него по склону горы. И запрокинув слегка отяжелевшую голову, она обегала глазами кучку белых сверкающих домиков, окруживших крутые каменные стены, про которые с такого расстояния только и можно было сказать, что они старые, просторные и, надо полагать, очень мрачные, как дымоход, через который унеслось в небо множество черных, недобрых времен. Присутствие церквушки угадывалось по наличию колокольни, она кротко притулилась у подножия забранных камнем террас, похожих, если глядеть со стороны, на угловатые кулаки, возносящие замок кверху, так что он царил над всем карстовым хребтом.
– Аня, – сказал Нарни умоляющим голосом. Она взглянула на него, словно очнувшись от сна. – Слушаю. – А кстати, почему он перед этим так на нее кричал? И успокоился ли он с тех пор? Она ведь тоже испытала страх, но только – он должен ей поверить – но только не перед пропастью, не перед морем, не перед смертью, а «так близко к цели, подумала я, так близко, как бессмысленно!»
– Бессмысленно? – он коротко хохотнул, словно она удачно сострила. – А подниматься в этакое пекло по склону – это разве имеет смысл?
– Почему ты тогда не взял такси?
– Такси? – Он поглядел на нее и печально покачал головой. Ну почему она ничего не желает понять? Когда они заявятся туда, наверх, – он с усилием воздел руку вверх – тогда, тогда, ну, тогда конец всему их путешествию.
– Хотя бы и так! – Она вызывающе мотнула головой.
Он подошел поближе к ней и склонил голову: уж раз она не желает поехать к его дяде, в Калабрию, у него есть и другая идея: в Порторико живет одна из его кузин, она разводит табак. Климат на Южном побережье очень хорош, политическая обстановка вполне спокойная.
– Ах так, – сказала она, странно выделив последнее слово, после чего быстро села. Сидела молча, спиной к нему, глядела вниз, на желто-красные крыши Катени суль Маре [25]25
Катени суль Маре и суль Монте – приморская и горная части городка (примеч. пер.).
[Закрыть]. Потом вдруг спросила:
– Но почему я должна ехать в Порторико, раз была с тобой в Амелии?
Он вздрогнул и недвижно застыл ступенькой ниже. Оба глядели на морской горизонт, что лежал, острый как нож, под небосводом.
Амелия на горе – окно ее комнаты над крышами – над городской стеной, просторная, холмистая земля – недолговечные краски. По вечерам взгляд из окна этого высоко вознесенного над землей дома вселял в нее столько уверенности и покоя, а вдобавок столько тоски, все сдвигалось ближе в лучах вечерней зари, все было сродни друг другу, все уходило в тот же сумрак, в ту же ночь. Пьеро стоял у окна, рядом, и шептал ей на ухо: «Космос, блаженный Бог!» Он говорил ей о Платоне, немного, лишь несколько слов, а она внимала, наслаждаясь звуком его голоса. Кто такой Платон, она так до сих пор и не знала, зато она знала, что мир бесконечно прекрасен и что все в нем тесно взаимосвязано – что в подобных сумерках внизу не может быть решительно ничего злого, что нельзя низвергнуться в пустоту, что, напротив, мы, сами того не сознавая, тоскуем по солнцу, ждем его скорейшего возвращения, ждем появления красоты, что нет у нас иных желаний, кроме желания объять прекрасное, раствориться в прекрасном, обручиться с ним. И что мы приобщаемся к нему в той же мере, в какой ощущаем его рост в себе, ибо лишь прекрасное, лишь божественное в нас может постичь прекрасного Бога. Все это она воспринимала без труда и теперь знала. Не к чему было даже размышлять, оно стояло перед ней, она видела это, оно сообщалось ей – его устами, которые она потому и целовала, целовала снова и снова, дальше он мог и не объяснять. Молчание, молчание – теперь оно было в ней: последний, догорающий пурпур неба – последняя, сереющая зелень на равнине, спокойное сияние его глаз, о да, «Космос, блаженный Бог!». И руки его, которые ее обнимали, были руками всей земли, всего мира.
А это пробуждение! Вдруг она видела себя в постели с широко открытыми, но спокойными глазами, ее разбудил, разбудил голос, проникший через растворенное окно – когда? – мужественный, очень отчетливый, торжественный и, пожалуй, старый, нет, не старый, а лишенный возраста – который, едва прозвучав, еще отдаваясь в ушах, уже смолк. Stella matutina, ora pro nobis! [26]26
Звезда утренняя, помолись за нас! (латин.).
[Закрыть]– только эти слова и пропел голос с интонациями богородичной молитвы, мелодия была ей знакома и, однако же, словно долетела из другого мира. Она оглянулась. Пьеро спал, но вот что явилось ее глазам: сияние, заполнившее всю комнату, и белая пелена, но тоньше и прозрачнее, пелена, как бы сотканная из света, словно край божественного одеяния затягивало в окно; простыни на постелях какое-то мгновение были еще белей, чем обычно, потом свет ушел в отдельные предметы. Она вскочила и подбежала к окну, глубоко перегнулась из окна, поглядела по сторонам, она искала голос, собственно, она искала человека, из уст которого прозвучал этот голос. Но под окном у нее только и был что садик, выжженный солнцем, окруженный высокой оградой, и был этот садик совсем пустой. За оградой все обрывалось в глубину, возле ее окна не было никакого другого окна, откуда мог бы донестись до нее голос. Вдобавок голос этот поднялся из глубины, из этого пустого, унылого квадрата, на котором скрещивались две дороги, цвел кустик маргариток и у самой стены возле калитки стояла бочка с водой. Куда же скрылся голос? Почему он пропел лишь один-единственный отрывок молитвы, почему именно этот? Она подумала про своего отца, который, еще когда жил с матерью, называл ее «Стелла». Бог весть почему, это имя казалось ему очень изысканным – и когда Аня бывала в церкви и ловила ухом этот призыв из молитвы, перед глазами всегда возникал ее бестолковый и несчастный отец, которого мать в свое время выгнала из дому. Но это был не его голос, и она не спала, и ничего не насочиняла. Она лежала, лежала, разбуженная этим голосом, посреди белого света, совсем не сонная, совсем счастливая, совсем легкая – до тех пор, пока она не увидела Пьерино – и вспомнила ту ночь. Когда сияние окружавших ее предметов исчезло, она перевела взгляд из обнесенного стенами квадрата, еще наполненного сумерками, наверх: утренняя звезда висела на сизо-сером небе – это была она, и, однако, она выглядела не так, как прежде.
Аня все стояла у окна, пока из-за холмов не выкатилось солнце, пока Пьеро не проснулся, не простер к ней руки и не пробормотал: «Аня» и еще «dolcissima», и потом, когда увидел, что ее постель пуста, испуганно вскочил и начал шарить глазами по комнате, пока не обнаружил ее у окна. Она спросила себя, а стоит ли ему рассказывать, что именно ее разбудило – подумала и не стала. Голос открыл ей нечто, о чем она уже и без того знала, хотя до последней минуты не желала знать. Она раскинула руки и со слезами подбежала к нему.
И вот теперь, сидя на своей ступеньке, Аня обратила лицо к Нарни – это было довольно утомительно, потому что он смотрел на нее сверху.
– Слушай, Пьерино, – сказала она и прочистила кашлем свой мальчишеский голос, – мы же не можем так и сидеть здесь.
Однако после этих слов она протянула руку к кустику тимьяна, сорвала пучок, растерла между пальцами и понюхала. Потом, уткнувшись носом в собственную ладошку, она сказала, что давно уже догадывается: он что-то от нее скрывает. С этими словами она встала.
– Да, – и, широко расставив ноги, он преградил ей дорогу, – так оно и есть, но если я тебе во всем признаюсь, ты дальше вообще не пойдешь. Со мной – дальше.
Он выжидательно взглянул в ее разгоряченное лицо, которое словно начало ссыхаться у него на глазах. Наконец она подняла тяжелые брови и сказала со всем доступным ей спокойствием:
– А вот это, дорогой Пьеро, ты должен был сказать мне раньше, перед Амелией. Теперь же – теперь ничего не выйдет.
– Да, я понимаю, – он кивнул, исполненный мучительного и глубокого согласия, – тогда, если тебе угодно, у нас остается в запасе еще два часа.
И они пошли дальше, дальше в гору. Нарни попросил Аню идти позади, потому что в это время года гора кишит гадюками. Он пойдет первым и будет разгонять змеюк камнями.
Аня поднималась в гору чуть наклонясь. Поначалу внимание, с которым она разглядывала каждый подозрительный корень, отвлекало ее от мыслей – но никого здесь не было, кроме ящерок, зеленые, сверкающие молнии, в пыльном кустарнике непрерывно потрескивало от их движений, казалось, будто гора вот-вот займется ярким пламенем. О, это солнце! Аня несла его на спине как тяжелую ношу. Выпячивая нижнюю губу, она обдувала свое горящее лицо. Перед собой она видела Нарни, не того, который, швыряя камни, поднимался перед ней по ступеням, а другого, из замковых покоев. Этот Нарни показывал ей замок, который она уже довольно хорошо знала по его рассказам, – они остановились перед большой цистерной, и снова она слушала его повесть о печальном назначении живущего в ней угря, призванного не допускать в воду личинки мух. Нарни, помнится, сравнивал свое собственное одиночество с одиночеством этого угря. Безостановочно поднимаясь вверх по лестнице, Аня все глубже опускалась в прохладные, темные воды своего сна наяву. В чем заключалось препятствие, мрачная сила, по-змеиному шипящее, тайное Нечто – ей вдруг по причинам горестно возвышенным стало безразлично, как нам становится безразлична окраска или узор гадюки после того, как та ужалила нас в пятку.
Это началось пять лет назад, тихим летним днем, когда перед их домом остановился джип американского офицера, когда Нарни в одежде военнопленного спросил у матери, не в этом ли доме проживает господин Майдингер. Господин Майдингер, то есть брат его матери? А узнав, что дядя скончался полгода тому назад, он не продолжил сразу же свой путь, как того хотел его друг-американец. Мать начала показывать дом. Но в то время, как американский полковник вообще не пожелал переступить порог дома, полуразрушенного бомбой в последние дни войны – да он же в любую минуту может рухнуть, твердил полковник, – Нарни осмотрел старинный фахверковый дом покойного дяди. А когда полковник Данте в тот же самый вечер захотел увезти Нарни дальше, Нарни сказал Ане и ее матери – этот американский итальянец не понимал ни слова по-немецки, – что его друг по профессии архитектор, что за войну он дважды попадал под завал и не хочет, чтобы его засыпало в третий раз… Полковник Данте и в самом деле уехал, но перед отъездом он заклинал друга – как Аня потом узнала от самого Нарни – ехать вместе с ним, предчувствия его никогда не обманывают, этот дом – ловушка. А Нарни в самый же первый вечер поведал о страхах своего друга и поглядел при этом на Аню и с улыбкой пояснил, что с превеликой радостью угодил бы в такую красивую ловушку. Ане тогда было всего пятнадцать, и старый Майдингер тоже иногда бросал на нее похожие взгляды, вот почему она сразу же поняла и взгляд Нарни. Но если старого Майдингера, когда он таким же манером становился ласковым и неприятно покорным, она немедля покидала и спешила под крыло матери, чтобы пожаловаться ей на «дядю», то теперь она ничего не сказала матери.
Дело было в один из ближайших вечеров, они, то есть Нарни, мать и она, сидели в комнате и пили вино из запасов Майдингера и были вполне довольны жизнью. Мать зачем-то вышла на кухню, и вдруг погас свет; электростанция была сильно повреждена в последние дни войны. И покуда они так вот сидели в темноте, Нарни рассказывал про свою мать, как трудно показалось ей в первые годы замужества вести хозяйство в замке Катени суль Монте, без электричества, без водопровода, где стряпали на древесном угле. А множество слуг в замке, множество покоев, темные переходы и лестницы. Однажды поздним вечером матушка в каком-то темном углу с разбегу угодила в объятия углежога и вообразила, будто это сам дьявол собственной персоной… И тут Аня услышала из кухни голос своей матери:
– А дьявол хоть был красивый?
И она засмеялась, и Нарни засмеялся вместе с ней. Между тем мать на цыпочках вошла в комнату и задула свечу, которую засветил было Нарни, и на удивление повелительным голосом приказала ему трижды обернуться вокруг собственной оси и потом застыть на месте. А когда она скомандует, он должен поискать их обеих и потом угадать, кого он схватил, мать или дочь. После уже Аня много раз пыталась снова пережить сладкий ужас, вызванный в ней предложением матери. Она с трудом встала. И наконец тихими шажками пробежала по ковру, к стене, и застыла. Вдруг его рука легла на ее плечо, скользнула ниже, на ее грудь, на мимолетное мгновение, потом она почувствовала, что ее обнимают, и ощутила его поцелуй на своих губах. Как раз в это мгновение зажегся свет и мать, выйдя из кухни, воскликнула: «Но господин Нарни, господин Нарни!» Аня выскользнула за дверь, в ночь, внезапно вспыхнувший свет и голос матери – ей чудилось, будто сейчас рухнет весь дом. Пробежав по садовой лужайке, в сторону реки, она услышала, как голос Нарни зовет ее: «Аня, Аня!» Она остановилась, оглянулась, увидела в светлом дверном проеме узкую тень – его фигуру, потом тень вдруг удвоилась – это мать! Да, мать подошла к Нарни и увела его обратно в дом.
Несколько дней спустя снова вернулся этот бестолковый полковник Данте, покачивая головой, он бродил по дому и наконец увез с собой Нарни. Когда под вечер Аня вернулась с урока музыки, мать, едва она переступила порог, спокойно сообщила: «Нарни уехал!» Но едва Аня с выражением ужаса вскинула голову, мать разгорячилась: пусть больше и не пробует показываться у нее в доме! Мужчина сорока лет, без сомнения женатый, когда внезапно гаснет свет в доме, где он принят на правах гостя, набрасывается на пятнадцатилетнюю девочку. Аня не слушала, что там говорит мать. Не произнеся ни слова, она поспешила в свою комнату.
Нарни так много рассказывал Ане про Катени суль Монте, про своих родителей, про слуг, зачем бы он стал скрывать, что у него есть жена, а может быть, и дети? Это означало бы, что он хотел ее обмануть, чего она никак не могла себе представить. Правда, черный блеск его глаз походил на пропасть, но на спокойную, доброжелательную, отеческую пропасть. Таким же печальным и прекрасным был и взгляд ее отца. Аня доверяла Нарни. Он пообещал написать ей, как только вернется домой. А на тот случай, что он, может быть, разболеется и не сможет сразу написать ей, он оставил ей на бумажке свой адрес. Его первое письмо пришло спустя две недели – и писал он так же, как говорил, как глядел, с неизменным присутствием ночи, с глубоким одиночеством, блеск и сверкание которого заворожили ее. Ане было непросто до конца понимать эти его письма, он часто ошибался, хотя вообще-то хорошо владел немецким, путал иногда значение слов, у него встречались даже грамматические ошибки, что она очень хорошо замечала, но даже сами эти изъяны делали его письма, которые, собственно, были не письма, а стихи, еще прекраснее, еще глубже, еще таинственней, а некоторые из них она так часто перечитывала, что знала наизусть целые куски.
В этот августовский день, когда она вслед за Нарни поднималась на Монте Випери, слова из писем пронизывали ее сердце, как пламя пронизывает дерево, как падающие солнечные лучи – сверкающий камень. И она повторяла шепотом его слова: «Солнце спалило скалы моей жизни» или «Ступни мои, как и мое сердце, изранены от нескончаемых поездок туда и обратно». Постепенно она начала понимать, что, когда Пьерино писал ей, он стремился не только творить стихи, но одновременно и зашифровать свои сообщения, чтобы третье лицо могло понять его мысли лишь если перед тем оно благодаря предшествующим письмам уловило взаимосвязь между этими строками об израненных ступнях, цветах, камнях и мертвых змеях, кольцах с печаткой и сотне других предметов, даже между описаниями погоды и природы. Она скоро угадала его намерение сделать их переписку с помощью поэтических иероглифов недоступной для всех остальных, причем она не только поняла его язык, но вскоре и сама попыталась им пользоваться. И чем лучше ей удавалось выразить ему свои чувства в этой образной маскировке, тем решительней изгоняла она мир других людей из того пространства, где они оставались вдвоем с Пьерино, – целых пять лет такое блаженное, такое глубокое уединение! Она приложила немало усилий, чтобы в один прекрасный день почувствовать себя вполне созревшей для общения с Нарни. Полная сомнений стояла она перед зеркалом, находя свой нос слишком толстым, подбородок слишком круглым, лоб слишком грубым, глаза донельзя глупыми. Она изобрела прическу, благодаря которой ее лоб был с одной стороны наполовину закрыт; достигнув семнадцати лет, начала красить ресницы, но не сразу, а постепенно, чтобы никто не заметил. С той же целью, иными словами – чтобы выглядеть привлекательнее, она читала ночи напролет, а каждое письмо, адресованное Нарни, переписывала раз по десять, не меньше, после чего в нем возникали фразы, которые она и сама бы не могла разгадать: фразы должны быть надломаны, с трещинами, как местность после землетрясения, тон писем должен стать холодным, выгоревшим, призрачным. Чтобы Нарни сказал себе самому, сказал Пьерино: «О, эта норна, этот сосуд запечатанный! Мы должны открыться, Пьерино, должны выпустить ее на свободу!» Да, она обратилась для него в голос. Вот почему он и мог написать ей: «Голос, который возносит меня, как ветер возносит сокола!»
Вся в воспоминаниях о том времени, когда она была для Пьеро голосом и расселиной в скале, гнездовьем его одиночества, его Iris Germanica [27]27
Немецкий цвет глаз (латин.).
[Закрыть]и небом за линией горизонта, Аня совсем забыла, продвигаясь сквозь шорох и хруст, что каждый шаг приближает ее к тому месту, где нечто, стоявшее между ней и Пьеро – возможно, это следовало назвать правдой? – ее поджидало. За пять лет, проведенных рядом с матерью, она выработала в себе способность пропускать мимо ушей тот определенный, нарушающий ее мечты внутренний голос. Тем более что за последние два года не проходило и недели, чтобы мать не подвергала ожесточенным нападкам ее несокрушимую веру в Пьеро, но Аня отгоняла все сомнения.
А тут он вдруг объявился – однажды днем – однажды вечером – не в мае, как это было первый раз, а в июне, когда у нее день рождения, не в самый день рожденья, но почти в него – двадцатый день рождения! И вот когда она вбежала в дверь, словно несомая его голосом, он стоял, онемев от волнения, посреди комнаты, на том самом месте, где он тогда поймал ее в темноте и поцеловал. И она на глазах у матери и господина Шнидера из Милана просто упала ему на грудь и горько заплакала. А когда он сделал движение, чтобы заглянуть ей в глаза, она еще глубже зарыла свое лицо у него на груди, можно сказать, засунула голову ему под мышку, и все повторяла, все повторяла его имя и что теперь они всегда будут вместе, всегда, до самой смерти. Она еще услышала свой собственный голос, когда тот произносил: «До самой смерти», после чего от стыда перед матерью и спутником Нарни выскочила из комнаты, в ночь, но не так, как пять лет назад, она отнюдь не была растерянна, разве что от счастья. Она упала под одно из вишневых деревьев, в еще не скошенную, высокую траву, уловила сенной запах с почти убранных полей и рукой, хватающей звезды, ощупала мелкие, гладкие вишни, тогда как левая ее рука, словно призывая к спокойствию, лежала у нее на груди.
На другой день они проводили круглого, лысого господина Шнидера на миланский поезд, а восемь дней спустя они сели с Нарни в большую машину и тоже направились к югу. Впоследствии она так бы и не сумела объяснить, как они с Нарни, а прежде всего как Нарни с матерью обсудили этот, без сомнения, слишком поспешный отъезд. Потому что все восемь дней Аня проплясала, пролетала, проспотыкалась.
Во время всей поездки вплоть до утра в Амелии ее несло над землей чувство радостного возбуждения, удивленная улыбка неизменно лежала на ее чуть зарумянившихся щеках, и в любую секунду ее низкий альт, который она обычно воспринимала как недостаток, мог взорваться звонким смехом. При этом она запрокидывала голову, и часто, если не сидела как раз в эту минуту подле Нарни в машине, а значит, находилась в каком-нибудь отеле, на какой-нибудь площади, мосту, колокольне, испуганная порывами счастья, прижимала руку к губам и просила прощения у Нарни, который всякий раз смотрел на нее с некоторым снисхождением и растерянностью: «Я такая счастливая, такая счастливая!» Эти слова она произносила очень тихим голосом и чувствовала, что, когда она говорит о своем счастье, на нее накатывает головокружение – она словно летит, а когда говорит, что счастлива, воздух, который ее несет, внезапно проваливается под ней, она летит вниз, и ощущает это даже желудком… Пьеро покупал ей платья, украшения, произведения искусства. Когда она, забыв про осторожность, издавала перед какой-нибудь витриной крик восторга, было уже поздно. Однажды – они были уже в Неаполе – короче, уже недалеко от его родины, он, передавая ей маленькую черную статуэтку юного Дионисия, сказал, что ему надо спешить, ведь вполне может быть, что боги отмерили их любви короткий срок… Когда она, в ужасе распахнув глаза, начала его выспрашивать, он поторопился объяснить это тем, что старше ее на двадцать лет. Эти напоминания повторялись после ночи в Амелии все чаще и чаще, порой они были одеты в образы, порой сверкали перед глазами Ани своей неприкрытой наготой, словно хирургические инструменты, из-за необдуманного движения открытые либо частично, либо просто минутой раньше, чем надо. Однажды она проснулась среди ночи и на какую-то долю секунды увидела лицо Нарни, низко склоненное над ней, но в то же мгновение свет погас, верно, Нарни держал в руках выключатель, а палец не снимал с кнопки. И выражение его лица – уж столько-то Аня успела разглядеть – внушало страх: настолько оно было сосредоточенное, а исполненные одновременно печали и даже муки устремленные на нее глаза горели черным огнем. Она не стала задавать вопросов, она ничего не хотела знать о том, что его лишило сна, а взгляд его глаз сделало таким мрачным и непонятным. И если он не стремился самым прямым путем и как можно скорей попасть домой, в замок, если он предлагал ей всевозможные достопримечательности, водил ее на церковные и народные праздники, которые всякий раз оказывались такими замечательными, что, по его же заверениям, ради них вполне стоило сделать крюк километров в сто, или даже когда он рассказывал ей о сказочно богатом дядюшке из Калабрии, она давала ему на все это неизменный ответ: «Ах, Пьерино, я хочу только к тебе в замок» или «Не мешкай, Катени ждет нас». Тогда он, покачивая головой, устремлял на нее неподвижный взгляд, выставлял свои ровные белые зубы под щеточкой усов и боязливо улыбался, боязливо и осторожно, словно она – какой-то злой, кусачий зверь, готовый прыгнуть на него. И однако же ему снова и снова удавалось соблазнить ее провести ночь в «на редкость элегантном» либо в «старинном», либо в «прекрасно расположенном» отеле, прежде чем они наконец сегодня днем прибыли в Катени суль Маре. И вот теперь ее мечте предстояло выдержать испытание.
Он поднимался метров на двадцать перед ней, снова и снова нагибался, порой совсем скрываясь в кустарнике, подбирал камни и швырял их в известковые ступени. Жесткий, торопливый и раскатисто пустой звук внезапно разорвал тишину, а затем был так же внезапно снова поглощен ею. Пусть гоняет змей – но в такси они уже давным-давно были бы наверху, пусть он наведет наверху порядок, да-да, порядок, и низвергнет злого идола, который вознамерился им помешать… А может, это всего лишь старенький, впавший в детство дед, которого он стыдится.
После часа ходьбы, когда Аня, задыхаясь, прищуривала глаза и замедляла шаги, она уже могла различить балконы на фасаде замка. Но она настолько взмокла от ядовитых объятий жары и усталости, что мысли мелькали, не задерживаясь. Вода и кусок ровной земли, конец лестницы, а когда лестница кончилась, конец посыпанной острым гравием тропы, терзавшей подошвы неожиданными и неравномерными уколами своих камней, – поначалу казалось, будто в этом и заключено все, чего ей хотелось в этот дрожащий от зноя, стеклянный, смертельно безмолвный полуденный час.
Солнце, пылая, перевалилось через полдень, когда дорога с западной стороны влилась в полукруглую бухту. В ходе тысячелетий водопад все глубже вгрызался в известняк. Здесь возник круто обрывающийся, открытый в сторону моря амфитеатр, на склонах которого молочай, репейник, дикие оливы и причудливые, словно состоящие из одних голов опунции, неподвижные и растрепанные слепящим солнцем, нависали над заросшей пропастью – над силуэтом скал, над морем, которое, казалось, все состоит из расплавленной глазури.
Теперь дорога стала в метр, а то и в два шириной и наверху шла как раз по краю пропасти. Слева какая-то гора создала завал: здесь скала множеством кусков пробилась сквозь скупую поросль. Аня остановилась, разглядывая каменные глыбы: одна стояла наподобие скошенного стола, другая – как неуклюжий шкаф. Каменные торсы, где грудь, где ноги валялись среди змеиной травы и уже отцветшей арники, исполинские тела, у которых из пупков и ртов торчали пересохшие кустики травы. Нарни тоже остановился. Они вслушались. Будь хотя бы слышен треск цикад, но нет, в огромном пространстве среди скал, символизируя пустоту, раскинулось молчание. Нарни глядел, прищурившись, по сторонам: только свет, отбрасываемый поверхностью скал, сверкал и слепил взгляд. А вот жара давала себе собственное движение, как физическое тело, все наполняя своим трепетом, невыносимая жара. Шум водопада здесь не был слышен, он беззвучно ронял свои капли по замшелым склонам, в бездонную пучину.