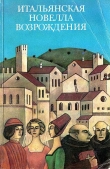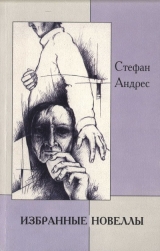
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Мой сосед пометил эти границы двумя рядами проволоки, простой, не колючей. Да и к чему? Закон и без того извивается словно дурацкая колючая проволока вокруг каждого участка, я хочу сказать – закон о следовании за дичью. Закон такой же дурацкий, как и его название. Следовало бы говорить: закон о преследовании дичи, но и от этого он бы не стал менее дурацким. Ты только представь себе: этот закон запрещает мне преследовать подранка за пределами моего участка и забирать его оттуда. Допустимо это лишь в том случае, если между мной и моим соседом в письменном виде уговорено, короче, если подписано соглашение, все равно как между двумя государствами, уговорившимися о двухсторонней выдаче эмигрантов.
Во все время, покуда Хадрах вел свой рассказ, я видел блеск пополуденного солнца на поверхности реки, белые прогулочные пароходики, влекомые на буксире, или подталкивающие друг друга грузовые суденышки и белые, пенные бороды, которые закручивались вокруг корабельных носов. Я усиленно отыскивал всевозможную пищу для глаз, ибо после того, как Хадрах начал свою повесть, не мог смотреть на него из-за крайнего возбуждения. Этот четвероногий убийца мало меня интересовал, в моих жилах не течет охотничья кровь. И однако же я радовался какой-то с каждой минутой все более для меня подозрительной радостью тому, что рука охотника дрогнула и олень спасся за границами его участка. Вне всякого сомнения, это было злорадство. Я даже одобрил в глубине души этот закон о преследовании дичи и осудил закон о выдаче эмигрантов. Поэтому я спросил у него, изгнав из своего голоса всякое подобие выражения:
– Значит, теперь ты хочешь забрать свою добычу?
– Само собой, что ж ему, так и гнить во владениях Сильверберга?
Все еще не отрывая глаз от реки, я почувствовал, что теперь Хадрах переходит на меня:
– Не начинай только как Маура! По-моему, она не то вчера вечером, не то сегодня утром связалась по телефону с каким-то юристом. И перед тем, как мне уезжать, сообщила, что это прямое нарушение закона об охотничьих угодьях. И что господин Сильверберг принесет на меня жалобу, так что поберегись! – Хадрах попытался воспроизвести встревоженный и умоляющий голос Мауры, потом засмеялся и, покачивая головой, продолжал: – Она не могла сказать это всерьез. Если этот Сильверберг подаст на меня в суд, я вполне готов заплатить несколько марок штрафа, козел того стоит, я хочу сказать, его рога, его убийственные пики, ведь все дело в них. А Маура этого, конечно же, не понимает. Но вообще-то я не могу понять, из-за чего она так заводится. Очень даже может быть, как она сообщила мне с загадочной улыбочкой, олень лишь слегка ранен и на будущее перебрался жить в чужие угодья. А представь себе, что она мне сказала, когда я уже садился в машину, прямо в ухо сказала почти шепотом: «Мне страшно, Ганс Вольфганг!» Попробуй тут не осатанеть от злости! Почему страшно!? Чего она боится? Последствий нарушения правил преследования, которым я не последовал!?
И Хадрах, снова успокоившись, поведал мне, что еще позавчера вечером отправил Сильвербергу длинную телеграмму, где обрисовал неудачу, постигшую его при отстреле, и просил адресовать ответ на его охотничий домик. Сам Сильверберг в настоящее время проживает наверху в своем рубленом доме, который поставил в глубине леса сразу после своего возвращения из Америки.
– Так что у Мауры и вообще не было причин тревожиться. Так я ей и сказал. Не сомневаюсь, что за истекшее время Сильверберг опустил ответ в мой почтовый ящик или передал его в устном виде через егеря. Как бы то ни было, у него просто нет другого выхода, он должен уступить мне мою добычу – или по крайней мере рога, – не то он просто окажется вне… навсегда окажется вне…
Голос Хадраха оборвался, он явно не мог сказать, вне чего может оказаться Сильверберг.
– А ты с ним знаком? – спросил я.
Хадрах отрицательно помотал головой и выглянул в окно со своей стороны, словно за окном вполне мог находиться Сильверберг, после чего схватился за диктофон.
– А давно вы соседствуете участками? – Мой голос должен был звучать подчеркнуто безобидно.
Хадрах открыл свой диктофон и, уже колдуя над кнопками:
– Давно, очень даже давно, еще с до войны.
– И ты до сих пор его не видел? – В моем голосе прозвучало недоверие, но Хадрах сохранял спокойствие, словно и не заметив шпильку, содержащуюся в моих словах. Потом он покачал головой, словно ему не совсем было понятно, что же такое происходит с диктофоном. Затем он начал рассказывать о довоенных временах. Он тогда работал в министерстве экономики и, разумеется, не так уж много зарабатывал, чтобы всерьез заниматься охотой. Поэтому они поделили одно угодье на двоих с одним истовым членом партии, с которым через несколько лет после катастрофы произошел несчастный случай, – «перед этим он, к слову сказать, застраховал свою жизнь». Хадрах засмеялся как-то через нос:
– Он был любящий отец семейства, а вообще-то говоря, изрядный негодяй. Поздороваться с евреем-соседом, а то и вовсе пригласить в гости было для него делом совершенно немыслимым. А потом Сильверберг, еще прежде, чем я с ним познакомился, вздумал в один прекрасный день махнуть через большую воду, то есть сделать единственное, что ему оставалось.
– Да уж, – тихо сказал я.
– Так что я и в самом деле его не знаю, – пробормотал Хадрах, как бы дивясь на самого себя, – я вполне мог повстречать его случайно в лесу или на дороге, но как такового я ни разу его не видел. Да и не все ли равно? Я никогда не придавал значения всем этим бредням о благородстве породы, ни еврейским, ни немецким. Так что мне себя упрекнуть не в чем.
Сперва я рассмеялся над этой формулировкой, потом обратился к нему с вопросом:
– Но почему ты и теперь – я хочу сказать, когда он вернулся обратно, – почему ты и теперь не выбрался с ним познакомиться? Вопрос о праве на преследование дичи тогда бы вообще не возник.
Хадрах посмотрел мне прямо в глаза, из-за пристальности взгляда даже наклонившись вперед. Потом он отвел лицо, кивнул и промолвил «Ага!», после чего в обычной своей грубоватой манере продолжал:
– Познакомиться… прикажешь мне приглашать в гости этого мелочного торговца только из-за того, что он еврей? Хотя кроме тебя есть и еще один человек, который придерживается того же мнения. Странными проблемами вы забиваете себе голову, вы оба, совсем как молодежь. Познакомиться? Да я вообще ни с кем больше не хочу знакомиться. С самим собой – и то не хочу. А вдобавок это и вообще невозможно. Знаком ли я, к примеру, со своей собственной женой? Как по-твоему? А может, оно так и лучше – не быть знакомым с самым близким тебе человеком? Я во все времена вел себя очень осторожно. – «Очень осторожно» он повторил несколько раз, рассеянным тоном, словно был всецело занят техническими неполадками в диктофоне, хотя техника эта была очень проста, да и управлялся он с ней, как я мог заметить, вообще не глядя.
Ну, короче говоря, он возился с кнопками, покачивал головой и, обнажив в наигранной улыбке крепкие зубы, задал себе и мне такой вопрос: «Что, собственно говоря, Маура вообще имела в виду?» Он постучал по диктофону. Сегодня утром, одеваясь, он, наполовину из любопытства, наполовину чтобы угодить Мауре, ненадолго включил его, но потом снова выключил, уж слишком торжественным тоном все это говорилось – да и вообще! Взять хотя бы название «Коронованный зверь»!
Я повторил название, проверил его на слух и хотел поразмыслить над его значением, но тут Хадрах спросил:
– А вообще-то ты знаешь эту историю? Маура утверждает, будто существует такая легенда.
Лично я эту легенду не знал. Хадрах сидел, склонившись над диктофоном и поставив его на откидной столик, за которым обычно работал по дороге. И голосом, который стал дребезжащим и тягучим от полного непонимания того, что наговорила на пленку Маура, он начал рассказывать о некоем византийском императоре по имени Василий, которому однажды перестала подходить по размеру его корона с лилиями – она слишком глубоко съезжала вниз по его седым волосам.
– В чем же дело? – задались все вопросом. Да и святая икона отреагировала как-то необычно. Нарисованная на ней Богоматерь перестала улыбаться, потому что ангелы со своей стороны перестали отводить с ее лица некое покрывало, понимаешь. А я изволь все это выслушивать. Император, значит, бегает и вещает о некоем звере, а в результате вся Византия начинает так его называть, поскольку этот самый Василий, до того как заделаться императором, был простой крестьянский мальчик родом из Македонии, короче, для знатных византийцев и в самом деле зверь, увенчанный короной. Но император не удовольствовался подобным толкованием, что в общем-то нетрудно и понять. Но как все это прикажете понимать мне? Да еще в гардеробной? Я не ношу на голове короны, ни с лилиями, ни без, шапка моя мне до сих пор не велика, и картины у меня нет, с которой ангелы должны отводить покрывало, и евнухи вокруг меня не толпятся, и варяги-стражники тоже нет. И пусть даже мой отец был бедным крестьянином из Эйфеля, императором Византии я так до сих пор и не стал. Спору нет, на охоту я ходить люблю – ну и кой-какой успех у меня тоже был, что было, то было… Если отвлечься от того, что вместе с этим престранным дорожным провиантом – так она это изволит называть – Маура запустила мне вошь в голову. Вот я и спрашиваю себя, что это за Василий такой и что за коронованный зверь. Василий доходит до того, что желает проскакать верхом на этом звере. Ну и глупый же он человек, вся Византия хихикает по адресу этого дюжего императора, у которого вдруг усохла голова, а теперь он бегает, пророчествуя повсюду, и при каждом удобном случае поясняет, будто, во-первых, он ведать не ведает, что это за коронованный зверь такой, во-вторых же, твердо решил скакать на нем отважно и богобоязненно, ну а в-третьих, он не знает, куда именно скакать.
Я невольно засмеялся.
– Чего это ты так разволновался? – спросил у него я. – Этот царственный недоумок явно произвел на тебя впечатление, или, вернее сказать, его коронованный зверь. Включи диктофон, признаюсь, ты возбудил мое любопытство.
– Ну ладно, – Хадрах попытался улыбнуться, – только не с самого начала, не то я запутаюсь.
И снова в нашей машине зазвучал голос Мауры, чуть хрипловатый из-за усиленного курения, мрачный, самодовлеющий голос, на дно которого ушла Кетхен из Хайльбронна, хотя еще и не совсем умершая.
«Странно, – думал я, глядя из окна на мрачный, однотонный ельник – мы находились как раз на высокогорном шоссе вдоль гребня Хунсрюка, – странно это близкое соседство гигантских противоречий, жестяное чудище, произведенное по ту сторону океана, скользит почти неслышно, как тень грозового облака, по этому шоссе, через этот перевал среди высокоствольного елового леса, который для нас остается неизменным, с какой бы скоростью машина ни наматывала на колеса ленту асфальтового шоссе, а тем временем женский голос, нимало не взволнованный вращением колес под нами, со спокойствием поистине иерархическим и сдержанной глубиной являет нам Древнюю Византию вне времени и пространства».
«В тот день император снова повелел снять с него корону с лилиями и вместо нее сомкнуть на висках диадему. Он не стал поклоняться Богородице, а вместе со своей свитой выехал в загородные владения. На другой день император предполагал парфорсную охоту, как он им сказал, а потому уже с заходом солнца удалился в свои покои. Белокурые же варяги, которые подобно изваяниям несли караул перед опочивальней императора, вскинув на плечо топорики, могли слышать его шаги далеко за полночь. Ноги императора описали множество кругов вокруг ложа. Губы же его бормотали, порой тоном растерянного вопрошания, которое вздымалось до слов молитвы, порой же отвечая на собственные вопросы пророческим толкованием и в сотый раз повторяя одни и те же слова: „Увенчанный короной зверь отнесет тебя к неведомой покамест цели“.
Так говорил его крестный отец, могильщик из маленькой македонской деревушки, когда маленького Василия погружали в крестильную купель. Слова старика были тогда восприняты как обычная болтовня могильщика и вскоре позабыты. Когда Василию сравнялось двадцать лет, престарелый могильщик снова отверз уста, указал на Восток и шепнул Василию на ухо: „Иди, иди далеко-далеко, пока не прибудешь в город городов. Иди, пока не упадешь. Тогда тебя поднимут, и зверь-венценосец отнесет тебя к неведомой пока цели“. Больше старик ничего не сказал, ибо умер. А молодой крестьянин Василий, облаченный в грязные шкуры, собрался в дальний путь».
Голос на пленке вдруг исчез. Палец Хадраха аккуратными, поглаживающими движениями прошелся по кнопке-выключателю.
– Ну, что ты на это скажешь? – спросил он, высоко подняв брови.
– Хорошо бы узнать, что будет дальше, – ответил я и не без раздражения добавил: – Но если ты будешь всякий раз, когда тебе заблагорассудится, нажимать на кнопку, мы сможем только строить догадки по поводу этого коронованного зверя.
Хадрах фыркнул.
– И при этом, – он поднял довольно тяжелый аппарат и слегка встряхнул его, – и при этом здесь уже содержится все, как в яйце, вполне готовое «К неведомой пока цели»… Маура эту цель уже знает, и венценосного зверя, и цель Василия, хотя из этого отнюдь не следует, что судьба лично ее о том проинформировала. Просто она рассказывает, что некогда произошло – но какое мне до этого дело?
Я перебил его:
– Но ведь именно по этой причине все можно дослушать до конца и не нервничать.
В аппарате щелкнуло и Маура продолжила свои речи:
«Он прибыл в город Константина и рухнул неподалеку от Золотых ворот, у входа в монастырь Святого Диомида, после чего очнулся от подобного смерти сна, укрытый парчовыми одеждами. То настоятель монастыря распростер богатый полог над спящим, на лбу которого он прочел сложившийся из пота и пыли знак избранности. И все, что с той минуты ему ни предлагали, Василий признавал своей целью, благо она была ему до сих пор неведома. В единоборстве он сумел одолеть богатыря из Болгарии; он объездил для императора Михаила коня, который считался неукротимым; он принимал во дворце подарки и рабов, присылаемых ему знатными женщинами; он стал шталмейстером, полководцем, соправителем, зятем императора. И теперь, в такой близости к трону, он возомнил неизвестную цель познанной. Коронованный зверь, оседланный Василием, – уж не была ли это Римская империя? Бывший объездчик, подобно Юстиниану, даровал законы своим подданным; силач наставлял опытных строителей; подобранный в пыли попрошайка наполнил казну Византии богатствами, собранными с половины Земли. Однако глаза нового космократа с каждым годом все больше и больше принимали выражение человека, который, привстав на стременах, может заглянуть за край неба. Словом, это было время, когда он искрошил пророчество могильщика на отдельные изречения оракулов. „Зверь-венценосец“ – так теперь называл его народ, но он лишь улыбался одинокой улыбкой, слыша это примитивное толкование».
И снова в магнитофоне что-то щелкнуло, и голос Хадраха словно поглотил голос рассказчицы, он проворчал:
– Из-за одних только подробностей крайне увлекательно, не будь он таким невыносимо занудным, этот зверь. Интересно, что имела в виду наша добрая Маура, подсунув мне этот текст? Как по-твоему? Обычно вся духовная пища, которую она, разжевав, записывает на пленку, полна намеков: чтобы варвар от цивилизации всякий раз чувствовал себя словно у сосцов культуры, либо какая-нибудь религиозная мысль в гомеопатическом разведении закапывается поэтической пипеткой человеку, у которого нет времени даже подумать о единственно необходимом, или в дело вмешивается врач, твой друг и помощник… Постой, я вот что подумал… – голос Хадраха дрогнул, он поспешно обшарил все свои карманы, – у тебя сигареты случайно не найдется?
Когда я ответил, что, как ему известно, я уже много лет не курю, он резким движением сдвинул влево стекло, отделявшее нас от шофера, и приказал тому кратчайшим путем доставить нас в какое-нибудь кафе, чтобы купить там сигареты, потом вернул стекло на место и, словно обессилев, отвалился на подушки.
– Черт побери это вечное переодевание. Да, я знаю, ты больше не куришь, Маура тоже бросила курить с тех пор, как я ездил в Гонконг. Так что я хотел сказать? A-а, вот: во всем, что Маура в последнее время делает и не делает применительно ко мне, есть скрытый подтекст. Неприятное состояние. Я все вижу, а воспринимаю лишь то, чего хочу сам. Но тысяча чертей – какую цель она преследует, рассказывая мне про этого Василия? Признаюсь тебе: если такой деятельный и сильный мужик не может выкинуть из головы болтовню покойного могильщика, на кой мне это сдалось?
И тут Хадрах без всякого перехода начал рассуждать о своем дне рождения и о том, как ему, по сути говоря, легко разменять седьмой десяток. «Это даже и не возраст», – пробормотал он и смолк. Его поседевшая, некогда черная, массивная голова лежала на красном подголовнике. Закрыв глаза, он начал самым низким из своих голосов: «Amor fati! [29]29
Любовь к судьбе (латин.).
[Закрыть]Что мне за дело до оракулов и заклинаний, предостережений, почестей, разочарований?!» И вдруг, словно в беспамятстве, он съехал по гладкой коже сиденья, и лицо его вплотную приблизилось ко мне. Он оскалил зубы в гримасе, о которой трудно было сказать, чем она разрешится: смехом или слезами. Но он всего лишь покачал головой, посмотрел прямо перед собой и сообщил, что ни его дочь, ни его сын не приедут к нему на день рожденья. «Цилли развлекается где-то на Ривьере и подвернула ногу, катаясь на водных лыжах, а Петер – подумать только – за окошечком в операционном зале лондонского банка – тоже подвернул ногу. Ну и пусть, могут не приезжать. Я только одного не могу им простить – что оба настолько лишены фантазии и не могли придумать более убедительное извинение и – уж столько-то чуткости дети вполне могли бы проявить – не пожелали даже уговориться друг с другом. Но дети и не бывают чуткими, когда речь идет об их родителях. Радуйся, Петер, благодари судьбу, что у тебя нет детей. Проходит много времени, прежде чем ты сможешь по-настоящему их разглядеть, по-настоящему, не питая иллюзий. Кстати, Петер вместе с Маурой подарил мне твою картину, я уже успел – хоть и не положено – ее увидеть. А Цилли прислала мне доску, к которой приделан стоячий воротничок, а в нем плавает фотография какой-то русалки, не самой Цилли, это бы еще куда ни шло, нет, какая-то незнакомая задасто-грудастая блондинка, и кроме того, к доске приклеено много всякой всячины, даже птичьи перья, вата бытовая и – в общем, черт побери! За это она якобы выложила несколько тысяч марок… И Цилли сообщает мне об этом – причем она пытается подать свою откровенную наглость как наивность, – а на самом деле, чтобы намекнуть мне, насколько выше должна быть сумма очередного чека. Ну ладно, этот воротник я подарю первому попавшемуся музею современного искусства, я слыву знатоком и меценатом, так что тут все будет о’кей. Понимаешь, я не хотел видеть детей такими. Вспомни Иоганна Вольфганга Гёте: „Мы не можем наклеивать детей как коллажи, итак, Amor fati!“ – Он снова откинулся на подушки и смолк. И вдруг я ощутил прикосновение его руки к своему колену: – А ты, Петер, ты мне что подарил?»
Я не мог ответить, голос у меня застрял – его нежно призывающая к дружбе рука меня напугала. Я поспешно наклонился к своему чемоданчику, открыл его, достал оттуда тубус и показал ему свою выполненную в цвете гравюру со всевозможными аистами на ней.
– Ах, – вздохнул Хадрах и, бросив беглый взгляд на мой подарок, снова откинул голову на подушки: «Ciconia, ciconia», – шепнул он, словно пытаясь припомнить начало старой, полузабытой песни, затем, уже более громким голосом и снова бросив взгляд на мой подарок, продолжил: – «Jabiru mycterica! Mycterica americana – и серьезный, мудрый марабу».
Гравюра имела отношение к нашему общему прошлому, когда мы с ним затеяли большую книгу про птиц, «книгу», как писал мне однажды Хадрах, «книгу, похожую на волшебное зеркало, чтобы читатель при чтении ее сам взлетел на воздух, чтобы строил в мечтах хитроумные гнезда, а в глазах у него чтоб неизменно порхали колибри», ну и тому подобное.
Я прислушался. Мотор гудел так тихо, что из этого вполне можно было сочинить сказку, а силу, которая приводит в движение машину, вообще выкинуть из головы. Может, его притягивает либо отталкивает что-то другое – все равно как наши мысли. И пробудясь от этого мечтательного вслушивания, я сказал:
– Знаешь, я никогда не верил в самостоятельное движение мыслей. Ими движет не понятие, а воля, желание…
Хадрах подхватил:
– Ты хочешь сказать: цель. Но ведь считается, что цель нам неведома. – Он тихо засмеялся, но вскоре умолк. Мы просидели так с полминуты, может, и того меньше, каждый погруженный в свое молчание. Изредка сквозь убегавшую вниз просеку среди елей, на склоне противоположной гряды холмов мелькало золото спелой ржи. И белые, прямоугольные пятна домов. Выше – голубые, шиферные крыши деревень, почти всосанные голубизной неба, так что дома приобретали странный, средиземноморский оттенок. Я наслаждался неопределенностью места. Потом полог из елей снова закрывал вид. И наконец бензоколонка. Шофер выскочил и сбегал за сигаретами. Из-за угла трактира, блиставшего белизной на фоне насоса, вышла стайка любопытствующих кур, предводительствуемая огненно-красным петухом.
Мы с Хадрахом созерцали оперенную процессию, которая остановилась по ту сторону канавы и встретила нас оглушительным кудахтаньем. Нажатием кнопки Хадрах опустил разделительное стекло и потянулся за сигаретами.
Но прежде чем раскурить первую – горящую спичку он держал в руке, отодвинув от себя, – его губы почти выдохнули протяжный, мягкий звук. И лишь после этого он зажег сигарету, глубоко затянулся и спросил:
– Вот куры, которые сейчас вышли из-за угла, ты обратил на них внимание? Но это были не те куры, которые … слушай меня внимательно – этой ночью я видел какой-то сон, и когда увидел кур, вспомнил и свой сон.
Итак, во сне Хадрах оказался у себя, в небольшом загородном имении, которым обзавелся, чтобы постоянно иметь чистые овощи, выращенные без примеси химических удобрений, и свежие яйца от кур, которые день-деньской разгребают в поисках корма луговину. Когда Хадрах начинал рассуждать про замечательный желток от своих «крестьянских кур» или об окороке, который его арендатор должен был коптить для него старым отцовским методом, никто бы не поверил, что имя этого человека тяготеет над многими как ночной кошмар или того хуже – как угроза лавины. Итак, во сне он отправился в свое имение, чтобы запастись дорожным провиантом, «дворцовым провиантом», как они это называли. Человек, шагающий рядом, толкал перед собой тачку, на которой были разложены всевозможные продукты. Кто именно толкает тачку, Хадрах определить не мог, поскольку человек все время шел к нему спиной. Когда же Хадрах завернул за угол амбара, навстречу ему вышло целое войско всевозможных птиц: пингвины, страусы, журавли, фламинго, казуары, но прежде всего – туканы с огромными, хромисто-зелеными, желтыми или красными клювами, они вышагивали на своих мощных ходулях словно наездники, впиваясь когтями в землю. Словом, перед ним плыл пестрый поток перьев, белизна аистов и журавлей выглядела на этом фоне как прибойная волна и гребешки на ней.

«…птицы бредут на север, но не за тем, чтобы отыскивать новую среду обитания, у этой кочевой птичьей рати такая способность заложена в крови. Узнал же Хадрах следующее: близится конец света. И по птицам он мог себе представить, как это все произойдет: жизнь просто утечет».
Хадрах остановился. Хотя птичий поток подплывал тихо, почти беззвучно, да и сильно потемневшее небо наполнилось мрачным молчанием, Хадрах услышал – а изнутри или снаружи, он бы сказать не мог, – что жаркие зоны покрылись льдом и все эти птицы бредут на север, но не затем, чтобы отыскивать новую среду обитания, у этой кочевой птичьей рати такая способность заложена в крови, узнал же Хадрах следующее: близится конец света. И по птицам он мог себе представить, как это все произойдет: жизнь просто утечет. Но к чему тогда припасы, спросил себя Хадрах. И он повелительным голосом окликнул человека с тачкой, который уже отыскивал себе дорогу среди пестрой птичьей стаи, и велел поворачивать, поскольку им уже больше ничего не надо. Но человек с тачкой продолжал свое движение через беззвучный поток крыльев и голов. Тогда Хадрах начал раздеваться: пиджак, брюки, белье, в самом конце – носки и ботинки, и каждую вещь по отдельности он бросал в пернатый поток, который омывал ее со всех сторон и увлекал за собой. Ибо птицы, находившиеся близко к нему, едва Хадрах зашагал между ними, приняли его направление, и внутри этого пестрого потока возникло встречное течение, словно улица. Под конец, когда Хадрах уже все с себя снял, в его груди возникла песня, литургическое песнопение, хорал – он могучим голосом завел Те Deum laudamus [30]30
Тебя, Господи, хвалим! (латин.).
[Закрыть], но без малейшего усилия, страх и тяжесть покинули его, осталось лишь льющееся потоком преклонение, торжественное и благоговейное, жаркое и прохладное, бурное ликование и высочайшая точность во всем.
Тут только человек с тележкой обернулся, и Хадрах увидел: человек этот был он сам. Он поглядел в свое собственное лицо, лицо примерно шестидесятилетного мужчины, хотя еще и в соку, с черными бровями близко к глазам, седыми, пышными волосами, сомнений не оставалось: ему ли не знать собственное лицо. Так они и шагали вдвоем – одетый человек с тачкой и голый, поющий, с каждой минутой все более тесно окруженный птицами и не желавший теперь ничего, кроме как двигаться дальше с этими, уже смолкшими пернатыми, двигаться, пока их всех не оставит жизнь, без шума и муки.
– Ну, что ты на это скажешь? – доведя до конца свой рассказ, Хадрах звучно, похоже на громкий смех, вытолкнул через нос задержанное было дыхание. – Я ничего не приукрашивал и не добавлял: угол дома, амбар, человек с тачкой, птицы, Те Deum и – в самом конце – собственное лицо. Собственная личность, отделившись от меня, от меня… – И, после небольшой паузы: – Вообще, когда видишь самого себя во сне, ничего хорошего тут нет. Тебе об этом что-нибудь известно?
Я замотал головой, словно он выдвинул против меня страшное обвинение.
– Господи, – пробормотал я наконец, – какой сон. – И поспешно добавил: – Какой прекрасный сон!
– Нет, такое не может нравиться, – продолжал он, – но ты настолько тактичен, что не хочешь мне это сказать. Впрочем, я и сам знаю, что это значит, когда увидишь самого себя как другого человека. И вот именно сейчас, когда я подстрелил оленя, моего оленя-убийцу, мне снится такой сон. Увидеть самого себя… Разумеется, желание увидеть себя самого, каков ты на самом деле, очень велико. Но как уже говорилось раньше, я всегда был очень осторожен. Когда делаешь деньги, многое вылетает из головы. Политика тоже. Да и вообще, повсюду, где у человека больше не остается времени, когда он бежит прямым путем вперед, к пустому горизонту – или в лесную гущу, ну прямо как этот самый козел, который хотел бы избавиться от охотника, да, от охотника!
Вот уже несколько минут машина скользила боковой дорожкой сперва вниз по склону холма, потом вверх, пока по широкой просеке мы не выехали на вершину и вдали не завиднелась знакомая мне изгородь. Она вся была увита побегами шиповника и ежевики, и стиль «Дикий Запад», навязанный ему прежним хозяином охотничьего домика, снова его покинул в буйном цветении шиповника, в сонной и замшелой запущенности.
На наш сигнал распахнулись бревенчатые ворота, лесничий и его жена вышли навстречу нам из зеленого полумрака, где под сенью нескольких очень высоких иноземных елей, сооруженный из камня и дерева, стоял дом, меловой белизны, кровавой красноты. Его эркеры, лоджии, веранды и выступающие фронтоны из резного, крытого красным дерева всякий раз вызывали один и тот же вопрос: как стало возможно, чтобы стиль, содержащий в своем названии слово «Jugend» [31]31
Молодость (нем.).
[Закрыть], мог так быстро устареть.
Едва мы вылезли из машины, лесничий протянул Хадраху белый конверт, обнаруженный им в почтовом ящике. Я увидел, как напряжение отпустило лицо Хадраха.
– Ну наконец-то, – пробормотал он, обратясь ко мне, взял письмо двумя пальцами за уголок и начал обмахиваться им как веером. При этом он улыбался. Про себя я удивился тому, что он придает так много значения ответу своего соседа Сильверберга.
– Ну наконец-то, – сказал и я, передразнивая его испуганно-счастливый тон, – теперь-то наш почти шестидесятилетний мальчик получит своего бычка.
– А у Сильверберга просто не было другого выхода, я ж тебе объяснял. – И мы направились к дому, причем Хадрах все время что-то говорил, наполовину обращаясь ко мне, наполовину к себе самому. – Существует же в конце концов граница приличий, которую никто не может безнаказанно переступать. А кроме того, – он остановился и круто повернулся ко мне, – а кроме того, Сильверберг прекрасно знает, кто я такой. И спорить со мной я никому не советую. Сопротивление, которое мне оказывает человек, или даже зверь, или вообще житейская ситуация, я воспринимаю как вопрос существования. Я признаю только законы природы и Гражданское уложение, если, конечно, его нельзя обойти. Но в остальных случаях!.. Границы у меня, конечно, есть, я и сам знаю, но горе тому, кто заставит меня почувствовать эти границы.
Мы уселись за тяжелый дубовый стол в нише передней. Фрау Тейс поставила на стол обросшую льдом фаянсовую бутылку можжевеловки и к ней две толстых рюмки. Хадрах сидел молча все время, покуда эта черноволосая приземистая женщина находилась поблизости. Мы выпили по рюмке и еще по одной – и лишь тут Хадрах открыл письмо. Оторвал угол конверта, засунул в дыру указательный палец, я услышал звук разрываемой плотной бумаги и шуршание подкладки внутри конверта. Потом я увидел, как Хадрах извлек на свет содержимое письма. Однако – я тотчас заметил – это был вовсе не листок письма, но что тогда? Весьма пожелтевшая страница была покрыта печатными знаками. Хадрах заглянул в конверт, вырвал из него подкладку и при этом все время покачивал головой. Наконец он начал разглядывать лист, покрытый печатными знаками. Судя по всему, это была страница, вырванная из книги. По краю страницы красным карандашом был отчерчен кусок текста. Хадрах выдернул очки, чтобы еще раз прочесть то, что успел уже пробежать невооруженным глазом, прочесть, изучить, судя по всему, он просто не мог осмыслить этот текст. Наконец он, не сказав ни единого слова, подтолкнул этот лист через всю столешницу ко мне. Молчание Хадраха было ужасно. С судорожным послушанием я тоже ухватился за очки. Для начала прочел название главы: «Охотничье удостоверение и мера ответственности». Затем, под номером 535, вопрос: «Кому надлежит отказывать в выдаче охотничьих удостоверений?» Первый пункт, на который я наткнулся в ответе этого сведущего в законах и в охоте егермейстера, гласил: «Евреям!» Не могу понять, почему это слово именно в этом месте поразило меня как искра в глаз. Кроме случаев известной гражданской трусости в течение всего беззаконного и охотолюбивого времени я себя ни в чем таком уж нехорошем не могу упрекнуть. Вот почему мою совесть в этом пункте можно уподобить кухонному фартуку, от которого нельзя требовать, чтобы он и по окончании рабочего дня оставался безупречно чистым, почему его и принято снимать, прежде чем перейти в гостиную к остальным. И вот он лежал передо мной, этот пожелтевший, подчеркнутый красным карандашом лист бумаги, вырванный из какого-нибудь охотничьего катехизиса той смертоубийственной эпохи. И я прочел его и понял: заниматься благородным ремеслом охоты запрещается некоторым категориям немцев, как-то: недееспособным, взятым под опеку, калекам и идиотам, а также арестантам и политически неблагонадежным. Но этот длинный список людей преступных или лишенных гражданских прав, кому не дозволялось носить охотничье оружие, открывали евреи! Да, на сей раз они возглавляли список. Я невольно засмеялся горьким смехом. Итак, еврей может и был наделен способностью стрелять, он имел даже право встать под пули за свое отечество, этот факт сам автор охотничьего букваря не смог бы отрицать. Но вот стрелять еврей не имел права, а тем паче заниматься охотой. Благородное дело охоты требовало не менее благородной мужественности.