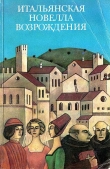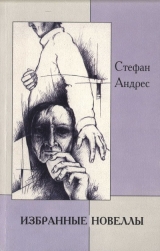
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Они подошли к дверям библиотеки, и тут Пако сказал, припав губами к волосатому уху хмурого конвоира, и было что-то светлое в том, что его склонило к этому человеку, как мгновением ранее свечи склоняли к этому же человеку его тень: «Бог милостив». Солдат вдруг остановился, словно прирос к полу. Наконец его крупный нос издал короткое фырканье, но за фырканьем этим, похожим на отповедь, прозвучал глубокий, грудной тон. И было в нем что-то трогательное и раздумчивое. Затем солдат отворил дверь.
В библиотеке были закрыты внутренние ставни, на огромном столе для книг стояла керосиновая лампа, затененная синим козырьком, рядом поблескивал телефон. В круге света лежала книга, а над книгой склонился лейтенант Педро; его белая, подсвеченная теперь синим рука с видимым удовольствием барабанила по столу, словно лейтенант читал нечто очень забавное. Когда оба вошли, лейтенант не поднял глаз и продолжал торопливо читать, затем, однако, хлопнув ладонью по книге как бы в знак полнейшего согласия с прочитанным, он вскочил, рывком отодвинул кресло и короткими, торопливыми шажками поспешил к Пако, восклицая:
– Довольно и несовершенного раскаяния, то есть обыкновенного страха перед адскими муками, чтоб получить полноценное отпущение, куда уж лучше… Как же мне в моем состоянии…
Пако взглянул на вещающего лейтенанта и перевел вопросительный взгляд в сторону двери, где все еще стоял солдат, не зная, уйти ему или остаться, и в то же время изнемогая от любопытства и растерянности при виде столь непонятного поведения своего командира.
– А ну, вон отсюда, – рявкнул на него лейтенант, будто собака в атакующем броске. Солдат втянул зад, повернулся и вышел медленно, выпрямясь как жердь.
Словно адресуясь к себе самому, Пако пробормотал – и в голосе его была та улыбка, которая снимала всякую определенность:
– Может, он тоже хотел исповедаться, почем знать, может, стоило спросить у него, а?
Проходя мимо, лейтенант Педро бросил на Пако робкий взгляд, пожал плечами, но тотчас повернулся на каблуках и оскалил зубы под усиками. Судя по всему, он был даже чем-то доволен.
– Бог дарует каждому человеку довольно милости, дабы достичь святости. Что я тоже откопал в этом превосходном фолианте.
И он указал на книгу. Пако подошел поближе, уперся рукой в стол, для чего ему пришлось слегка наклониться, и, разглядывая окурок на подставке для чернильного прибора, рассеянно и нервно произнес:
– Да, теологи не упустили ничего, их оправдание Божьего бытия поистине всеобъемлюще, они защищают Бога так, словно не человек, а Бог подлежит суду. А вот не найдется ли у вас сигареты, сеньор teniente?
Лейтенант торопливо сунул руку в карман, но когда он открыл портсигар, его словно бы осенила какая-то мысль; он достал сигарету для себя, закрыл серебряное вместилище, медленно опустил его в правый карман брюк и так же медленно раскурил свою сигарету. Выдувая дым кверху, в лицо неподвижному собеседнику, он хитро ухмыльнулся.
– Не воображайте, будто я из тех, кто готов поделиться с каждым последней сигаретой. Но и царствие небесное признает насилие, и лишь прибегающие к насилию могут им овладеть. Вот я и есть такой насильник, жалкий насильник, и вполне это сознаю. Итак, внемлите: вы можете закурить, сразу же, и курить сколько пожелаете, но сперва я попрошу вас принять мою исповедь. У меня все еще сохраняется смутное ощущение, будто вы желаете, чтобы вас упрашивали, – или вы вообще не желаете меня выслушать, поскольку я принадлежу к противной стороне?
Лицо Пако закаменело, и хриплым голосом он заговорил:
– Был однажды человек, который хотел за золото откупить у апостолов их силу. Вы хотите достичь того же с помощью сигареты. Симон был за это проклят. Вы же выставляете себя в смешном свете, сеньор.
Тут интонации Пако утратили всю торжественность, и он сказал просто:
– Впрочем, меня даже устраивает, что я столь невысокого мнения об исповеди, тем более о вашей! Я мог бы даже с вами махнуться – исповедь на сигарету. Догадайся вы достойным образом предложить ее, она бы для меня и, полагаю, даже для Бога значила куда больше, чем такая вот исповедь, которую вы вознамерились мне принести из чистого мандража перед смертью и адом. – Тут Пако улыбнулся и продолжал: – А теперь будьте человеком – я даже не говорю: христианином – и дайте мне сигарету без всяких условий! Взгляните, как у меня дрожат пальцы, я очень волнуюсь…
Пако протянул свою длинную костлявую руку, он увидел, что лейтенант, не шелохнувшись, на нее воззрился. Он видел, как курчавая голова лейтенанта склонилась над его рукой, потом наконец медленно поднялась: лицо лейтенанта в тусклом свете лампы казалось еще более мучнистым.
– Это почему… да вы и впрямь дрожите… – Лейтенант пытался придать своему голосу оттенок удивления и тихо продолжал: – Вы уж не опасаетесь ли того, что… не знаю, не знаю, эти проклятые стены источают страх, как другие – селитру. Может, таким образом мстят монахи. Ну скажите, вы боитесь… боитесь чего-нибудь, ваша рука дрожит самой настоящей дрожью… предчувствие смерти, как у меня, к примеру? Или?..
– О! – Пако убрал свою руку, поглядел себе на ладонь и провел пальцами другой по линии жизни. – Одна цыганка, да-да, только что вспомнил… Одна цыганка недавно предсказала мне, что я скоро умру. Впрочем, такое предсказание сделать нетрудно, не так ли? Падре Дамиано было куда трудней – вот и об этом я только что вспомнил! – И он умолк, разглядывая свою ладонь.
– Падре Дамиано? – Лейтенант начал перелистывать лежащую перед ним книгу, открыл титульный лист. – Да-да, падре Дамиано, так что же он говорил, этот весьма толковый субъект?
– Что он говорил? Да, верно, это его «Пособие для исповедников». Боже, ведь не далее как вчера я подобно вам – и однако же совсем по-другому – склонялся над этой книгой.
– Так что он говорил, в конце концов? Признаюсь, мне очень по душе этот падре Дамиано. Он вам что-нибудь предсказывал?
– Да, предсказывал.
Взгляд Пако был теперь устремлен вдаль, сквозь ряды книг, поверх равнины, в ночь: конторы по найму, причалы, кабаки, корабли, судовладельцы, шлюхи, пустыня моря, якорные лебедки, цинковые ведра, кочегары-индусы, уголь, миски для еды, белые минареты – на тускло-зеленой, почти недвижной поверхности его души маленькими волнами среди необозримого простора живой воды всплывали отдельные картины, закручивались гребешком, исчезали. Из темноты он услышал крик лоцмана внизу, в маленькой лодчонке, увидел возникший и вновь отчаливший берег, выжал свою рубашку: пена, клочья пены повисают на корабельных планках, а цыганка сказала, а падре Дамиано пророчествовал; перед его широко распахнутыми глазами вставал круговорот прошлого, как искры и звезды; все обращалось в знаки, стало не поддающимися расшифровке письменами, слог за слогом, не пропуская ни единого часа, передающими его жизнь, и едва он, полный боязливого усердия и жажды, вздумал расшифровать эти уже из-за одной лишь отдаленности блекнущие письмена, как почувствовал: попытка ни к чему не приведет, я забыл все, забыл даже буквы, которыми записана моя жизнь. Как старинный, вышедший из употребления алфавит, глядят на меня знаки, с помощью которых я сам и так естественно все запечатлевал.
Я сам пребываю в нем, и однако же он больше мне не принадлежит. Мое собственное прошлое стало для меня чужим, все завершено, мне больше в него не вернуться. О, до чего же может обнищать человек! Нечто похожее на тоску по себе самому захватывает его, и он лишь покорно склоняет голову. Падре Дамиано, тот неизменно повторял: все ваше… Пусть так, пусть все, но более не собственное, не личное – или оно возвращается окольными путями? Ибо сказано далее: вы же Христовы.
Он же сказал: «Бог милостив! И еще: вам суждено умереть в монастыре».
Слова падре Дамиано он произнес громко и внятно и очнулся от собственного голоса. Он не заметил, как рука лейтенанта, который дал своей сигарете дотлеть на подставке для чернильницы, осторожно нырнула в карман и бесшумно выложила портсигар на стол. Лишь когда вжикнула зажигалка, Пако воротился из своей дальней дали, увидел серебряный портсигар с белыми палочками, спокойно взял себе одну такую палочку и сказал:
– Да, Бог, он… благодарю вас.
Лейтенант протянул ему зажигалку и сострадательно поглядел в лицо жадно заглатывающему дым человеку, потом перевел взгляд на синеватый огонек, пока наконец не загасил его резким нажимом большого пальца.
– Проклятая война! – выдавил он, но потом снова, с видом холодного наблюдателя, вскинул голову и продолжил уже другим тоном: – Но если вы придаете такое значение пророчествам падре Дамиано – и это… это ведь свидетельствует о вашем глубоком к нему уважении, – почему же тогда вы так мало разделяете его высокое мнение об исповеди?
Пако придвинул стул, уселся на него – он надеется, что лейтенант извинит эту бесцеремонность дикими обстоятельствами – и вновь вопросительно взглянул на сидящего.
– Дорогой мой дон Педро, однажды вы станете юристом, если только, – ну да, если только вы выберетесь отсюда, я хочу сказать, из этой проклятой войны, и вы станете хорошим следователем. Возможно, однако, что все сложится по-другому. Вы не выберетесь. – Пако умолк и взглянул на лейтенанта потерянным и отсутствующим взглядом, а ночь была словно наполнена глубоким звучанием вздрогнувших в быстром пичикато струн арфы. Невидимые стекла окон издавали жужжание и стрекот, казалось, на них были не ставни, а дверцы в большой вольер для насекомых. Жару и пыль в закрытом помещении библиотеки – по улице прогромыхал грузовик – как бы встряхивали в темно-синей бутылке.
Лейтенант Педро утер пот.
– То-то и оно, – сказал он спокойно, – у меня тоже есть это гнусное предчувствие, вот почему я, забыв про всякий стыд, бегаю за вами, а вы в ответ объясняете мне, что придерживаетесь невысокого мнения об исповеди, тогда как падре Дамиано…
Пако отрицательно разрезал рукой воздух:
– Падре Дамиано хотел помогать людям, только и всего.
Он равнодушно уронил руку с сигаретой на колено: ах, если б можно было стать таким же решительным, как этот замечательный старец, подумал он и увидел перед собой падре Дамиано, как тот – более двадцати лет назад – стоял перед ним в этой же самой библиотеке, с этой же книгой в руках, хотя, конечно, и не с тем же самым экземпляром.
И вот тогда этот толстяк, пыхтя, изрек: «Вам, разумеется, вовсе незачем сообщать об этом в своих проповедях либо откровенничать перед теми, кто пришел исповедоваться, но старая церковь не знала исповеди в ее сегодняшней форме. Прелюбодеев, убийц и изменников отлучали от церкви – раз, и готово! А теперь мы стали церковью грешников. И без исповеди церковь уподобилась бы городу без пожарной команды. Итак, не принуждайте никого к исповеди, вот ежели кто придет сам – ну, тогда, значит, его припекло. Но коль скоро вы поймете, что отнюдь не припекло, гоните такого в шею, впрочем, будьте осторожны: может статься, что это святой, всепожирающий огонь пылает в человеке, алкая совершенства исповеди. Тогда ваше дело засыпать этот огонь золой, понятно вам?»
Так говорил падре Дамиано, и спустя десятилетия воспоминания об этом четко и проникновенно стали перед глазами, его образы и сравнения отнюдь не были поэтичны в духе многоцветной прелести, какие любил падре Хулио. Такие образы быстро увядают, а эти, эти были как – да-да, были как нож под рукой в кармане штанов: острый, готовый к действию. «Мы есть провидение для других, – любил повторять падре Дамиано, но всякий раз с выражением робости на лице, а договорив, вздыхал: А кто верит в чудеса, тот сам не способен более сотворить чудо. Скверно, брат, скверно, я имею в виду провидение, впрочем, у нас осталась любовь, попробуем обходиться ею».
– О чем вы, собственно, думаете? – спросил лейтенант. – Вы как-то странно себя ведете.
Пако вздрогнул и в упор поглядел на своего визави:
– Я думаю об одном покойнике, я думаю о падре Дамиано.
Говоря так, Пако не сводил проницательных глаз с дона Педро, а тот заинтересованно поднял голову:
– Это как же?
Пако мотнул головой:
– Он был очень толстым, глаза у него слезились, и лицо было как у бульдога – да, вот так-то.
Пако чуть отъехал назад, а глаза его, словно ножи, были нацелены на лейтенанта.
Коренастая фигура молодого офицера отвернулась от Пако, словно он погрузился в раздумье, потом наконец лейтенант приподнял плечи, схватил книгу, медленно закрыл ее и бесшумно положил на стол. Помолчал, втянул голову, кивнул, и в голосе его зазвучала зловещая точность:
– Я приказал зачистить монастырь, сам я не выстрелил ни одного раза, я даже револьвера в руках не держал, но если вы говорили о маленьком толстом человечке, со слезящимися глазами и бульдожьим лицом, то этого я самолично, вот этими самыми руками выбросил через перила лестницы. Он был единственным, кто покинул свою келью и вышел нам навстречу…
Пако кивнул, устремив взгляд в пустоту, он даже улыбнулся:
– Ну, конечно, это был он, я отчетливо вижу его перед собой, он бранил вас на чем свет стоит, не так ли?
Лейтенант закивал утвердительно:
– Он вплотную подошел ко мне, я был первым и стоял как раз у парапета. При виде меня он закричал: «Ах вы, малорослый Гелиотроп…»
– Гелиодор! – поправил его Пако. – Он подразумевал осквернителя храма.
– Ах вот как, – лейтенант сглотнул и закивал в знак понимания. – И вот он приблизился ко мне. Его походка, его взгляд и как бы само собой разумеющееся движение его руки настолько потрясли меня и моих людей, что опомнился я, лишь ощутив ужасный звон в левом ухе. Это он залепил мне затрещину, самую ужасную за всю мою жизнь.
– А ведь ему уже было за восемьдесят, – пробормотал Пако, исполненный восхищения и печали.
– Потом он еще выкрикнул какие-то слова, но я уже не слушал, что он там кричит, я схватил его и сбросил назад, через плечо, через перила.
– Должно быть, вы очень сильный человек, – на сей раз тихо пробормотал Пако и со странной пристальностью оглядел фигуру молодого офицера, – но вдобавок и негодяй, – добавил он все так же вполголоса, – вы убили самого добросердечного из всех людей, которых я когда-либо встречал.
Дон Педро ухватил книгу, замотал головой и, соглашаясь, сказал:
– Вы правы! Но что мне оставалось делать в этом случае? Я был вне себя от ярости. И вдобавок я выполнял приказы, а приказ…
Именно при этих словах зазвонил телефон, и оба вздрогнули. Нахмурив брови, лейтенант взглянул на аппарат, и похоже было, что он опасается, как бы телефон не обернулся адской машиной. Вскочил, подбежал к двери, окликнул стражу, поспешно сказал Пако:
– Пожалуйста, уйдите ненадолго в свою келью. Я потом за вами пришлю.
В келью Пако отвел все тот же хмурый и немолодой солдат.
И все тем же шагом они проследовали по коридору, и тени их снова переламывались на сводах, снова сплетались, сливались, исчезали и возникали при прохождении очередной свечи. Вдруг тени обоих спрыгнули со свода, уменьшившись в размерах, перескочили на стену, противоположную свече, но все это лишь на одно мгновение. Оба как бы мимолетно преклонили колени, и преклонили именно в ту минуту, когда услышали жадное, словно у атакующего насекомого, гудение резко снижающегося самолета, которое до этой минуты было обычным равномерным рокотом – звук уже хорошо знакомый обоим; за гудением последовал удар, взрыв, сотрясение, заставившее вздрогнуть тяжелые стены обители. Потом еще несколько разрывов – глухое падение дождевых капель из железа, но уже поодаль – и снова только рокот, дальнее гудение комаров, которому они больше не уделяли внимания. Лишь теперь раздалось тявканье, хоть и перемежаясь большими паузами, – это тявкали маленькие зенитки, чуть погодя к ним трубным зовом примешались сотрясающие воздух залпы большого калибра.
Пако внимательно слушал: орудий было немного, и стояли они, надо полагать, за чертой города к востоку, потому что заговорили лишь после того, как самолеты уже сбросили свои бомбы на город. Может, предполагалось отступление? Не исключено, что именно сейчас лейтенант получает приказ по этому поводу.
Пленные в кельях вели себя вполне спокойно, за некоторыми дверями слышался шепот, где-то разразился коротким, царапучим смешком хриплый голос, и снова стены обители стояли грузно и безмолвно в своем отдающем седой стариной благочестии.
У дверей кельи солдат застыл и, оглядевшись по сторонам в сумрачном коридоре, шепнул:
– Вы священник?
Пако кивнул.
– Благословите меня, падре.
– Вы хотите исповедаться?
Солдат спокойно помотал головой:
– Нет, я ничего такого не сделал. Я только слышал, как кричат монашки… Но я зажал уши, ночь была длинная. А я думал про своих детей, их шестеро, и все еще малолетки, тоже девочки! Я был бы очень рад, если б вы меня благословили! – Все это он прошептал, дважды переведя дух.
Пако тронул большим пальцем лоб солдата и осенил его крестом.
– Бог милостив!
Солдат кивнул, отвернулся с некоторым вызовом, потом, так же проворно, словно вспомнил что-то, опять сделал оборот вокруг своей оси и поджидал, возложив руку на засов.
Пако, внезапно развеселившись, сказал ему:
– Не думай, дружище, что у монахов на дверях были засовы. Это вы их приделали.
Солдат так же весело, но более хриплым голосом прошептал в ответ:
– А завтра ты, падре, запрешь здесь же меня, только блохи здесь всегда будут одни и те же, только блохи!
Едва опустившись на свою койку, Пако невольно устремился мыслями к ним, к блохам, да, к блохам, удивительно прозвучало это повторение в устах столь неразговорчивого человека. Блохи терзали Пако целый день, но он про них не думал. Сейчас, яростно раздирая в темноте кожу, он не мог удержаться от громкого смеха: значит, вот как заполнил старик последний листок своей чековой книжки, пощечиной он его заполнил – а самая звонкая пощечина вполне может проистекать из сокровеннейшего центра любви. Царство небесное претерпевает насилие, о ты, мускулистый дон Педро! Но что в том проку – ты заглядываешь в колодец, только когда испытываешь жажду. Словно Господь существует лишь для тебя, чтобы подправлять твои дурные сны при жизни и уберечь тебя от другого, куда более тяжкого сна – после смерти. Господь щедро взыскивает каждого своей милостью. И ты был бы вполне прав, знай ты, что надлежит считать милостью, которую столь щедро посылает тебе Господь. Для каждого она выглядит по-разному, вот увидишь. И рука Пако, расслабленно покоившаяся на правом колене, ощущала под собой приятно твердое и надежное ложе. Милость на острие ножа, милость для всех нас! Не для одного лишь тебя, алчущий спасения дон Педро, ты силен, ты даже очень силен, ведь падре Дамиано весил не менее центнера, да и пророчество его тоже имело вес, очень большой вес. Какая скотина, как здорово он придумал подготовить меня к моей смерти с помощью сигареты, это ж надо! Он дал мне сигарету, он открыл свой портсигар – понятно, ужин перед казнью! Проклятая война – о, я придаю глубокое значение пророчеству падре Дамиана – не из одного лишь пиетета, как ты, верно, думаешь, хитрец, я ведь кое-что замечаю, очень даже многое замечаю.
На какое-то время стены обители застыли в тяжкой тишине, подобно спящему человеку, что как мертвец задержался на границе между вдохом и выдохом. Но потом из легкого стрекота в воздухе, который поначалу ненадолго стих, возникло гудение, снова и снова, и все плотней натягивающее свои нити в рамках тишины, покуда внезапный вой – словно то духи небесные с ревом низринулись по деревянным лестницам на землю – не вобрал в себя весь предшествующий гул, а грубый грохот не раздробил и сам этот вой: земной шар содрогнулся наподобие барабана.
С гневным пыхтением Пако воспрянул от дремоты и пригнулся, словно он был в чистом поле, – так его собственное тело опередило его мысль. Затем он сел тихо, со странным чувством, будто руки его охватывают не только собственную черепную коробку, но и серые монастырские стены, и весь город. И чудилось ему, будто руки эти сделаны не из уязвимого мяса и костей, а из нерушимого материала; одновременно он почувствовал сострадание к своему телу, к пульсации крови в висках, но почувствовал как сострадание к предметам, которые не имеют к нему ни малейшего отношения: камни монастыря, дома города, кипарисы, кусты можжевельника и каштаны – все в равной степени было ему близко, все размещалось у него в голове, все было в нем. Вот он и обхватывал все руками и внимал разрывам, считал, прикидывал расстояние до батарей, число пушек, их расположение… Да, все они стояли – теперь это не подлежало сомнению – к востоку от города. Потом Пако снова ощутил блох и не противился их натиску. Лишь порой он шептал тихо и бездумно: «Dios mio» [11]11
Бог мой ( латин.).
[Закрыть], и даже голос его звучал как голос некоего предмета – то ли грохочущей вдали машины, то ли дребезжащего окна, то ли сотрясенного до глубины и тяжко вздыхающего деревянного помоста, ибо то, что Пако бормотал себе под нос, поднималось из него как одинокий и убогий звон, не находя ни малейшего отклика в его же собственном сознании. Мысли Пако витали где-то в другом месте, скорее блуждали, не задерживаясь, вот почему он снова вернулся к блохам.
Кармелитка Тереза даже организовала против блошиной напасти крестный ход. Вообще эта святая была весьма последовательная женщина. В те времена, надо полагать, еще не знали персидского порошка или, по крайней мере, монашки его не знали. Требовалось личное вмешательство господа Бога. А почему бы и нет? Кто верит, что небо дарует по молитве, тот вполне может просить как о большом, так и о малом. И еще одно: блохи – это вовсе не малое! Зуд от них куда хуже, чем внутренняя дрожь при разрыве бомбы. Безумное представление: Бог уничтожает блох из любви к чадам своим, Бог отводит бомбу от цели, ибо под той крышей некто возносит молитву, и бомба падает на соседнюю крышу, потому что человек под ней сидит безмолвно, ломает руки и только успевает пролепетать «Боже милосердный» до того, как прогремит взрыв. Да, падре Дамиано, мы есть провидение для остальных… А парень, который сидит высоко надо мной в бомбардировщике, он, возможно, желает мне добра, когда целит в меня. Всюду найдется место для бомб, сброшенных точно в цель и сброшенных мимо цели, но вот наши упреки, в кого бы мы ни целились, все наши упреки – они подобны так и не разорвавшимся бомбам, они даже не достигают земли, они разрываются в воздухе и падают обратно на нашу собственную голову. Молчи лучше, Пако, ну кому ты нужен? Впрочем, как говорил падре Дамиано: а кто верит в чудеса, тот сам не способен более сотворить чудо! Вот если бы я не мог больше верить в чудеса… В них ведь трудно верить.
Я все перезабыл, горестно размышляет Пако, все, что хоть как-то могло бы облегчить мою жизнь. Вот и Утопия – тоже один из множества благочестивых самообманов – ушла под воду, и темно теперь наверху, на потолке.
Впрочем, так оно, пожалуй, и должно быть: прежде чем поднимается занавес, в зале гаснет свет, надо просто смотреть прямо перед собой, и не смежать век, и не засыпать.
Прекращение шума ударило по его измученным ушам как новый, тревожащий звук; это тишина обзавелась голосом. Так, наверное, и бывает, – думает Пако, – когда затихнет стук в наших висках, вообще весь стук, грохот и топот этого мира, – о, тогда тишина растет, набухает, словно огромная капля росы, она становится все больше, и будь этот мир одной-единственной гигантской травинкой, он больше не сумел бы удержать эту набухающую, эту сверкающую каплю; тишина весит тяжелей всего, тяжелей всего на свете. Тишина – это альфа и омега каждого звука и каждого голоса. Тишина подобна кровати, думает Пако, она полна зачатий и усилий смерти, и еще полна сновидений, которые скрываются за словами, и под ними – тишина… – и Пако склоняется, – в конечном итоге тишина – это и вовсе Божье слово.
Он встает и ощупью пробирается к окну, открывает ставни, одновременно поднимается на носки и отводит руки назад: он дышит. Воздух заметно посвежел – это чувствуют его лоб, его нос, его нёбо, даже его грудь, при этом он думает: слово стало плотью, иными словами – тишина обрела голос и еще: сны стали явью. Это значит – здесь заметно пахнет гарью – нельзя не признать: подобное воплощение божественного сна не есть величина, поддающаяся измерению. Он пришел в свои владения, но близкие его не приняли – не приняли логос, слово! Ничего больше нельзя понять – здесь и в самом деле что-то горит, хоть и не в монастыре, но неподалеку! Все эти ноги, что вдруг затопали по улицам, – о, свет во тьме! Да, надо гасить! И месяц будет при этом заменять им факел – а может, они и не собираются гасить?! – Счастье еще, что нет ветра, а дома здесь выстроены почти без дерева. Пако, поигрывая, хватается за нож; как бы то ни было, надо отыскать выход, выход в любом смысле. Да и все, что мы до сих пор предприняли, это не более как поиски выхода, выхода неизвестно куда.
Невидимый серп луны висел за крышей, и небо плавало в туманном свете, от которого звезды смахивали на некие утолщения, на узелки в сетке, сотканной из этого света. Вдалеке на плато медленно падала осветительная ракета; когда она упала за линию горизонта, свет ее на темном фоне только стал ярче. Звук, как от заглушенного будильника, просочился издалека, нечто монотонное и в то же время яростное противоборствовало в этом звуке – в туманные дни подобным образом, усыпляя и в то же время дразня, грохотала паровая машина якорной лебедки и грузовой стрелы. Внизу, у городской стены, хрипло взлаяла собака, но лишь мимолетно, словно и сама сознавала бессмысленность своего занятия, взлаяла, чтобы снова погрузиться в молчание.
Руки Пако охватывают прутья решетки, и, сам не понимая зачем, он их встряхивает. Ржавчина, осевшая за двадцать лет в надсечках, до того разъела железо, что в один прекрасный день решетка могла бы выпасть и без постороннего вмешательства. Он удивлен тем, как легко все получается, нижние прутья уже сломаны, он отгибает решетку наружу и кверху, встряхивает еще раз – и решетка упала. Короткий удар – Пако перегибается, словно может хоть что-то увидеть. Но падение решетки прозвучало как-то незначительно – кусок старого железа лег на ветки, камень, кучу мусора. Не иначе, человек приписывает решеткам – а заодно и свободе – слишком большой смысл… Решетке следовало бы упасть с грохотом и лязгом, звук падения должен бы сотрясти стены. А окно, теперь ничем не огражденное, должно бы – как мнилось ему несколько часов назад, внизу, на монастырском дворе, когда он потребовал поместить его в келью с подпиленными решетками – должно бы манить, здесь должна бы мостом пролечь радуга и вести куда-то, все равно куда, благо речь идет о пути в свободу. Однако, если он совершит теперь побег, стражники внизу будут в тысяче обличий подкарауливать его свободу. Снова ему припомнилась история человека, о котором он читал в газете несколько недель тому назад. Этот человек ушел в лес и более десяти лет прожил там свободным и мирным отшельником, только о том и пекущимся, чтобы никто не взвалил на него какое-либо иго. Но тут его обнаружили, может, это была женщина, которая вышла по ягоды, и полиция вернула его и отдала под суд, потому что за время своей свободы он совершенно упустил из виду те важные обязанности, которые налагает на нас общество, суд приговорил его к нескольким годам тюрьмы. Лесной свободы на свете больше нет. Некоторые бегут в монастырь, вот и он был одним из тех глупцов, что мнили обрести в монастыре высочайшую степень свободы. Уж лучше тогда уйти в море. Но и там тебя ждет закон в виде третьего либо четвертого офицера, какого-нибудь типа, одержимого то ли честолюбием, то ли любовью к своей собственной жалкой персоне, и этот тип голосом Васко-да-Гамы рассылает приказы и приказики, так что прямо диву даешься, как матросы после всего этого еще не утрачивают способность самостоятельно и по собственной воле сплевывать за борт табачную жвачку.
Правда дает вам свободу – это и во все времена звучало очень заманчиво – свобода. Но подобные абстракции напоминают козьи меха, куда каждый наливает свое вино и опьяняется им, – вином, а отнюдь не мехами, из которых в рот ему падает струя. Но не вливают также вина молодого в мехи ветхие. Это сказал Он сам. А что до сосуда истины – сосуд пошел трещинами, по меньшей мере для него, для него, стоящего у этого, лишенного решеток, окна. Придется изготовить новое вместилище и вместо козла содрать кожу с самого себя! Тот, кто способен таким образом снять кожу с собственного тела – а это дело отнюдь не безболезненное, – тот нашел подходящий сосуд для напитка жизни. Он создал меха для действительной, для своей истины. Истина! Как долго ее смешивали с переменчивым, безграничным содержанием, выбирали, отвергали, устав от выбора, становились настолько усталые, настолько пассивные, как тот римский земледелец, как та бесконечная вереница одержимых золотой лихорадкой истины, которые, воротясь домой, усталые, измученные, с пустыми глазами, вечно бормочут себе под нос quid est… [12]12
Что есть… ( латин.).
[Закрыть]И только один из всех не задал вопрос: «А что она такое?», напротив, он сказал: «Я есмь истина», и теперь мы будем вслед за ним с болью повторять его слова: «Я есмь истина».
– И эта истина даст мне свободу, – пробормотал Пако. Собака снова взлаяла трижды, четырежды, и пятая попытка была как бессильный удар по щиту ночи.
– Я есмь истина, – бормочет Пако, прислушиваясь к собственным словам, а пальцы его тем временем бездумно скребут в локтевом сгибе, – я истина, ибо измерю ее до конца, соберу ее у себя под кожей, люди же подумают, будто под кожей у меня мускулы и кости, а на самом деле это всего лишь истина, – то, что есть, что должно быть, что произойдет. Бог не есть свершение, он не Педро, и он не Пако, он не лай той собаки, и не дальняя вспышка в орудийных жерлах, и не раскаты в ночи, и, однако, он сердце мира, которое все приводит в движение: лапу жестокой, играющей кошки, и пулемет, но и этот кулак, стиснувший рукоятку ножа. Нет, ему не нужна ни моя свобода, ни моя воля, принесенная как дар, как жертва, он сам берет себе то, что ему нужно. Впрочем, одно не подлежит сомнению: все, что человек делает, он должен делать с радостью, – Пако склоняет голову и опирается на подоконник, – с радостью – из любви!..
Вдруг он исступленно стискивает виски обеими руками: из любви? А как это понимать? Из любви вогнать нож между ребрами Педро и потом сказать устами Дамиано: скверно, братец, скверно, но ведь любовь-то у нас еще осталась! Впрочем, от любви Педро охотно откажется, ибо человеку присущ своенравный предрассудок: встреча с любовью должна при всех обстоятельствах сопровождаться приятными чувствами.