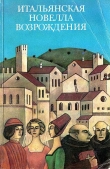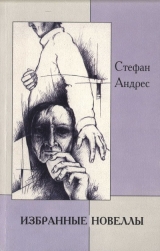
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Из меловой скалы слева от тропинки торчала медная труба, и тонкая струйка ближе к земле беззвучно растекалась среди кустов папоротника. Колодец располагался почти на краю бухты. Нарни указал на восток, в высоту, не поднимая при этом глаз: отсюда до замка оставалось примерно с полчаса ходьбы. Потом он устало шагнул к колодцу. Покуда Аня, опустившись на колени, жадно припадала губами к устью трубы, он пояснил, что эту же самую воду пьют и в замке. Там, за железными воротами, лежит насосная станция.
– А цистерна? – спросила она. – Цистерна теперь не нужна?
– Ну почему же не нужна? – И он поднял взгляд к замку, над которым отвесно вздымался дым из трубы. – Порой очень даже нужна, если вдруг отключают свет.
– А тот угорь, он все еще в цистерне? – продолжала она.
Он кивнул, не глядя на нее, – потом медленно обратил к ней лицо. Аня прижала к своему лицу носовой платок, который она снова и снова смачивала под струей. Затем шепнула:
– А ты еще помнишь, Пьерино, как сравнивал себя с этим угрем, как говорил, что был одинок, подобно этому угрю, прежде чем мы полюбили друг друга?
Он воззрился на нее с выражением как бы сонным и в то же время непонятно жестоким.
– Твои воспоминания, дорогая Аня, – у него стал вкрадчивый голос, – твои воспоминания очень своенравны. А писал я тебе – не говорил, а именно писал – совсем про другое. Я писал, что стал одиноким, как этот угорь, с тех пор, как полюбил тебя.

«Аня уронила руку с прижатым к лицу носовым платком, капли воды сверкнули как слезы на ее застывших от ужаса щеках».
Аня уронила руку с прижатым к лицу носовым платком, капли воды сверкнули как слезы на ее застывших от ужаса щеках. И вдруг, словно боясь упасть, она простерла руки перед собой и опустилась в траву, которая росла подле родника в тени орехового дерева, и закрыла глаза. Крепкий, горьковатый запах дерева и сырой земли, таковы были единственные и последние ощущения, связывавшие ее с землей, – и боль в икрах, боль в ступнях, и приятный нажим древесного корня между ее лопатками. И словно погружаясь в сон, она пролепетала:
– Ах так – ну да – ну понятно – но я до того устала – спать – спать – дай мне поспать…
И минуты не прошло, как Нарни услышал ее дыхание, вздымавшееся и опадавшее в спокойных, чуть закругленных движениях сна.
Он подошел поближе к невысокой ограде, за которой гора круто обрывалась вниз. В серо-зеленой мерцающей глубине лежали кусты, и побеги, и травы, растоптанные и прижатые к земле солнцем, – все равно как блевотина у черной дичи, подумал он, но тотчас испуганно призадумался над своим сравнением. Это что же такое – блевотина, лежбище кабанов? Уж коли так, тогда и солнце – свинья, свинья из света. Найдется ли кто другой, кому так же обрыдло это вечное, неумолимое сияние?.. Он усмехнулся с горечью, вообразив, как отреагировала бы на такие слова Мария Ассунта… Зато вот Плотин – он взглянул на спящую девушку – ее утомленные, словно отлитые из бронзы члены как бы погрузились в землю, ее загорелое лицо с широко расставленными, а теперь закрытыми глазами казалось неживым. Зеленая, трепещущая от нарастания жары тень каштана связывала воедино и ее лицо, и известняк, и колодезную трубу, и траву.
Нарни вздохнул, оглянулся с потерянным видом по сторонам, подошел наконец к маленькому кипарису, который увидел лишь теперь. Молодое деревцо пробивалось из каменистой расселины к свету. На нижней развилке дерева, примерно в полуметре от земли, Нарни обнаружил кусок известняка с кулак величиной. Он хотел играючи поднять его, но камень был крепко зажат между обоими стволами. Лишь теперь он понял: не зверь и не человек положили камень в эту развилку, нет, это само растущее дерево подхватило его и подняло на высоту. Узкое, с правильными чертами лицо Нарни исказила злобная усмешка: вот оно как бывает! Ни о чем не подозревающий камень вообще ничего не заметил, а когда наконец спохватился, было уже слишком поздно.
С кряхтением опустился Нарни в траву возле Ани, в тень. И вспомнил, как почти десять лет назад стоял на этом же месте, когда монтировали насос, дело было за несколько дней до того, как его призвали в армию, он уже носил форму берсальера – тридцать пять лет было тогда этому самоуверенному, безупречному, общительному мужичку, целых тридцать пять – и до ужаса наивен! Когда бы кто-нибудь уже тогда разъял его будущее как можжевеловый куст и явил взгляду эту живую картину: фигура спящей девушки, подле нее мужчина в полотняной кепке и с седыми волосами – когда бы ему объяснили: вот перед вами маркиз Нарни, который боится идти домой с ней, со своей возлюбленной, интересно, что бы он тогда ответил этому пророку?
Во рту у него все еще сохранялся вкус известковой воды, воды, которую они пьют и наверху, в замке. Вот он и снова, дым над крышами Катени суль Монте, и облако – то знамя, а то колонна над замком – старомодный, выложенный плитами очаг под гигантским темным колпаком камина, медная посуда на стенах, в подвале возле кухни – колодец, ведро которого с лязгом уходит в глубины подземелья. Он слышит, как поскрипывают балки, видит дубовый ворот, заглаженный тормозящими руками служанок, и ведро у стен цистерны, слышит, как оно звякает, – нет, он поднимает голову, это слышен дребезжащий колокол Катени. Но ведь время полуденной молитвы давно миновало?! Значит, праздник? Ну да, конечно, Вознесение Девы Марии – вечеря!.. Вот почему на улице было так много людей из Катени. Верно, патер зван в замок к обеду – у нее сегодня именины, у маркизы Марии Ассунты… Конечно же, монсеньор зван к трапезе – а может, и ее епископствующий брат пожаловал ради такого случая – может, и сама Мария Ассунта в строгой черной одежде сидит за экспрессо и рассуждает о приятии Марии на небесех. Либо отстаивает перед духовенством свой излюбленный тезис о том, что дворяне, ну и, само собой, священнослужители займут в раю места, отделенные от простого народа, «Quartieri alti» [28]28
Возвышенные места (латин.).
[Закрыть], как она это называет.
Взгляд Нарни, словно утомясь, то и дело соскальзывал с замка на спящую девушку. Да, маленький Антей, кипарис растет, а тебя передвигают – безвольно и бесплатно – а ты, Мария Ассунта, ты выучишь своих сыновей полнейшему самообладанию, свободному волеизъявлению истинной аристократии, божественной свободе передвижения истинно духовного человека! – но ты не знаешь – не ведаешь, Мария Ассунта, нет, Мария Ассунта, во всех твоих всевозможных корсетах ты так никогда и не узнала, например, сколько силы таится в таком медленно и тихо растущем дереве. Ты только взгляни, Мария Ассунта, вот как оно все получается… А потому отведи наконец взгляд твоих благочестивых глаз хищной птицы от этой девушки! Разве она виновата в том, что так красива? Кстати, ее зовут Аня, нашу… нашу новую бонну. Дети должны выучить немецкий язык. Аня и сама еще дитя, она умеет ладить с детьми. Ах да, совсем забыл тебе сказать: это некоторым образом наша родственница, она – приемная дочь старого Майдингера. Понятно?
Плечи Нарни вздрогнули от судорожного, беззвучного смеха. Вот так, имея своим спутником Плотина, чьи ласковые и сильные руки часто закрывали его глаза перед ужасным зрелищем и, нажав на радужку, зажигали звездопад внутреннего мира, вот так удалось ему пройти сквозь ужасы войны и плена, пока не настал день, когда перед ним возник его друг Данте и пригласил в свой джип, чтобы отвезти домой. И тогда – лишь тогда оно и началось, вмешательство в его жизнь, в его свободу, тут они напали на его след, хоть он и мнил, что уже прошел через зловонные, горящие бездны, прошел целым и невредимым, наделенный сердцем, которое сам полагал упорядоченным и спокойным.
Прежде чем отправиться домой, он хотел вместе со своим другом Данте навестить брата своей матери, которого знал лишь очень бегло. Дядюшка Майдингер дважды побывал у них в Катени, и Нарни заметил в себе известную симпатию к этому краснощекому, жизнерадостному и образованному человеку. И вот перед ними стоял красивый фахверковый дом дядюшки, западня. Уже через пять минут друг Данте прошептал на ухо, как ему видится этот полуразрушенный бомбой дом. Западня – и он не поддался ни на какие уговоры, не пожелал провести в нем хотя бы одну ночь. С каким психологическим сочувствием, как снисходительно пытался он понять своего дважды засыпанного друга – после чего объяснил обеим дамам, матери и дочери, поспешный отъезд друга. А потом эта улыбочка белокурой, светлокожей, несколько пышноватой дамы неполных сорока лет, когда она услышала от него слово «западня». И поманила его пальцем, увлекла за собой по старинной резной лестнице в зальце, где бомба сорвала заднюю стену, – теперь ее кое-как заколотили досками. Друг Данте не стал даже и входить в эту комнату, он лишь снаружи поглядел на треснувшие стропила и сказал: «западня». Квадратная комната была богато отделана, по внешнему краю потолка проходила лепнина в виде фруктовой гирлянды. Картина маслом, ранее закрепленная в раме и покрывавшая собой весь потолок, теперь, изорванная ударной волной, клочьями свисала вниз, а часть полотна так и оставалась на прежнем месте. В предвечернем свете, пробивавшемся сквозь прибитые вместо стены доски и закрытые ставни, Нарни увидел, что на свисающих клочьях полотна были изображены танцующие нагие женщины. А оставшийся на прежнем месте клок изображал краснощекого Силена, тоже нагого, привязанного к дереву и разинувшего рот в необъятной усмешке. Поначалу Нарни решил было, будто задувающий сквозь щели мягкий летний ветерок заставляет плясать нарисованную плоть, потом же заметил, – бросив несколько удивленных и даже испуганных взглядов по сторонам, – что это приплясывают концы балок, торчащие над пустотой по другую сторону дощатой загородки. Но когда он начал водить глазами по сторонам, отыскивая причину этой пляски – ибо погода стояла тихая, дом лежал среди лугов и никаких машин поблизости не было, – то увидел у себя за спиной эту посмеивающуюся лишь уголками глаз женщину: ритмически сгибая и выпрямляя колени, она раскачивала наполовину разрушенный войной каркас зала, и эти ее пружинистые движения передавались свисающим с потолка изображениям женских тел. И слегка отвернув лицо, которое тяжело ему улыбалось, она спросила, не находит ли он, что «западня» эта весьма устойчива?
Вместо ответа он нагнулся и начал рассматривать поврежденный во многих местах паркет. Он спросил у нее, сподобился ли старый Майдингер увидеть все эти разрушения. Она лишь помотала головой. И ни на йоту не изменив ради ответа подбитое смехом выражение своего лица, она поведала ему о последних неделях «дядюшки», который умер у нее на руках, после того как он, в свой восемьдесят один год, вечером выкушал целого индюка и «вылакал» под индюка бутылку бургундского – она запамятовала марку, – именно это или сходное, донельзя пошлое слово употребила она для своего рассказа, дабы объяснить причину смерти старика. А когда он полюбопытствовал, как же она ему позволила подобную невоздержность, рассказчица захохотала во все горло: плохо же он знал своего старого дядюшку, тот и не такое себе позволял… И снова, полуотвернув лицо, он бросила ему такой же взгляд из уголков глаз, покачала плечами, посмеялась. Да, западня и впрямь была вполне устойчивая, ибо – чего Нарни при всем желании не мог понять – она неудержимо влекла его к себе, эта белокурая ведьма. Ей удалось – он не понимал когда – ухватить какую-то ниточку его существа, теперь ей оставалось только двигать пальчиком, наматывая и накручивая, после чего он – до чего ж подходящий и до чего ж страшный образ – он позволял обводить себя вокруг пальца – все равно как дядя, который, оказывается, тоже умер у нее на руках, возможно, в тот самый вечер, когда она торжественно отмечала со стариком официальное оформление его последней воли – отмечала наедине – да, у нее красивые руки…
И, однако, настал день, когда Нарни сбросил с себя колдовские чары и внезапно отбыл. Фрау Ильзе с каждым днем все более откровенно задавала ему вопросы, причем задавала именно в те минуты, когда полагала, будто его мужское естество вот-вот достигнет точки кипения. А интересовалась она единственно тем, холост он или женат. Этот вопрос стоял в тайной связи с другим, который она, впрочем, никогда не произнесла вслух: достаточно ли он богат и великодушен, чтобы уважить последнюю волю Майдингера. Причем, пока он шутя уклонялся от ее расспросов либо с невинным видом пропускал их мимо ушей, у него не было даже и тени сомнения в том, что она прекрасно осведомлена о его семейных обстоятельствах, просто ей было желательно уличить его во лжи, в обмане, чтобы иметь против него оружие – на всякий случай. Но поскольку он со своей стороны ни разу ни единым словом не коснулся дядюшкиного завещания, она в конце концов заключила с ним безмолвное соглашение: молчание за молчание. Но ведь между ним и Аней подобного соглашения не существовало, и Аня вполне могла когда-нибудь приступить к нему с расспросами, а этого он хотел избежать любой ценой, ибо сам для себя решил никогда ей не лгать – хотя всем своим поведением лгал ей, ежедневно и ежечасно.
В его письмах эта не высказанная вслух ложь продолжалась. Правда, в течение целого года он вынашивал мысль о разводе. Но когда он тешил себя этой мыслью, боги домашнего очага глядели на него таким же взглядом, каким он порой глядел на своих детей, когда они вдруг начинали дерзить, высказывали неподходящие мысли или вовсе требовали чего-то, что хоть и было справедливо и даже казалось вполне естественным, но, однако же, было невозможно. Вот тогда он и попытался литературно обработать свои чувства и мечты для писем Ане, и с ходом времени достиг в этом немалых успехов. Он делал успехи в стилистике, жар чувств стал более умеренным, а сочинительство оказалось хорошим средством для концентрации всех достижимых с помощью философии средств охлаждения. Все получалось отлично! Спустя два года он уже почти мог читать Анины письма, как читают рукопись, мог, почти…
Но вдруг спустя пять лет они снова пробудились, эти годами бдящие и вдруг наскучившие долгим ожиданием зрители, эти космические посредники, эти духи замочной скважины. Нет и нет, без них, без их коварной подтасовки, без их крапленых карт никак нельзя было объяснить только одно: эта девушка под орехом и он рядом с ней. А ведь он терпеливо копил ожидание, накопил целых пять лет – это означает двадцать пар сношенных башмаков, три тысячи выпитых бутылок вина – и в три раза больше часов, наполненных бессонницей, досадой и горестным смирением, – вот сколько он прождал, прежде чем впервые снова поехать в Германию, так что предосторожностей тут хватало… Но съездить все-таки пришлось, надо было закупать машины, машины для консервирования рыбы. Вместе с этим симпатичным толстячком Шнидером, своим советником по техническим вопросам, он уже находился на пути домой, когда, как на грех, случился этот объезд. Он не обратил на него никакого внимания. Покуда Шнидер без умолку говорил, совершенствовал свои планы рационализации и наставлял его касательно внутризаводского транспорта: рельс, транспортеров, автопогрузчиков, его время от времени, словно приступ невралгических болей, пронизывала мысль, что вот до ее дома осталось сто километров, а теперь пятьдесят, а теперь двадцать… Но он сказал себе, что ему уже сорок пять, и даже стрелка спидометра рассуждала с ним о его возрасте: нажав на педаль газа, он всякий раз становился шестидесятилетним, а ей не будет еще и сорока; когда ему становилось восемьдесят, ей было шестьдесят. Поймав себя на этих подсчетах, он увидел табличку с названием того поселка, переступить границу которого он долгих пять лет почти никогда не позволял себе даже в мечтах, – и потому считал себя почти выздоровевшим… Но интриганы, соединяющие между собой миры и пустившие его машину по этому объезду, лучше разбирались в делах… Словно открылась уже затянувшаяся и как бы покрытая блеклыми розовыми лепестками рана, все началось снова, и кровь, и гной, и боль, и беспамятство, и все прошлое, состоявшее из нескольких бесцельных, счастливых дней и тысячи безнадежных ночей. Белый, как цветочные лепестки, дом с черными балками фахверковой конструкции, которые не скрывали его подобно четкому почерку, а обнимали наподобие решетки. Итак, ее отремонтировали, эту западню, а сама охотница, приветствуя их, еще шире и мягче распростерла свои объятия, а предложенная ею наживка, о, она не хуже, чем эти космические интриганы, знала, что наживка получилась отменная, даже сам Плотин при виде ее не сразу подумал бы о материи, даже Бернард фон Клариво не сразу и вообще не обязательно подумал бы о лимфатической зоне под кожей, таким влажным бутоном, нежным и свежим, встала она перед ними, как первый побег розы, гордая и непритязательная, как ирис – Iris Germanica! А как она бросилась ему на грудь, а ее голос, ее дыхание! Разумеется, наживка – это звучит ужасно! но когда мы ее заглатываем, когда она внутри нас оборачивается неизбывным волшебством, когда она лишает нас свободы, превращает в безвольную собственность сил, обитающих между небом и землей, сил, которые на каждой звезде держат свои поворотные краны, своими перекрытиями достигают чего угодно и даже в душе человеческой пристроили свои рычаги. И придумав этот объезд, они в состоянии совратить человека с его жизненного пути и направить его точнехонько туда, где они уничтожат и его самого, и его любовь, одним словом, уничтожат человека, – Нарни зевнул от усталого презрения, испытываемого к себе, возомнившему, будто он отлично понимает этих циничных и высококвалифицированных духов насмешки и сумеет не подпустить их к своей жизни.
Нарни лежал на спине, как и она, лежал менее чем в двух шагах от нее, но она виделась ему, пока спала, как бы отчужденной. Он вполне мог повернуть к ней лицо, чтобы глядеть на нее, но не посмел.
В листве ореха, трепетавшей в потоках веющего от земли зноя, ему явились машины и аппараты, которые он накупил в Германии: холодильные установки, автопогрузчики, подъемники, самоходный кран, поведение которого – когда ему продемонстрировали кран в действии – вызвало у Нарни смех. Наверняка чтобы смехом защититься от тайного языка знаков… Всюду, во всем эти намеки, эти напоминания, эти попытки сближения из промежуточной сферы. Он тихо вздохнул. Воздух возлежал рядом с ним как раскаленное тело. Крутая известняковая скала за деревом, да и весь карст стали жидкими, все сливалось воедино в горячую, мягкую, охватывающую петлю, растворившую заодно и его сознание. Он уснул.
Но Аня больше не спала. Услышав его резкое дыхание, она вскочила. Ей стало страшно, потому что она вдруг почувствовала себя совершенно одинокой. Ну как он может спать, спать именно сейчас, – пронзило ее сухой горечью. Но потом она увидела его лицо и поняла: лучше всего, если он спит, если он будет долго спать, очень долго… Вот она не могла больше спать, ей хотелось обдумать свой сон. Сон, по сути говоря, не такой уж и страшный – она уже не совсем точно его припоминала. Будто земля, пролетев мимо нее, неслась в высоту, неслась безостановочно, вся целиком, звери, звезды, деревья, скалы, даже море, но – как странно – совсем без людей. Хотя звери были: ее кошки и лошади, пожалуй, лошади были соседские, и коровы тоже соседские, бурые датские коровы…
Она поглядела мимо нависавшей скальной стены на серпантин тропинки, тропинка, наверно, ведет к Катени суль Монте, к замку. Если она побежит сейчас наверх, одна побежит, и вот она уже сделала задуманное, хотя тело ее продолжало сидеть в тени, прислонясь к скале и склонив лицо к коленям – да, да, она так и сделает, она должна рискнуть… Может для начала поговорить с его матерью… И вот уже она видит перед собой сестру господина Майдингера… Так стоит ли бояться, ведь она очень похожа на брата, и волосы у нее так же сверкают сединой, меня зовут Аня, я не одна приехала, просто я побежала вперед. Пьеро скоро будет, он уснул. Он немного не в себе, нет, нет, не пугайтесь, наша машина наехала на каменную ограду, но ничего не произошло, право слово, ничего, а это было как раз над морем… Вы правы, милостивая государыня, порой в дело вмешивается ангел-хранитель – не всегда, но порой… Вот и с вашим братом так было. А вы знаете, что он умер на руках у моей матери? Она много для него сделала, да-да, она была для него ангелом-хранителем – она и к Пьеро всегда очень хорошо относилась, и перестала возражать, когда увидела, что он настроен очень серьезно, мы хотим теперь… Ну конечно. Пьеро тоже хочет, так почему бы мне и не выйти за него? Пьеро ведь сказал мне – или, чтобы быть вполне точной, он мне намекал, своим поведением, своими словами, своими письмами, что он меня… а вы – его мать. Без меня ему не жить, нет, он сказал так: одинок, одинок, как угорь в цистерне, нет, по-другому, он сказал, что, узнав меня, стал одинок, как угорь… Ну конечно, просто я думала, что это одно и то же. В Амелии – там и впрямь была одна-единственная комната, в Амелии он сказал, что наши души уже все равно давным-давно соединились. Но вот утром, утром кое-что произошло – меня разбудил чей-то голос – и этот голос пронзил меня как огонь – как правда. Но когда правда жжет нас, мы засыпаем ее пеплом. Ах, если бы я прислушалась к своему предчувствию… Но теперь я все-таки прислушаюсь… Те дети, я уже догадываюсь, чьи это дети. Можете ничего мне больше не говорить, я и сама знаю, теперь я знаю, мне сказал голос во сне, не словами, я это смутно предчувствовала, а потом уже знала наверняка, дети, дети, где же ваша мать? я должна ее увидеть – вот она, кара, я должна на нее посмотреть. Где ваша мать?
А вот и она спускается по лестнице, маркиза, наверно, это она и есть, очень красивая женщина, сияющая, веселая, узнала бы она, кто я такая. Куда же мне деться? Нет, нет, я все должна ей сказать… Пьеро, помоги мне, Пьеро!
Когда Нарни очнулся, Аня сидела рядом и выкликала его имя в выгоревшую тишину дня. Оба рывком вскочили на ноги и оказались друг против друга, смятенные, исполненные страха, безмолвные. Жаркая тишина снова плотно объяла их, как стеклянная труба, вздымающаяся к небу.
Он прошептал ее имя, прошептал раз, потом другой, она прижала руки к ушам – словно от боли.
– Итак, – промолвил он, запинаясь, и дрожащей рукой зажег сигарету, – мы могли прямо сейчас быть на палубе корабля, я так бы и сделал, но ты, ты ведь этого хотела…
Она закивала мелкими, частыми кивками, отняла руки от ушей и неподвижно смотрела перед собой.
– Когда ты упорно настаивала на своем, когда ты не желала отказаться от своей проклятой цели там, наверху, я подумал, что лучше бы всего нам обоим сразу умереть. Не пугайся, но я хотел пробить машиной стену – и в море – но моя нога, нога мне не повиновалась… Я побоялся, не умереть побоялся, а возможно, того, что за этим последует, возможно, пережитки полученного мной воспитания… Ведь заодно я бы стал и твоим убийцей. И я не смог, у каждого человека есть свой, подобающий ему грех. Трусливо спастись бегством – это бы я сумел, но вот наиболее простое, бросить нас обоих в бездну, как в свое время – ты только представь себе – как в свое время, пять лет назад, это сделал один человек из Катени… Другими словами, сам-то он в пропасть не бросился… Он вернулся домой из плена, в Тироле он завел себе женщину, женился на ней, а потом уже, вернувшись сюда, точь-в-точь у колодца, завидев трубы Катени, заслышав колокол Катени, – был как раз полдень, – он вдруг все вспомнил, и прошлое ожило в нем. Другими словами: он не то чтобы совсем забыл свою прошлую жизнь, он просто неправильно ее оценил из-за своей второй жены. Этот Луиджи уже имел жену в Катени, и у него было четверо детей. И тут – он как увидел дымок над крышами – дыхание богов домашнего очага – это его жена подбрасывала в огонь оливковый хворост. И знаешь, что тогда сделал Луиджи? Он дал женщине, которую привел с собой, попить воды из колодца, у него как раз был при себе бокал. А покуда она пила, он столкнул ее с кручи. Не пугайся, эта горная серна сумела за что-то ухватиться, она висела в кустах и кричала. Луиджи вызволил ее оттуда и спросил, что с ней, потеряла она сознание или просто оскользнулась. А женщина даже и не поняла, что произошло, так она любила своего Луиджи. Но боги домашнего очага еще более грозно задымили над крышами, а совсем внизу, в ущелье, Луиджи услышал отдаленный рокот, словно ущелье… озлилось на него с голодухи.
И еще Луиджи увидел перед собой священника – свою жену – своих детей – и всех людей из Катени. И все глядели на него: кто эта чужая женщина? Выходит, у тебя вторая жена? Вторая? Ты ли это, добропорядочный Луиджи? И тогда, как раз в том месте, где кончается ограда – можешь смеяться, Аня, ты потом и сама увидишь почему, – он второй раз столкнул свою вторую жену с обрыва. И когда он после этого отправился домой, на сердце у него, как он сам потом рассказывал, стало куда легче. Засмейся же, Аня, эта история хорошо кончается. После того, как Луиджи успел провести несколько часов в кругу семьи, появились карабинеры и задержали его: эта живучая особа, ну, его вторая жена, и на сей раз не досталась ущелью. Она, конечно, была вся изранена, но все-таки сумела выбраться – низом, вдоль пляжа. Она и на сей раз ни в чем не обвинила Луиджи, но из нее сумели выдавить показания, и правосудие пошло своим путем. Но она ходатайствовала о помиловании – так сильно она его любила. Через два года Луиджи вышел из тюрьмы – и живет сейчас там, наверху, у своей первой, разумеется… А вторая вернулась к себе на родину, в Тироль – это не какая-нибудь небылица, так было на самом деле, именно здесь…
Рассказ Нарни тек все более легковесно, все более нервно. Под конец казалось, будто его устами говорят только страх и смятение, хотя тон и оставался вполне бесшабашным. Аня стояла вполоборота к нему и смотрела поверх обрыва на море, которое, напоминая треугольник, стоящий на одном из углов, внизу, со стороны бухты, таращилось на нее как синий глаз. Когда она не откликнулась на рассказ Нарни ни единым звуком, ни единым движением, он тихо попросил неуверенным голосом:
– Аня, ну скажи хоть что-нибудь. Или ты хочешь, чтобы я рассказал теперь свою историю?
Аня, словно просыпаясь, подняла руку для защиты, сделала маленькое, по-детски робкое движение и ответила, по-прежнему не глядя на него:
– Ничего не надо – я побывала наверху, пока ты спал.
Он отпрянул и широко распахнул глаза:
– Ты побывала наверху?
Она кивнула, все так же не отводя глаз от сверкающего голубого треугольника.
– Я повидала там всех: твою мать, твоих детей, твою жену.
Он приблизился к ней сзади, и взгляд его осторожно обежал ее. Но поскольку она все так же не смотрела на него, он поднес вплотную к глазам руку с часами. И тотчас замотал головой:
– Этого не может быть, это неправда, ты фантазируешь, Аня – ты, ты – о чем ты только думаешь? Но послушай, наша история может окончиться много лучше, чем история Луиджи. – И снова его голос попытался звучать непринужденно, звучать заманчиво, и он прошептал: – Пойдем же со мной, Аня, сделай еще несколько шагов, и не только в мыслях, я нашел выход, ты явишься вместе со мной, как… как гувернантка!
Но едва последнее слово соскользнуло с его языка, трудно, но с напускной легкостью, даже легкомыслием, он заметил, что вся ее фигура, точнее, лишь на уровне плеч, начала описывать небольшой круг. Казалось, будто в ближайшее мгновение она рухнет на землю. Он ласково обнял ее и зашептал ей на ухо, что, мол, эта должность у них в доме – не более как маскировка – что он не может расстаться с ней – что никто ничего не проведает об их тайном браке… Да, да, он считает, что связан с ней брачными узами, и все получится, ради их любви стоит идти любым путем, подвергнуться любой опасности, принести любую жертву…
Наконец она шевельнулась, словно погрузясь в мысли, и потому бессознательно сбросила обеими руками обнимавшие ее руки. А потом спросила, искоса глядя в землю прямо перед собой и постепенно сдвигая взгляд через край скальной дороги, в глубину.
– Жертву? А знаешь ли ты, что это такое?
Потом вдруг она посмотрела прямо ему в лицо.
– А теперь приведи сюда свою жену. Мне хотелось бы с ней поговорить.
– Аня, зачем ты так, не надо, Аня! – В голосе его зазвучала мольба. – Ты не можешь предвидеть последствий, это было бы несчастьем для нас всех, несчастьем, которое даже нельзя предвидеть.
И снова она медленно-медленно обратила к нему лицо:
– Так я и думала. Значит, по-другому поступить нельзя. Твоя жена, конечно, обо всем узнает, но сердиться на меня она уже больше не сможет, и ты тоже нет. Пьеро, скажи, пожалуйста – нет, не подходи ко мне, оставайся там, нам больше нельзя прикасаться друг к другу… отойди чуть подальше… и скажи еще раз: Космос, о блаженный бог! Пожалуйста, мне надо идти, да-да, я ухожу, к себе, домой, скажи же еще один-единственный раз, Пьеро, я хочу услышать твой голос, как тогда, ты еще помнишь, скажи, пожалуйста: Космос…
Нарни стоял, растерянно отставив руки, а потом воздев их, словно для молитвы, пот струями бежал по его лбу, а голос словно выгорел на пожаре. И с великими трудом, словно слова цеплялись крючками и не могли покинуть его рот, он пролепетал:
– Космос, о блаженный Бог!
Крик был ему ответом, и лишь когда каменный край пропасти принял обычный вид, он расслышал слово, прозвучавшее в этом крике: «Амелия!» Подобно золотому лассо оно упало из воздуха, это слово, и раскачало скальный выступ, где стояла она, и выступ спружинил и превратился в трамплин. И еще он услышал, как сам выкрикивает это слово, но так, словно в нем кричит другой, новый человек, человек, который любит.
1961