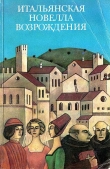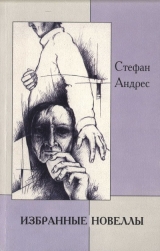
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Андрес Стефан
Избранные новеллы
Предисловие
РАССКАЗЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ВЕЧНУЮ ИСТОРИЮ О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО МИРЕ
Имя Стефана Андреса у нас практически неизвестно; принадлежащий к наиболее широко читаемым немецким писателям XX века, оставивший большое и разнообразное литературное наследие (стихи, рассказы, романы, драмы, очерки, статьи, философские и религиозные сочинения и т. д.), он только недавно стал известен нашему читателю [1]1
На русском языке опубликован ранний роман С. Андреса «Незримая стена» (М., Радуга, 1995).
[Закрыть]. Объясняется это, конечно, прежде всего, его идейными и общественными взглядами (Стефана Андреса не без основания называли «религиозным экзистенциалистом консервативного толка»; марксизма он не признавал, советской действительности чурался), но также, в определенной мере, особенностями его нестандартной личности и творческого пути: в эпоху, расколотую на противостоящие друг другу лагери, он был, по сути дела, одиночкой – не в том смысле, что у него не было друзей (друзей у него было множество), а в том, что он всегда упорно шел своим путем, не подстраиваясь ни под одну систему взглядов, не ища похвалы и не боясь нападок ни слева, ни справа.
Эту черту его характера можно назвать упорством или даже упрямством; она досталась ему от его крестьянских предков, мельников и виноделов, живших в верховье Мозеля, людей (несмотря на благодатный южный климат) тяжелого физического труда и суровых нравов. Шестой ребенок в многодетной благочестивой католической семье, родившийся (в 1906 году) на отцовской мельнице и выросший вдали от городской жизни, Андрес с раннего детства отличался тем, что читал запоем все попадавшее ему в руки (а попадала главным образом религиозная литература «для народа») и очень рано начал писать сам (без всякой надежды на публикацию), что окружающими воспринималось как чудачество и лень. Его религиозность с детских лет была естественной, но не ортодоксальной, она впитала в себя и природно-языческие, и пантеистские, а позднее и античные, и экзистенциалистские черты. Родители по традиции готовили своего надежу-сына в священники, но в монастырской школе он не прижился из-за царившего там мертвящего казенного духа; не были успешными и его попытки служить ради хлеба насущного в разных благотворительных религиозных учреждениях. В нем углублялось размежевание между верой в Бога как внутренней потребностью и системой церковных установлений, которые все больше отталкивали от себя молодого богослова. Андрес принимает решение отказаться от карьеры священника и вступает на писательскую стезю, находя темы для своих ранних книг в жизни своего родного края и в своей собственной судьбе.
Время гитлеризма сказалось, конечно, на его раннем творчестве, но не впрямую, не в форме открытого протеста. Он хотел переждать, перетерпеть опасное время, «найти, как мышь, норку» [2]2
Andres Stefan. Jahrgang 1906. Ein Junge vom Lande – In: Grosse Wilchelm (Hrsg.) Stefan Andres. Ein Reader zu Person und Werk. Trier, 1980, S. 39.
[Закрыть], смиряясь с идеологическим давлением, запретами, цензурой; но это плохо получалось, ибо он не умел кривить душой. Чтобы приспособиться к нацизму, он должен был отречься от жены (из-за ее «неарийского происхождения»), что Андрес, разумеется, сделать отказался, и эмиграция, точнее, бегство из страны, хотя оно и произошло сравнительно поздно (в 1937 году), стало неизбежным. В силу разных обстоятельств он поселился на берегу Средиземного моря, в муссолиниевской Италии (что заставляло критиков позднее брать слово «изгнание» в кавычки), где открытый антифашизм был невозможен и где он с семьей вел нищенское существование, постоянно опасаясь доноса и ареста.
Андрес, конечно, не предполагал, что большую часть своей жизни ему придется провести вдали от родины. По окончании войны союзные оккупационные власти долго не разрешали ему въезд в Германию, и он с семьей смог вернуться на родину только в конце сороковых годов; но в 1961 году он снова эмигрировал в Италию, на этот раз добровольно, по причинам, которые он не называл вслух, но которые для всех были ясны: он не принимал ни бездуховного «экономического чуда», ни забвения гитлеровских времен («В 1948 году я снова увидел Германию в первый раз, Германию первых послевоенных лет. Она понравилась мне значительно больше, чем предыдущая Германия, но также и больше, чем последующая» [3]3
Andres Stefan. Jahrgang 1906. Ein Junge vom Lande. – In: Grosse Wilhelm (Hrsg.). Stefan Andres. Ein Reader zu Person und Werk. Trier, 1980, S. 47.
[Закрыть]).
Между тем все послевоенные годы он много и уверенно печатается, становится весьма заметной фигурой литературной жизни, однако ни к одной из групп не примыкает (критика время от времени то обвиняет его в связях с нацистами, то называет «пятой колонной большевизма»). Непривычно выглядит в эти годы и его общественная деятельность – теперь он активно выступает против возрождения фашизма, против ядерного вооружения, за взаимопонимание между Востоком и Западом, за единство Германии и по другим острейшим проблемам современной истории. Начало этой политической «ангажированности» можно увидеть еще в 1943 году, когда Андрес согласился на предложение американских оккупационных властей выступать по радио с обращениями к своим соотечественникам. Однако он сразу же отказался от этих выступлений, поскольку не принял американскую концепцию «коллективной вины» немецкого народа. Когда Союз советских писателей пригласил его на свой съезд (1959), он ответил отказом. Позднее Андрес все же посетил нашу страну, но частным образом, сформулировав свои впечатления в таких словах: «Да, мы в Германии должны очевидно социализироваться, а вы в Советском Союзе во всяком случае должны наконец либерализоваться» [4]4
Siehe: Mein Thema ist der Mensch. Texte von und über Stefan Andres. München, 1990, S. 316.
[Закрыть]. Он упорно шел своим путем, и на этом пути его не всегда ждал успех, хотя с точки зрения непосредственно житейской эти годы можно назвать для него удачными: он имел возможность писать, печататься, встречаться с людьми, он был признан и уважаем. Жизненного итога ему подвести было не дано: в 1970 году, работая над корректурой нового романа, Стефан Андрес скоропостижно скончался от последствий операции, которая сама по себе ничем серьезным не грозила, и был похоронен на немецком кладбище в Ватикане, у собора святого Петра.
Обширное наследие Стефана Андреса было бережно собрано его вдовой, Дороти Андрес. Сегодня оно привлекает внимание критики, может быть, более пристальное, чем при его жизни. Значительное место в нем занимают рассказы, жанр, который в определенном смысле он предпочитал всем другим (хотя упорнее всего работал над большими романами). Он был прирожденным рассказчиком, о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания его друзей и знакомых; по его собственным словам, процесс «рассказывания» напоминает «опасное прохождение штольни в глубину, к еще не вскрытым пластам» [5]5
Andres Stefan. Der Dichter in dieser Zeit. Reden und Aufsitze. München, S. 165.
[Закрыть]. Формула эта вряд ли появилась случайно. Рассказы Андреса разнообразны и по темам, и по сюжетам, и даже по манере письма; но каждому из них свойственна «глубина» замысла, то есть истинное содержание его нельзя вывести только непосредственно из описанных событий, он может быть до конца понят только вместе со своей философской подоплекой. Поэтому рассказы его, как правило, по своему характеру ближе к повестям (немецкий термин «Erzihlung» может быть переведен и так), сюжет в них никогда не бывает самодостаточен, а служит основой для того, чтобы показать эпоху в ее многообразии и противоречиях; написанные в традиционной манере, которой Андрес был привержен, они решительно не похожи на более привычные для Германии того времени небольшие рассказы-зарисовки, которые часто стали определяться немецкой критикой американским термином «short story».
В этой книге представлено пять рассказов, отобранных по предложению Общества Стефана Андреса, призванного хранить и распространять его наследие (существует с 1979 года). Они представляют собой только малую толику творчества Андреса-рассказчика, но достаточно репрезентативны для его творчества.
Действие первого из них – «Эль Греко пишет портрет великого инквизитора» – основано на реальном эпизоде из жизни великого испанского художника. Вместе с тем у русского читателя он невольно вызывает в памяти «поэму о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Достоевского. В описании Испании XVI века и в самом образе Великого инквизитора у Андреса так много общего с Достоевским, что это не может быть случайным, тем более что Андрес хорошо знал русскую классическую литературу и всегда восхищался ею, особенно Достоевским, которого называл «предтечей творческого стиля будущего». Однако речь не идет о подражании; замысел Андреса иной, и конфликт развивается в иной сфере, которую можно было бы обозначить так: свобода художника в условиях самовластья. Реальная угроза погибнуть на костре инквизиции не заставляет Эль Греко льстить фанатичному и безжалостному диктатору, в то же время ненависть и страх не мешают ему увидеть его сильные, пусть искаженные, человеческие черты. Из-за этой двуплановости характеристик многие критики отрицали принадлежность «Эль Греко» к литературе антигитлеровского Сопротивления, несмотря на то, что исходный замысел писателя был именно таков. В годы войны их позиция была вполне понятна, но сегодня становится заметнее, что терпимость к инакомыслию уже сама по себе звучала протестом против гитлеровского режима, а зерно этого продуманно выстроенного произведения лежит в несгибаемости художника, который видит свое призвание в том, чтобы всегда и везде свидетельствовать правду перед Богом – то есть перед своей совестью.
Еще в большей степени это относится к самому читаемому творению Стефана Андреса «Мы – утопия», может быть, и самому трудному для восприятия. Действие его происходит в дни гражданской войны в Испании, в середине 30-х годов нашего века, а конфликт строится на тонких и детально разработанных отношениях двух героев – пленного по имени Пако и тюремщика по имени Педро. Перед нами – философская притча, причем автор умышленно строит ее так, что читателю нелегко понять, к какой из двух сражающихся армий – фалангистов или республиканцев – принадлежат его персонажи; он не предлагает выхода из созданной им, безвыходной с точки зрения нравственных законов ситуации. Пако упустил время для решающего удара ножом во имя спасения себя самого и своих пленных товарищей, но был бы он более прав и менее грешен, если бы убил, – неизвестно, ибо, по автору, каждый сам отвечает за себя перед Богом. Пако и Педро, как ни отличаются они друг от друга, оба верующие, обоим есть в чем каяться, оба уверены, что погибнут в этой войне; главная мысль, выраженная словами прежнего монастырского наставника Пако, заключается в том, что совершенство человека как Божьего творения находится еще «в становлении» и это мешает людям сегодня побороть вражду через любовь. Отсюда название: «Мы – утопия», то есть люди – это Божья утопия, им еще предстоит достичь задуманного Богом человеческого совершенства. Если выстроить нравственную концепцию, скрывающуюся за этой формулой (абстрагируясь от ее религиозного, то есть богословского, смысла), то мы увидим в ней проповедь примирения враждующих сторон, которое самим участникам войны может казаться и слабостью, и предательством, но в котором заключена высшая истина, еще недоступная людям.
Оба эти рассказа, созданные в начале творческого пути (обозначенные молодым автором, впрочем, как «новеллы»), относятся сегодня к самым знаменитым и всемирно известным его произведениям. В новых условиях конца XX века они раскрываются сильнее и глубже, чем в то время, когда были созданы; ради толкования их написано немало статей, книг, диссертаций. В дальнейшем проблемы взаимоотношения человека и Бога, мучившие Андреса на протяжении всей жизни, в большей мере разрабатывались им в статьях, часто приобретавших характер философских трактатов, но никогда не уходили и из его художественного творчества.
Рассказ «Машина» рисует первые дни перехода Германии от проигранной войны к мирной жизни – сюжет многих произведений немецких писателей, начиная с пьесы Борхерта «За закрытой дверью» (1947), в которой действие строится вокруг возвращения солдата домой, где он оказывается никому не нужен. У Андреса домой приходит узник концлагеря, представленного, впрочем, скорее как нечто отвратительно-грязное и абсурдное (страшное и трагическое остается за кадром). Во время наступления русской армии (которой герой обязан спасением) события в лагере приобретают уже совершенно безумный характер, а сломанная машина для производства мясного фарша (без которого концлагерь не может функционировать) превращается в своего рода символ государственности, той самой государственности, которая обожествлялась классической немецкой философией (имя Гегеля, которого цитирует герой, он же рассказчик, не раз встречается в книгах Андреса в ироническом контексте; «этатизм» гегельянства, как и любой абстрактный закон, стоящий «над» человеком, был неприемлем для Андреса). Абсурдистская манера письма (широко представленная в европейском искусстве послевоенного времени) не затронула Андреса, для этого он был слишком серьезен по отношению к идеям, но гротеск как изобразительное средство все же оказался ему, как и Борхерту, по душе.
Совсем другой характер носит «Амелия», в основе своей – романтическая история любви, вспыхнувшей на фоне прекрасной итальянской природы, которой Андрес посвятил множество страниц в своих книгах. В отличие от «Машины», здесь нет прямых социальных или политических характеристик (хотя сюжетная интрига, завязывающаяся в последние дни войны, с вступлением американских войск в Италию, могла бы подтолкнуть к этому), но трагический ее исход предопределен заранее тем, что в мире, в котором мы живем, в котором правят меркантильные интересы, обман, ложь и страх, невозможна чистая любовь, ниспосланная свыше, ибо она обречена на гибель.
Особое значение исследователи творчества Андреса придают рассказу «Олень-убийца», где перед нами Германия 50-х годов, время «экономического чуда», корни которого уходят (как и в «Машине» и в «Амелии») в первые послевоенные годы, когда новые хозяева немецкой жизни создавали свои состояния; в основе сюжета лежит в принципе тот же конфликт, что и в этих рассказах, между интеллигентом-гуманитарием и его антагонистом, представителем «мира хозяйства, денег, валютных курсов, конкуренции», но развернут он значительно шире, как парадигма современной немецкой действительности, а ненавистный Андресу тип «хозяина жизни» представлен здесь как агрессивный, но внутренне слабый, а потому еще более разрушительный. И как всегда в книгах Андреса, смысл рассказа выходит за пределы изображенной в нем жизненной конкретики и подразумевает познание нравственной природы человека – доминанту всего его творчества.
При этом Андрес настойчиво говорит, что он «не теолог» и свою миссию видит в том, чтобы «продолжать рассказывать человеку вечную историю человека и его мира» [6]6
Andres Stefan. Der Dichter in dieser Zeit. Reden und Aufsitze. München, 1974, 35.
[Закрыть]. Нетрудно заметить, что все герои, которым автор симпатизирует, не приемлют насилия, ибо не верят в его спасительную роль. Проблема насилия – его природа, его смысл, его последствия – оставалась для Андреса, как и для очень многих писателей Запада, самой сложной, и перенесение ее в сферы теологические не помогало ее разрешению. Критиками давно уже отмечены противоречия, которые можно обнаружить в его взглядах; их прекрасно знал и он сам и в послевоенные годы пытался одно время говорить о насилии более определенно и решительно, но такое выпрямление концепции не шло на пользу его книгам (так, например, драма «Божья утопия», написанная в 1949 году по новелле «Мы – утопия», не имела и отдаленно того успеха, какой выпал на долю самой новеллы). Как и ее герой, Андрес не знает окончательных ответов на задаваемые им вопросы и не пытается их декларировать. По выражению одного из исследователей его творчества, «искусство не дает рецептов, не формулирует безоговорочных наставлений, как ненавидеть или тем паче как действовать, но создает опытное поле для понимания и размышлений, а порой оно не более чем красиво сформулированная растерянность» [7]7
Eibl Karl. Selbstbewahrung im Reiche Luzifers? – In: Mein Thema ist der Mensch. Texte von und über Stefan Andres. München, 1990, S. 216.
[Закрыть]. Эти слова помогают понять особенность внутренней позиции Андреса, согласно которой тяжесть решения никто не должен возлагать на всевышнего, а только на человека и на себя самого. Его символы веры – свобода и ответственность, ибо Бог оставляет право каждому на выбор между добром и злом и на ответственность за этот выбор; поэтому, по Андресу, быть человеком – это тяжкая ноша, пожизненный крест. Один из героев его книг, близкий ему самому, записывает в дневнике: «Я не хочу оставить по себе иной памяти, кроме памяти о человеке, который потратил очень много времени, чтобы понять единственное; как трудно быть человеком» [8]8
Zit. nach: Lerrnen Birgit. Mein Thema ist der Mensch. – In: Mein Thema ist der Mensch. Texte von und über Stefan Andres. München, 1990, S. 7.
[Закрыть]. Не каждый будет готов согласиться с этим, но таков был христианский гуманизм Стефана Андреса.
П. Топер
Издание книги осуществлено по инициативе Общества Стефана Андреса (Германия – Трир, Швеих), которое вместе с издателями выражает свою благодарность за финансовую поддержку следующим спонсорам: Дойче Банк (Франкфурт), Западно-германский Банк недвижимости (Майнц), Сберегательные кассы и объединение безналичных расчетов (Рейнланд-Пфальц), Майнцкие сберегательные кассы (Трир), Райфайзен-Банк (Швейх), Рейнско-Вестфальские электроэнергетические предприятия (Ессен), Мужская одежда «У синей руки» (Трир), Битбургские пивоварни Томаса Симона (Битбург), Рабочее объединение литературных обществ в Германии (Берлин).
ЭЛЬ ГРЕКО ПИШЕТ ПОРТРЕТ ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА
Словно ледяной удар поразил маэстро Доменико Теотокопули, когда кардинальский капеллан, нарочно прискакавший верхом из Толедо в Севилью, принес ему весть, что художнику Эль Греко надлежит в первый же адвент [9]9
Advent – предрождественский период, начинается в 4-е воскресенье до Рождества (примеч. пер.).
[Закрыть] предстать перед Его Преосвященством. С формальной учтивостью, голосом как бы заученным некогда и с тех пор уже позабытым, Эль Греко приказал, чтобы гостю дали подкрепиться, сам же тем временем подверг проверке свой внутренний мир, но не для того, чтобы выяснить, хорош ли сей мир, а для того, чтобы удостовериться, что он надежно огражден и замкнут. Мыслями Эль Греко обратился к своим друзьям, к их именам, нелюбезным для ушей инквизиции, подумал про Газаллу, подумал про те высказывания, которые позволял себе в разговоре со своим подмастерьем Пребосте по поводу некоторых церковных заказов, подумал и про свои картины, побывал мысленно там и сям, во всех церквах, часовнях и монастырях; трепетные взмахи крыл разбуженного в нем страха посвистывали и затеняли картины, отыскивали что-то на лицах его святых и его людей… Придвигая голодному капеллану вазу с апельсинами, он не глядел на него, он видел единственно бледные костлявые руки священнослужителя, которые охватили плод лишь кончиками пальцев и взрезали кожуру острыми, длинными ногтями. Эль Греко видел, как падает каплями сверкающий сок, а в мыслях по-прежнему видел свои картины, и апельсиновый сок покрывал лбы его святых, золотой пот, но поскольку кожура отделилась с негромким звуком, на свет из-под острых пальцев выглянул плод.
Скрываться можно долго, подумал Эль Греко и почувствовал, как у него под мышками выступает пот, долго, пока не придет слава. Слава – это шлифованная линза над нашими творениями, она прожжет дыру, которая сфокусирует взгляды всего мира. Великий Инквизитор послал ко мне своего капеллана.
– Чего желает Его Высокопреосвященство от своего слуги? – спросил он и перевел взгляд на густо поросший волосами висок священнослужителя.
– Чтоб вы прихватили с собой свои рисовальные принадлежности, по поводу же всего прочего с вами уговорится домоправитель.
С тайным облегчением Эль Греко выкашлял задержанное дыхание и признательно улыбнулся гостю. «Одна беда сменяет другую», – подумалось ему.
– Я нижайше благодарю Его Высокопреосвященство за неслыханную честь, мне оказанную. – Он хотел и еще что-нибудь добавить, хотел в словах преклонить колена перед Севильей, но добавил всего лишь: – Я весьма удивлен.
Капеллан помешкал с долькой апельсина в руке, так мешкают с освященной остией перед высунутым языком человека, внушающего подозрения, потом, однако, съел дольку и кивнул:
– А я отнюдь не удивлен тем, что вы удивлены. Вашу живописную манеру, если сравнить ее с манерой Хуана Эль Мудо, можно признать весьма странной.
– Голос крови, – перебил его Эль Греко, – не забывайте, что я грек.
Священник – лет ему на вид было уже за пятьдесят – снова кивнул, как минутой ранее.
– А ваши родители, они прилежали расколу?
– Целый народ не может впасть в раскол, это священники, это пастыри… воздвигают границы, а потом их сносят.
Капеллан навострил уши, растопырив пальцы, слегка оттолкнулся от стола, его камышовый стул раскачивался на задних ножках, тростинки скрипели. Он повторил вслед за Эль Греко его слова, он пробормотал их, бросая взгляды на художника, но при этом не глядя на него. Потом более отчетливо, уже не бормоча, добавил:
– Когда целый народ отпадает от Рима, то даже и на младенца, едва вошедшего в разум, следует возложить ответственность за это. Или вы иначе о том полагаете?
Эль Греко усиленно замотал головой:
– По меньшей мере следует признать бесчеловечным, когда на костер отправляют несовершеннолетних.
С этими словами он встал. И капеллан встал тоже.
Тут в комнату вошел мальчик, Мануэль, и появление сына весьма порадовало Эль Греко, они поговорили о его задатках и склонностях, и когда капеллан спустя некоторое время прощался, он прежде всего благословил мальчика, который помог ему сесть в седло.
Когда железные подковы заполнили узкую теснину между домами, Эль Греко стоял посреди своей комнаты и растерянными губами отмерял в такт цокоту ямбы на своем родном языке – о, его родной язык был ближе свободному, затихающему вдали галопу, нежели весомые звуки испанского. Затем он беспомощно огляделся по сторонам, выписал на бумажке некоторые имена – сегодня он не хотел гостей – и послал слугу по дворцам Толедо, дабы тот отменил приглашение: Эль Греко заболел.
– Пусть придет только доктор Газалла, и пусть не приходит рано.
Лучше всего ночью сидеть с Газаллой в библиотеке, слуги тоже не должны видеть, что Газалла ночью был в гостях у Эль Греко. У них в роду есть привычка разговаривать во весь голос. Другому Газалле, брату врача, доктору теологии в Вальядолиде, сей громовой голос стоил жизни, Святая инквизиция не желает терпеть подле себя громовые голоса, но Газалла пусть придет. А Мануэлю чего надо? Отец носится с портретом Великого Инквизитора. За это время ему не след играть с ребенком.
– Ступай, Мануэль, где твоя нянька? Ступай, отцу надо в мастерскую.
Но и в мастерскую Эль Греко не идет. Пребосте и без него управится. Ему довольно бросить взгляд на глиняные, серохрупкие фигурки. А вот палитру он сам для себя составил. Эль Греко нажимает пальцами на глаза, тогда медленно вспыхивают звезды и круги и разбегаются во все стороны, это и есть его краски, в последовательности звезд, в хвосте комет, которые появляются всякий раз, стоит только нажать на глазные яблоки, да так, чтобы почувствовать боль. А добрая душа Пребосте обнаруживает эти краски лишь на картинах Эль Греко, бросив украдкой взгляд через плечо. Тогда у Пребосте делается глуповатый вид от его быстрой и тайной хитрости. Пребосте воспринимает краску как внешнюю сторону мира, весь мир представляется ему окрашенным, ну и ошибается же он, наш добрый гидальго. Пребосте способен повторить любого Греко, дайте ему только палитру да глиняную модель, но вот портрет Его Высокопреосвященства Ниньо де Гевара Эль Греко придется писать собственноручно, отправившись для того в Севилью, в первое предрождественское воскресенье. А рисовать можно лишь людей или святых, людей – такими, как они есть, святых такими, какими люди никогда не бывают.
Эль Греко припомнилась некая встреча. В Эскориале, из разверстого зева бесконечных коридоров вышли две черты, одна красная, другая черная. Красная была длинная, черная – короткая, красная словно катилась на колесиках, шаги ее под тяжелыми складками шелкового муара оставались невидимы, черная же прихрамывала и опиралась на посох. Это были Ниньо и Филипп. Они пришли, дабы посмотреть на его картину о мученичестве Святого Маврикия и о фивейском легионе, пришли как раз в то мгновение, когда он греческими буквами выводил на картине свое имя: Доменико Теотокопули – крэз. Имя это стоит на табличке, к которой тянется гадюка, словно вознамерившись его прочесть; нарисованная гадюка, свернувшаяся за камнем.
Филипп опускается в кресло, Эль Греко слышит все еще по-мужски сдержанный вздох, издаваемый королем, которого неотступно терзает подагра. А может, вздох относился к картине, которую король увидел в первый раз?
«Этим героям мы не в последнюю очередь обязаны своим престолом», – заговорил Филипп, но заговорил серьезно, без улыбки – ибо не признавал иронии там, где речь шла о королевском престоле. Словно не желая слушать слова короля, как показалось Эль Греко, кардинал потянулся к картине, после чего стекла его очков сверкнули на художника. «Змей, но почему же именно змей выставляет на свет табличку с вашим именем?» – «Простите, Ваше Высокопреосвященство, но змей не держит табличку с моим именем, он просто тянется к надписи с моим именем. Мое имя должно преградить доступ всякому злу к моей картине, ведь имя – это врата творения, зло же должно лежать перед вратами и страшиться». Кардинал утвердительно опустил веки за стеклами своих очков, словно поняв мысль художника, затем промолвил: «Нам думается, что имя человека не в силах положить предел злу, как мы можем сейчас наблюдать в разных странах Европы. Ибо само имя человека вызывает заклинаниями высокомерие, а высокомерие вызывает заблуждение, а заблуждение раздвоенность и тем – ослабление царства Божия». Филипп вздохнул, схватись за колени, но тотчас провел рукой по своим редким белокурым волосам. «Прошу прощения, Ваше Высокопреосвященство, – отвечал Эль Греко, – но мне думается, что человек, творящий некое произведение, должен быть преисполнен Бога, а потому имя его и есть заклинание Бога, как имена Ваших католических и апостольских князей, хотя, конечно, и не в такой степени». «Картину можно считать завершенной, когда она понравится также и нам», – вмешался Филипп, которому явно был не по душе этот разговор. По его знаку приблизились слуги, после чего обе черты, и красная и черная, удалились; до сих пор еще Эль Греко видит перед собой истертый бархат короля и переливающийся муар кардинала.
Происходило все это в Эскориале, перед завершенной картиной, теперь же он находится в Толедо, перед заказанной, и сердце бьется точно так же.
В этот миг Эль Греко проклинает свое славолюбие, исторгшее его из вольного воздуха Венеции и приведшее под сень Эскориала. Поистине не случайно Филипп повелел придать своему трезво-патетическому монашьему дворцу форму жаровни в память о сожженном на ней мученике Лаврентии, в день поминовения которого полководец Филиппа разбил французов. На этом заостренном коньке крыши поджаривается земной шар, смердит горелое мясо, и костры инквизиции отбрасывают свои всполохи на палитру, нет нужды придавливать пальцами глазные яблоки. Итак, ради трона, ради Филиппова трона принял смерть фивейский легион… однако Ниньо де Гевара подобное толкование не понравилось: нет и нет, легион отдал жизнь за апостольский престол.
Но находясь у себя в Толедо, в своей комнате, Эль Греко вслух засмеялся, и его бледное лицо налилось кровью от смеха. Змея перед именем – поистине лучшая выдумка моей жизни, она сливается с общим колоритом. Гадюка не должна раскрыть имя Эль Греко. А когда на картине будет стоять нарисованный Ниньо де Гевара, ни одной змее не понадобится впредь стоять под моим именем, он снова засмеялся, но на сей раз тише, ибо услышал возвращение слуги. Доктор Газалла вот уже неделю находится в Мадриде, доложил слуга. В Мадриде? Тогда он может быть только в Эскориале, ибо в Эскориале лютует подагра. Подагрой охвачена вся Испанская держава – король, армия, флот – все распухло, не сгибается, не способно двигаться. Какая могущественная болезнь, подумалось ему, болезнь, способная уложить в могилу целый век.
Затем поздней ночью – он все еще лежал без сна – в дверь постучали. Он сам пошел открывать. Завернутый в просторную накидку, вошел Газалла, и лишь достигнув библиотеки, он сбросил с плеч монашеское одеяние. Лицо его на блюде кружевного воротника было смятенным и бледным. «Его Величество позавчера умер». Книжные полки вдруг покосились, столы и кресла вдруг заскользили по полу, словно на сильно накренившемся корабле, Эль Греко широко расставил ноги. «Что теперь будет с нашим миром?» – хочется ему спросить, и он спрашивает. Доктор Газалла широко распахивает глаза: «Что, что вы сказали? А известно ли вам, что король произнес точно те же слова, когда я накануне остался с ним наедине, хоть и ненадолго? Что будет теперь с нашим миром?» Эль Греко повернулся к другу спиной, обратил взгляд к книгам и, словно бы читая сквозь переплеты, промолвил:
– Мое восклицание лишь доказывает, до какой степени мы все, несмотря на внутреннее сопротивление, убеждены в необходимости деспота. Вот уже мы провозглашаем в их же словах их незаменимость. Пора бы всем тем, кто про себя знает, что земля не есть центр вселенной, отказаться от мысли, что один человек может быть центром всего человечества. У нас совсем другой центр. И земля облегченно вздыхает после смерти властителя, даже если сей властитель был более терпимым, чем Филипп, – и слагает оружие, и снимает доспехи, и ожидание невероятного чуда распирает грудь державы.
– Чего нам ожидать? – мрачно пробормотал Газалла, после чего возвысил голос: – Я ненавидел Филиппа так же, как вы его ненавидите, но тот, кто собственными глазами наблюдал, как этот ненавистный умирает достойной короля смертью, все ему прощает. Филипп знал, сколь он ненавистен, он сказал мне: «Газалла, Наша подагра – это ненависть всей страны, но Мы уже привыкли к Нашей подагре, ибо она есть неотъемлемый удел властителя».
Эль Греко улыбнулся с горечью:
– Ох уж эти отважные короли, которые соперничают друг с другом из-за отпущенной на их долю подагры. Нет, Газалла, нет и нет, это все сплошь оправдания, которые призваны задним числом прикрыть собой тщетные усилия. Что кроме нагого отчаяния остается после смешных оправданий у смертного одра?
Газалла серьезно покачал головой.
– Вам не довелось услышать Диего, слугу Филиппа, не довелось увидеть, как этот самый слуга, перестилая ложе короля, споткнулся с его телом на руках. Вы не видели ни лица короля, ни лица слуги, а оба они были в это мгновение сплошная боль. И король еще пытался со стоном утешить своего слугу. «Полно, Диего, сказал он, полно, Мы уже созрели для могилы, тут небольшая встряска может только пойти на пользу». Этот слуга просидел одну ночь вместе со мной перед королевской опочивальней. Он знает больше, чем первый министр. Он знает даже, что последней строкой, которая была начертана рукой короля, стала Его королевская подпись под смертным приговором еретику. Подписывая, он застонал, потом поглядел на своего слугу. «Диего, человек полон скверны, и если он не научился ходить, держась за руку Господа, ему приходится потом учиться ходьбе, держась за руки друзей». Затем он помолился вместе с Диего и повелел тому прочитать символ веры. А под конец добавил: «Это не было предназначено для Нас, Диего, это предназначалось для тебя».