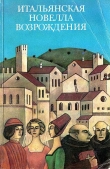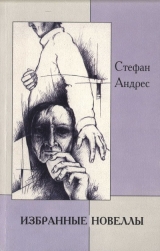
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Вы, надо сказать, весьма грязно ругаетесь – и все это лишь из-за каких-то монахинь, не правда ли?
Услышав такой укор, лейтенант запыхтел, потом наконец кивнул:
– Я вижу, что сам себе причиняю вред, но вы ведь ничего не знаете. По вечерам, ложась в постель, я боюсь сновидений, вы можете представить себе подобное у закаленного солдата, а я именно таков! – Он снова выругался, но на сей раз проклинал черта. – Может, все это лишь дурацкое суеверие – я говорю не об исповеди, я говорю об этих снах, об этом страхе, словно кто-то подстерегает меня, кто-то, кого прислали монашки.
И тут Пако спрашивает:
– Какие монашки?
Впрочем, думает он явно о чем-то другом.
Лейтенант испуганно отворачивается и мотает головой.
– Потом, падре это узнает на исповеди, потом.
А Пако и в самом деле думает о другом, он думает так: если бы я сейчас сделал вид, будто хочу отрезать себе еще кусок сыра – нож ведь очень острый и прочный, – получилось бы быстро и без шума. А уж потом, с его револьвером, только и делов, что открыть на бегу две-три кельи, а если выскочить из-за угла внезапно, навряд ли охранники так и лежат за пулеметом в боевой позиции…
Но это нельзя назвать собственно мыслями, это функционирующее против его воли солдатское подсознание, безостановочный зов профессии, который побуждает вышедшего погулять сапожника глядеть на ноги встречных пешеходов. Пако морщится, словно у него вдруг заболела голова, и говорит:
– Ну, ваш пост не такой уж и безопасный.
В этих словах звучит почти угроза. К слову сказать, Пако и сам удивлен.
– О! – Лейтенант Педро издает губами непристойный звук и смеется через нос. – Уж не думаете ли вы, что я боюсь своих пленных? Что до пленных, – он внезапно умолкает, бросив на Пако косой взгляд, его толстые пальцы нервно теребят усики, – нет и нет, – он опускает голову, – этих – нисколько, против них существуют пулеметы. Но вот сны, сны… доложу я вам.
Он резко откидывает голову.
– Вы при всем желании не можете себе представить, что я натворил, кто-кто, а вы не можете. По сравнению со мной вы дитя, хотя и не способны это себе представить. Мои грехи навещают меня во сне, и это – о, misercordia [10]10
Смилуйся, Боже! (латин.).
[Закрыть]!
Он топает ногой и снова отворачивается, словно бы от страха. На Пако накатывает странная, смутная досада: ну почему, почему этот подонок никак не может вывести меня из терпения, сейчас самая подходящая минута, а я, как на грех, не в форме… Он принес мне поесть и попить, а заодно принес нож, ну почему он так наособицу глуп, чтобы давать пленнику нож, а потом сидеть в такой позе, словно дожидаясь удара! Мало того, он еще видит вещие сны! Доверие вполне может обернуться бесстыдством. Ведь, в конце концов, я его враг, даже сейчас у меня остается право использовать для побега любую возможность, любую. Иначе чего ради на нас нацелены пулеметы? Короче, поворачивайся, не то…
Пако глядел на лейтенанта, прищурив глаза, он не продумывал все это по порядку, слово за слово, просто это глухо накапливалось в нем, но разозлиться он не мог. Крепкая спина перед ним была придавлена к земле таким горем… и вот он медленно возложил руку ему на плечо и сказал:
– Мне и своих грехов хватает, обернитесь, солнце уже, наверно, село, а стыдиться вам нечего!
– Стыдиться! – Лейтенант резко хохотнул.
– Вот именно, – Пако кивнул, – когда, закашлявшись, выплюнешь в лицо даме рисовое зернышко, принято стыдиться, но когда прикончишь парочку-другую монахов…
– Монашек, – прошептал тот, – монашек, а теперь они являются… и в прошлую ночь вели себя просто нагло, поверьте, просто нагло.
– Ну, в конце концов, они на это имеют право, – пробормотал Пако.
Нет, на это – не имеют, – выкрикнул лейтенант придушенным голосом, – они жестокие, эти бабы, они хуже, чем был я сам. В конце концов – они умерли, и все тут, но я-то, я сотни раз стреляю себе в голову, а они обступают меня, как базарные торговки, и хохочут, и хохочут, дурищи сухопарые. И всякий раз, когда из-за их смеха я прикладываю револьвер к виску, они смеются, да так, как могут смеяться только мертвые. А мой револьвер всякий раз превращается в какой-нибудь предмет – вдруг из него возникает консервный нож, цветок, или, представьте себе, ключ от дома, или он разваливается на две половинки, или из дула течет вода, разве это не… А они смеются. Вы когда-нибудь слышали, как смеются мертвые?
– Никогда. Я и вообще не знал, что мертвые способны смеяться. Но уж не думаете ли вы, что исповедь помешает им смеяться и впредь?
Почесывая спину, Пако прислонился к стене. В голосе у него хоть и не было издевки, звучал он весьма холодно. Далее Пако продолжал тем же тоном:
– Не думаю даже, что мертвые жестоки. Это вы, вы жестоки, а не мертвые.
– Я – дьявол, – проскрежетал неясный силуэт, теперь он казался очень маленьким, этот teniente дон Педро. Пако бросил взгляд поверх лейтенанта, на противоположную стену. Стена как-то смещалась в убывающем свете дня.
– Дьявол? Нет, вы человек, более того, человек верующий. Ну не странно ли, что люди веруют и в то же время грешат, а еще более странно, что они грешат, не переставая веровать.
В дверь постучали. Лейтенант мгновенно преобразился, в два шага решительно достиг двери и вышел. Пако слышал, как снаружи его дверь закрывают на задвижку, и оскорбительный лязг задвижки пробудил его от прежних мыслей: заперли, как свинью в закуте, – пронзило его. Трезвым взглядом он пытливо обвел келью, спрятал нож и подошел к окну. Жара если и спала, то очень незаметно, через полчаса станет совсем темно или, во всяком случае, достаточно темно, чтобы двинуться по голому плато в направлении, заданном дальним громом пушек. А может, надо будет двинуться в другую сторону, ведь спустя два часа над землей уже встанет узкий серп растущего месяца. Не важно, где выйти, главное, не сидеть больше под замком, словно свинья на откорме.
В соседней келье тихо и монотонно запели два голоса, это походило скорей на гудение, которое издают люди, когда мелодия застряла у них в сердце, а грудь еще слишком тяжела и неподвижна, чтобы за ней последовать. Пако вслушался. Он почти не знал тех, кто был пленен вместе с ним, он всего лишь несколько дней успел провести в их части вместе со своим лейтенантом дон Хуаном и еще одним приятелем, который, кстати, тоже погиб, когда вчера во время наступления их часть окружили.
Но в ту минуту они все-таки держались плечом к плечу, вместе стреляли, потом больше не стреляли, их всех разоружили и увели, все вместе они страдали ночью от голода и жажды, вместе забрались на грузовик, чтобы здесь их потом посадили под замок, всех вместе под одной крышей. Стало быть, теперь надо подумать, как им вместе отсюда выйти, одному нельзя, никак нельзя.
Словно в порыве безнадежной ласки он потряс решетку, которая легко подалась бы при первом нажиме. Вот и опять эта решетка стала символом добровольного заточения, пусть даже ненадолго. Он нащупал нож в кармане штанов, покачал его на ладони, еще можно было разглядеть, как сверкает лезвие, в сумерках оно напоминало кусок льда, который никак не растает на потной от волнения ладони. Пако подумал-подумал, спрятал нож обратно в карман и прислушался у двери. Он слышал отдаленные твердые шаги караульного, сержанта, который ходил по коридору взад и вперед. И Пако постучал. Задвижка взвизгнула решительно и кратко, дверь чуть приотворилась, и сержант не без угодливости – он не мог не заметить, что его командир относится к этому пленнику с известным почтением – спросил, чего тот желает.
– Ах, – с этими словами Пако взял поднос, – тут еще остался хлеб, и сыр, и немного вина. С меня хватит, может, вы… Не знаю, только поднос мне мешает, я бы хотел освободить конторку.
Ни мгновения не раздумывая, сержант схватил поднос – сержантская пайка, если судить по довольному выражению его лица, была не слишком велика – и тотчас скрылся.
Когда задвижка снова взвизгнула, Пако вторично вынул нож из кармана, испытующе провел большим пальцем по острию, затем спрятал его: теперь он мог не сомневаться, что нож при нем так и останется.
Прилегши ненадолго на койку, он поднял глаза кверху и увидел ржавое пятно – это как же?.. Неужто перед ним все то же пятно двадцатилетней давности? Быть того не может, думал он, падре Хулио не стал бы так долго терпеть его, но пятна сырости, они проступают, хоть их бели, хоть не бели, они даже немного расползлись. Пако вздохнул.
Это и на самом деле была все та же карта его страны, его Острова восьми блаженств и дионисиевой виноградной лозы, его Утопия в безбрежном белом море мелованного потолка, гиперборейцы его ложа, которых он навещал каждую ночь перед тем, как отойти ко сну, а зачастую и во сне, дабы там, восседая на осле, произносить все те проповеди – и о восьми блаженствах, и о воссоединителе Дионисии, – которые даже просто изложить на бумаге ему было раз и навсегда заказано.
Впрочем, и незачем было читать простодушным островитянам проповеди с тем, чтобы внушить им эти истины, а то и вовсе посеять в них страх, ибо все божественные истины и сами по себе исконно обитают в неиспорченной душе, остается лишь пробудить их и еще тесней сопрячь душу с царством божественного.
Люди по большей части были рыбаки, мелкие землепашцы и ремесленники, которые выносили плоды своего труда на базар и там выменивали. Денег они не знали. Людей искусства и ученых кормила и одевала община, их содержали как пчел, собирающих мед. Ни убийства, ни грабежа, ни обмана островитяне тоже не знали, изредка суду приходилось иметь дело с мелким воришкой, с клеветником, который от скуки не сумел удержать язык за зубами, или с прелюбодеем. Осужденных не отделяли от других людей, просто их заставляли одеваться наособицу, на общинных собраниях сидеть поодаль от других и помалкивать, покуда никто не походатайствует за них перед судьей. Тогда при всем честном народе их снова облачали в обычное платье, городской голова целовал их во имя народное, после чего на радостях закатывали пир. Обитали на этом острове и настоящие язычники, которые почитали прежних богов. Правда, христиане и язычники поддразнивали друг друга тем, что было для них непонятного в чужой вере, но ни христианские, ни языческие священнослужители не имели права публично высказываться по поводу различий в вере и в культуре и тем паче – заявлять свою точку зрения в апологетических трудах. Ибо всякому было ясно, что плоды внешней и внутренней жизни хоть у христиан, хоть у язычников были одни и те же, и когда Пако прибыл на этот остров, приветствовать его вышло столько же язычников, сколько и христиан. А выходя из христианской церкви, он спешил в храм Диониса, особенно шестого января, когда праздновались Великие Дионисии. На празднике урожая и весной он присутствовал на мистериях Деметры, причем было известно, что множество христиан и даже христианских священнослужителей охотно принимали участие в этих мистериях. Ибо язычество весьма благочестиво подвизалось в сфере, которая раз и навсегда была – при четкости его требований – заказана христианству, иными словами, в той сфере, где природа, не ведающая греха, всецело покоится в божественном, божественное же осязаемо является в природе, уничтожает свою несказанность в богах и открывается чувствам вместо того, чтобы в догматических формах вверить себя рассудку. Христиане же на том острове утверждали, будто взамен многобожия им дарована Мария и святые, а кроме того, троебожие уже встречалось человеку в образе Отца, Сына и Святого духа; в этой тайне все человеческие установления и формы могут найти свое отражение в божественном, проистекать из него и его освящать. Язычники же и христиане соревнуются в своем приятии Бога, поскольку одни стяжали Божий образ из природы, другие – из книги, из тоски одинокого сердца, из духа истории. Но так как и те и другие рьяно наблюдали друг за другом, христиане в своей вере неизбежно заимствовали многое у язычников, а язычники, соответственно, у христиан, и языческое мышление, двигающееся преимущественно по горизонтали, равно как и вертикально перетекающее в бесконечность христианское, неизбежно скрещивались, подобно нитям на ткацком станке. Божье одеяние, которое они ткали таким образом, испещряли узоры спокойствия, полного желаний и кроткой доброты.
Пако потому и наведывался так часто на свой остров, что уж больно удобен был перевоз. Вскоре он начал ездить туда каждый вечер, когда лежал на кровати, под конец его ускользание на этот остров посреди потолка обернулось бегством, которое мало-помалу начало отягощать его совесть.
Итак, он покаялся старому профессору догматики падре Дамиано в своем бегстве на остров Утопия. Падре Дамиано гневно нахмурил брови – а был он на редкость трезвомыслящий мистик и, подняв рукой лицо Пако (коленопреклоненный падре Консальвес стоял перед ним в келье), буркнул: «Перемените келью либо попросите забелить ваш остров, а всего бы лучше: перестаньте туда ездить. И запомните: еще никто доселе не сумел переделать мир в утопию, никто, даже Он не сумел. Если вы попомните, падре Консальвес, что мир – это большая биржа (падре Дамиано в миру был известным банкиром), и если вы увидите, как низко упали Божьи акции, а между тем не перестанете их покупать, это значит, что про себя вы рассуждаете так: „Посмотрим, посмотрим, ничего нельзя знать заранее“. Так вот, уверяю вас, что таким манером вы проторгуетесь! Едва вы купили эти акции, курс снова падает, и падает, и падает, и не перестает падать, вас повсеместно считают бестолочью, над вами смеются, но бумага-то у вас останется, да-да, останется, хотя бы потому, что прилично сбыть ее уже невозможно. Выбросить – всегда пожалуйста, но продать?! Вам ведомо, что чада этого мира благоразумней, нежели чада света.
И вот без лишнего шума вы втайне пытаетесь по возможности снова выбросить на рынок свои обесцененные акции, основав Утопию, где-то там, ее никто не видел, но вы рассказываете о ней: ах да, на какие только чудеса не способно христианство! И каков же результат? Самое настоящее банкротство! Люди проведали: никакой Утопии на свете нет, нет этих спасенных, мирных христиан, этих распущенных и стремящихся лишь к вечности священнослужителей, нет вообще этой особой жизни, которая любит земное, как могут любить лишь язычники, которая одновременно ни в грош его не ставит, как заповедано лишь христианам, нет и нет, не существует никакой особой жизни. И христиане ничем не отличаются от прочих людей.
Когда это будет заново доказано, ваша Утопия предстанет обычной аферой, но кем же в этом случае предстанете вы? И где будет ваше место? Отвечу точно: за решеткой, как того либо другого финансового гения, что где-то то ли на Аляске, то ли на Миссисипи основал компанию, существующую лишь на бумаге».
Тогда, помнится, Пако с мольбой воздел руки: «А наша вера? Недаром же Христос сказал, что нам дано сотворить еще большие знамения и чудеса, нежели ему».
Тут падре Дамиано грубо расхохотался: «О да! И величайшее чудо состоит в том, чтобы сберечь веру в эту явно подмоченную акцию, причем отнюдь не потому, что так сказано в Откровении – это тоже могло бы обернуться пустыми обещаниями, – а потому, что в сердце своем мы решили: акция настоящая. Вот где путь, вот где истина, вот где жизнь – а вовсе не там и сям, для меня во всяком случае. Теперь же будь предан и отважен, веруй, надейся, а главное – люби! И тогда твоя акция подарит тебе больше, чем Утопия: она подарит тебе мужество быть человеком, которому ничто более не нанесет вреда, которого ничто более не разочарует. Ибо все ваше, речет Павел, вы же – Христовы».
Пако еще раз воздел руки.
«Верно, падре, но ведь если жизнь христианина ничем не отличается от жизни других, если она плодоносит не обильнее и не лучше, не дает ли сказанное еще один повод воспринять истинность этой веры как подтвержденную?»
Широкое, одутловатое лицо падре Дамиано помрачнело, он выпятил губы, и его вечно слезящиеся, с кровавыми прожилками глаза прищурились.
«Если своими словами вы хотите бросить упрек всем христианам вместе взятым, упрек этот неизбежно обратится на величие Божье. Ибо по его воле мы, все люди вместе взятые, стали таковыми как есть. И вот еще что, Консальвес, не существует понятий „в пределах церкви“ и „за ее пределами“. Пред Богом не существует даже отделяющих одну религию от другой барьеров, в которых мы, люди, явно испытываем потребность. Нерушимо лишь одно: Бог есть любовь, и кто пребудет в любви, тот пребудет в Боге, а Бог в нем. Любовь же есть наиболее скромная из всех добродетелей и может выступать в разных обличьях, где она становится неузнаваемой для нас. Вы же хотите узреть сияющие плоды христианства, все перекрывающие своим сиянием! О, Господи, да если б это все поддавалось точному статистическому учету, некрещеная часть человечества проявила бы величайшую поспешность, дабы в двадцать четыре часа принять святое крещение из одного лишь желания состязаться в мере добродетели.
Но божественное мышление далеко не столь практично, не столь расчетливо, не столь насильственно. Человек бывает буддистом, магометанином либо христианином не потому, что соответственная религия являет миру наилучшие плоды добродетели, а потому, что эти небесные одежды достались ему в наследство от родителей, но, главное, потому, что они, эти одежды, устраивают его паче других: в них он может свободно передвигаться, они согревают его, он привык к ним, он содержит их в чистоте и не выбрасывает, ибо традиция, она ведь тоже привязывает нас к Богу. Однако все эти одеяния сшиты из одной и той же ткани, из любви Божественной и любви к Богу!»
После этих слов старец склонился к уху падре Консальвеса:
«Господь не пойдет в Утопию! Зато на эту мокрую от слез землю он будет возвращаться снова и снова! Ибо здесь безмерная нищета, безмерный голод, безмерное страдание! Господь любит отличное от Него, любит бездну, и Ему потребен – поймите меня правильно во имя Его священного имени – потребен грех! Надеюсь, вы меня поймете. Бог изливается. Он обновляет, Бог творит богов. Космос – его возлюбленный сын, который все приемлет от него, от своего отца, в духе и в любви. И этот сын станет таким, каким хочет его видеть отец. Бог любит мир, потому что мир несовершенен. – Мы и есть Божья утопия, но утопия, находящаяся покамест в стадии становления».
Пако на своей койке глубоко вздохнул. Карту среди потолка уже до конца смазали подступившие сумерки. Ушли в море желтые берега, белые города, мирные, веселые люди. Вдали тявкала полевая артиллерия, ухали мортиры. Загудел бронзовый гонг. А вот падре Дамиано – ох, ему ведь надо еще немного повыспрашивать этого ужасного законника в мундире лейтенанта. Еще надо – чего только не надо было в эту ночь! Действовать – возможно, даже убивать – возможно, даже ничего не подозревающего человека!
Утопия – прав, тысячу раз прав был старый догматик – Утопия была повинна в его отторжении. Падре Дамиано как раз накануне его ухода из монастыря еще много чего ему сказал. У падре Консальвеса в келье уже лежало гражданское платье, и, указывая на него, он сказал: «Падре Дамиано! Я думаю, вам это покажется невероятным, но я право же не знаю больше, чего ради сижу здесь, в этой келье, мне надо что-то предпринять!»
Старец, – но вообще-то говоря, он был не так уж и стар, – обрушил на койку центнер своего живого веса, надул щеки и одобрительно кивнул: «Надо что-то предпринять, – сказала блоха и подпрыгнула». Причем падре Дамиано произнес это столь же довольным, сколь и задумчивым тоном. «И этот прыжок входил составной частью в целое, в великий общий процесс – и пусть больше ничего сокрушительного при этом не произошло, она, как уже было сказано выше, подпрыгнула».
Потом, далеко откинувшись назад, он возвел глаза к потолку и долго разглядывал ржавое пятно: «Да и кто бы не захотел обзавестись неким прекрасным островом, чтобы слегка взбодриться с его помощью! На нем, пожалуй, и воздух хороший. Ну само собой, должен быть хороший, как же иначе. Малярию там уже полностью искоренили, ее там вообще и не знали никогда. Змеи там не водятся, тигры – тоже нет. Смертность резко упала, все умирают в библейском возрасте, отходят с миром – на белых простынях. Разумное правление, цветущие округа. И самое главное – там не знают денег! Ха-ха-ха, хитрец вы этакий! Но вот какой вопрос: эти люди там, наверху, они наделены свободной волей или просто кротки, покорны и управляемы, как овцы?»
«Отчего же, они наделены свободной волей, в большей степени, чем мы за этими решетками, чем мы повсюду, и в большей, чем тупые верноподданные под гнетом своих эксплуататоров».
«Но ведь ваши островитяне лишь редко оказываются в таком положении, когда эта воля им потребна. Сказав, однако: „Надо что-то предпринять“, не так ли, они совершают один прыжок, и еще один, и мир их остается таким же, как и прежде: хорошо темперированный, улаженный, а прыжок доставил им удовольствие сам по себе».
Старик засмеялся себе под нос, а падре Консальвес сердито вскинул подбородок: «Вы отделываетесь общими шутками, это всегда было легко. Что до меня, я хочу получить обратно свою свободную волю, которую пожертвовал на алтарь».
«Ладно, тогда займемся частностями. – Падре Дамиано по-бычьи выставил голову. – Вот поглядите, чем вы располагаете: то, что можно вернуть, оно покамест здесь и никуда не делось еще, – если воспользоваться вашей красивой формулой – не сгорело на жертвенном огне алтаря. Нет и нет, кто внушил вам подобные представления? Я наверняка нет. Итак, внимайте. Господь подобен умной женщине; даже когда возлюбленный клянется и божится ей: возьми мою волю, возьми мою свободу, возьми все, он на самом деле вовсе так не думает, и женщина тоже не думает, если, конечно, Бог не совсем обделил ее разумом. Рассмотрим теперь универсальную доверенность, которую выдал вам Бог, я подразумеваю вашу свободу поступков, можете смело забрать свою небесную акцию, она принадлежит вам по праву! Не забудьте только про капитал, причитающийся на вашу акцию. Этот капитал – вы сами.
С Божьего соизволения вы располагаете и собой, и всем, что вы есть и что вам принадлежит. Получается, что вы носите при себе довольно толстую и давящую на сердце чековую книжку. Вот мне и любопытно, на чье имя вы теперь будете выписывать чеки, когда начнете по кускам раздавать свою свободу. Вы заметите, что книжка становится много тоньше. Ну вы, слава Богу, не из скупых! Но держите ухо востро. Последний чек в книжке – а ведь она кончится рано или поздно – вы выпишете на имя любви, любви в любой форме, на имя того, что вами не является, но что нуждается в вас».
С этими словами старец поднялся, подступил к нему, начертил у него на челе три креста и при этом шепнул: «Господь милостив. А умереть вам все равно суждено в монастыре».
Таковы были последние слова удивительного старца, которого не уставали укорять более рьяные монахи за образы и сравнения из банковского дела и экономики. Некоторые даже позволяли себе усомниться в его правоверности. Так, к примеру, падре Дамиано охотно рассказывал легенды, которым каждый из его слушателей приписывал христианское происхождение, более того, считал кристаллизацией христианского духа, и это давало старику возможность по окончании рассказа со злорадным хохотом предъявить слушателям источник легенды: таоист, буддист, магометанин, и завершить своим обычным речением: «Все ваше, вы же Христовы».
В ту пору падре Дамиано уже разменял седьмой десяток, и очень может быть, что ему не довелось пережить ужасный судный день – как позднее нарекут его монахи.
Пако обежал мыслями все покои монастыря и собственное прошлое в этих же стенах. Но всякий раз, когда равномерный шаг часовых звучал за его дверью, воспоминания Пако каменели и стук шагов отдавался у него в душе. И особенно грозно громыхали в этой тишине шаги того ни о чем не догадывающегося, кто и в мыслях не держал, что здесь, на койке, лежит человек, который все серьезнее размышляет над вопросом, будет оправдание у этого ножа, когда он вонзится, или не будет. Размышления Пако не были казуистическим взвешиванием, которое кличет на подмогу теологию морали. Он, скорей, прислушивался к чему-то у себя внутри. В нем обитал мальчик Пако, юноша, монах, матрос, который, однако, ни разу не участвовал в поножовщине, солдат, боевой товарищ. Целая бригада всевозможных Пако держала военный совет. Пленный настойчиво и вопросительно протянул им нож, один передавал нож другому, и все молчали. Даже солдат, и тот ничего не сказал, он лишь повел плечами, а потом вдруг выкрикнул: нет, нет, только не я. Я устал, имею же я право хоть раз в жизни отдохнуть. Но тут, ко всеобщему удивлению, с места поднялся монах, богослов, и он сказал так: возможен случай, когда это необходимо – и тогда я сделаю это сам, на свою ответственность, – но только в этом одном случае! Мне не по душе пулеметы, которые направлены в коридор. Лейтенант боится. Как он поведет себя, когда его сторона начнет отступать? Когда и им придется оставить город? Такие случаи более чем известны. И даже пусть он не угадывает столь зловещим образом убийцу прямо у себя за спиной, ему все равно предстоит выполнить приказ… Он велит пленным покинуть кельи, он сообщит, что их переводят то ли в X, то ли в Y, чтобы те тронулись с места, а когда они пойдут вниз по лестнице, сзади и сбоку лихо застрекочут пулеметы – или не на лестнице, а внизу, во дворе. Не дарить же врагу две сотни солдат. Противостоять преступлению дозволено, защитить жизнь других – это даже нравственный долг. Тем самим, если рассматривать наш случай как данность, – богослов Пако выглядит более чем решительно, – тогда как Пако на койке вздыхает и ворочается с боку на бок.
Итак, этот гад, этот формалист, он, видите ли, боится адских мук. Пако покачивает головой, сам он вот уже двадцать лет как не исповедовался и потребности в исповеди не испытывает.
А этот тип – черт знает что он там натворил с монахинями – нельзя сказать, чтоб он наложил полные штаны, но уж наверняка полную совесть – прицепился именно к нему, который придерживается об исповеди совершенно другого мнения. Пако потирает лоб, словно желая пробудить самого себя от безумного сна. Двадцать лет, долгих двадцать лет человек учился избегать каких бы то ни было крайностей, в какой бы то ни было сфере. Он привык даже на поле дискуссии, проистекавшей вдалеке от врат поступка, улыбкой, которая стала неотъемлемой частью его внешности, избегать постановки вопроса или – или. Вот и в этой войне против собственных городов и собственных граждан он участвовал с ужасным недоумением, и его «да» либо «нет», пока и поскольку он оставался солдатом, не выходило за пределы отношения к бытовым вопросам, все прочее выполнялось молча и тупо – человек тянул лямку.
Прав добрый падре Дамиано, чековая книжка – да-да, может там и впрямь остался один-единственный листок, и листок этот надлежало заполнить на имя любви, любви – вот тоже не слово, а игральная кость, как выпадет, так и ляжет. А разве это не любовь – подумать о тех двухстах, которых здесь, может быть… Он резко поднимается со своего лежака и прислушивается: кто-то идет, подходит все ближе и ближе, а может, это ночная тишина делает столь отчетливым голоса пушек? Он поспешно, уже привычным движением сует руку в карман и удивляется при этом себе самому – он знал наверняка, что уже много дней подряд тщетно разыскивает по всем карманам сигарету, и всякий раз снова и снова то же самое движение и тот же миг безумной надежды, что вдруг в какой-нибудь складке завалялась одна, смятая… Кстати сказать, у него и спичек-то не было. Он медленно поднялся с лежака и подошел к конторке. В уже сгустившихся сумерках он чего-то искал, рукам требовалось какое-то постоянное занятие. Так он и отыскал в ящике пакетик, втянул ноздрями запах – нюхательный табак, отменное качество, не иначе – из замка. Он взял щепотку, а весь станиолевый пакетик сунул в карман. Премного благодарен, падре Хулио – ты по-прежнему заботлив и доброжелателен. Жаль только, что ты не курил сигарет. Он порылся в среднем ящике: тетради, письменные принадлежности, хлопушка для мух, почтовый набор, сургуч – незачем и заглядывать.
Он начинает тихонько барабанить по конторке, словно это не конторка, а тамбурин. За этим занятием он издает громовой чих. Нож! – то и дело вспоминается ему. Мысли его ищут себе какое-нибудь отвлечение, вот будь у него сигарета, он бы перестал вспоминать про нож. Он подходит к дверям, прислушивается и, поскольку часовой только что прошлепал мимо, стучит в дверь: чтоб отвел его к teniente дону Педро, это звучит почти как приказ, хотя, излагая свою просьбу, Пако улыбается. Перед ним не сержант, а один из двух солдат, и этот солдат уходит, чтобы спросить у сержанта. Пако слышит их голоса в конце коридора.
Боже мой, думает Пако, ведь не могу же я просто сказать лейтенанту, что пришел к нему из-за сигареты. А пока он берет еще одну понюшку, ему приходит в голову, что лично он, падре Консальвес, всего бы лучше вообще запретил монахам употребление нюхательного табака. Он качает головой: что ж, продвинулся он еще на один шаг или нет? Презанятный порок это курение! Да и вообще любая зависимость от чего бы то ни было! Однако лейтенант обрадуется, протянет ему портсигар как своего рода взятку – чтобы умилостивить будущего исповедника. Безумный мир, а еще говорят, что это звезды сводят людей! Сигарета – или нож! Но и нож – всего лишь важничанье перед самим собой, нервное возбуждение, которое ищет цели, чего ж еще. Сигарета успокоит, и тогда человек посмеется над собственной отвагой, довольный и жалкий. За всю свою жизнь он с помощью ножа не лишил жизни ни одного существа, которое способно дышать, ни курицы, ни кролика и, шагая вслед за солдатом по коридору, с любопытством роется в себе, отыскивая кровавые воспоминания.
Несколько свечных огарков под синими козырьками стояли на каменных плитах пола, окна из коридора вели во внутренний двор, но были, несмотря на это, завешаны мешками. Тени солдата и Пако изгибались на сводчатом потолке, словно их подвергали насилию, но свет очередной свечи на полу уничтожал тень, отброшенную предыдущей, и, как бы повинуясь безмолвной команде, отбрасывал новую тень в новом направлении. Возможно, именно потому, что их тени вели себя совершенно одинаково, Пако испытывал нечто вроде приязни к этому мрачного вида немолодому человеку и даже спросил его: «Из Кастилии?» Солдат коротко глянул на него, словно желая поставить спрашивающего с его с неуместной доверительностью на место, однако в конце концов утвердительно кивнул. «Оно и видно, – улыбнулся Пако. – Жена и дети, конечно, есть?» «Дети? Да», – солдат произнес это тихо и даже с осторожностью, словно выдавал своим ответом какую-то военную тайну.