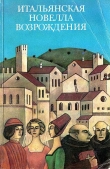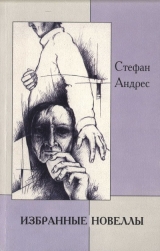
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Я снова положил книжный лист на стол и осторожным движением подтолкнул по столешнице к Хадраху. Он налил себе одну за другой две рюмки, затем придвинул их жадным, взмывающим кверху движением, после чего осушил. Глаза у него при этом выкатились из орбит.
– Ну что? – спросил он, можно сказать, с оттенком злорадства в голосе, словно это не он, а я ошибочно предсказал содержание того конверта, который он безостановочно комкал в руках. – Скажи хоть что-нибудь! – выкрикнул он почти грубо.
– И все это из-за глупой скотины, которая ко всему еще и дух испустила, – пробормотал я, не поднимая глаз. Выражение Хадраха внушало мне страх, он выглядел как человек, на которого вот-вот снизойдет безумие. – Давай лучше поедем назад, к Мауре, и все снова будет в порядке.
Хадрах медленно придвинулся ко мне и прошептал:
– А ты бы поменьше толковал про Мауру! Скажи-ка лучше, что ты об этом думаешь, о письме этого господина Сильверберга.
В ответ я:
– Дай сам себе ответ! Представь себе на минуту: ты сам – Сильверберг, ты испытал то, что испытал он…
– Фрау Тейс, – вдруг закричал Хадрах таким голосом, что я подскочил, ибо его голос прогремел как взрыв, – свяжите меня с Сильвербергом. Номер два! Он у себя! Ну, живо! Да, да, с Сильвербергом!
Он встал и, растопырив пальцы, уронил на стол конверт.
– Теперь ты сможешь собственными ушами послушать, как глубоко я вхожу в положение этого мусорного барона! Ну, теперь-то я достану своего быка хоть из-под его кровати, хоть из его сейфа. А если он не урезонится, использую и его самого как оберточную бумагу. Раз вместо того, чтобы дать нормальный ответ, он посылает мне на дом юмористические статьи, значит, он меня еще не знает.
– Как-как, юмористические статьи? – Я вскочил, его злость заразила и меня. – Ты уже и впрямь переходишь все и всяческие границы. На том же самом месте, где ты стоишь сейчас, ты десять минут назад ратовал за необходимость не переступать хотя бы ту границу приличий, ниже которой человеку просто нельзя безнаказанно опускаться. А теперь? То, что бывшему гражданину Германии Сильвербергу представляется незаслуженным, позорным оскорблением, «законным» унижением, ты и сегодня называешь «юмористической статьей»?
Хадрах обернулся, хотел мне ответить, его пошедший насмешливыми складками лоб внушил мне самые страшные опасения, но тут фрау Тейс выглянула из-за большого опорного столба со словами: «Господин Сильверберг у аппарата!»
– Ага! – Голос Хадраха прозвучал как стон, стон умиротворения и страсти. Он исчез в телефонной кабинке позади холла. Я по пятам следовал за ним. Дверь Хадрах затворять не стал и криво улыбнулся мне сверху вниз, откинув голову назад.
– Да, мистер Сильверберг, с вами говорит Хадрах с соседнего участка. Выслушайте меня одну минуту. Дело в том, что я прочел ваш ответ на мою телеграмму… и оказался перед неразрешимой загадкой… Ведь этот текст никак не может быть сочинен вами, да и я в этом не принимал участия. Итак, что вы хотели этим сказать? – Хадрах подмигнул мне и продолжал доверительным голосом: – Я и мысли не допускаю, что подобными штучками вы хотели меня задеть. Мы ведь совсем не знаем друг друга. Я в прямом смысле этого слова не знаю, как вы выглядите. Я только слышал, что вы стали американцем и вновь – моим соседом. И продолжаете обделывать свои дела в Германии. Ну и на здоровье. Меня это не касается. Единственно почему я захотел с вами связаться – и что между нами как между соседями следует разъяснить раз и навсегда, это проблема преследования дичи. – На следующих фразах голос Хадраха стал сперва деловым, потом торжественным. – Я же со своей стороны предлагаю вам в любое время, не спрашивая меня, преследовать любую подстреленную вами дичь, которая перебралась на мой участок, и увозить ее как свою законную добычу. Что вполне естественно в отношениях между людьми, наделенными даже обычными манерами, не правда ли?
Он снова подмигнул мне и встряхнул трубку, словно желая сказать: «Ну, теперь ты видишь?»
– А теперь услуга за услугу, мистер Сильверберг. Я не так уж и много от вас требую. Я требую очень немногого, это даже нельзя и назвать услугой. Я требую лишь одного-единственного оленя, этого уже убитого мною зверя, пробегите глазами мою телеграмму! Ну как, вы согласны?.. Алло, алло, мистер Сильверберг! Вы ни единым словом не откликнулись на мое предложение? Тогда повторяю: мне нужна голова, я имею в виду рога, эти копья! А тушу я уступаю вам за ваше великодушное поведение… Вы согласны?.. Алло, алло!.. Почему вы не отвечаете? – Хадрах нагнулся, и я увидел, как дрожит его рука с трубкой. – Я к вам обращаюсь, господин Сильверберг. Вы слушаете меня и не отвечаете?.. Я прав?.. Может быть, вы хотя бы подтвердите отчетливым «Да» то обстоятельство, что вы меня слушаете и мне не отвечаете?.. И этого не желаете? И трубку не кладете… Чтоб я стоял и говорил, и говорил, а вы тем временем находитесь на проводе и наслаждаетесь и чувствуете себя хозяином положения?! Хотите выставить меня дураком, хотите выпустить на волю свою личную злость? Поостерегитесь, господин Сильверберг, я не стану вырывать страницы из книги, чтобы поиздеваться над вами, чтобы морально поставить вас на колени, я это сделаю совсем по-другому. Так вот, учтите: не пройдет и часа, как я опущусь на колени перед своим оленем, дам ему последнюю трапезу и отрежу ему голову, а уж об остальном пусть позаботится живодер. Но горе тому, кто попытается встать у меня на пути… Вы все поняли? Это было бы опасно для жизни, вы поняли? Опасно для жизни… Ну а теперь можете показать, на что вы способны. Примерно через час, но только берегитесь, если вам еще неизвестно: речь идет об очень крупном олене-убийце!
Хадрах положил трубку, но рука у него так сильно дрожала, что он лишь с третьего раза попал на рычаг. Энергичными шагами он прошествовал мимо меня, подошел к столу, рухнул на скамью и снова осушил две рюмки подряд, при этом голова его всякий раз откидывалась назад, словно на шарнирах.
– Так-так, – он произнес это голосом, лишенным всякого выражения. Мне следовало что-что сказать, что-то, способное отвлечь его и успокоить – он выглядел таким ужасно покинутым, когда сидел во главе почти пустого и очень большого стола. Семейство Тейс и шофер находились на кухне, где фрау Тейс, вполне возможно, готовила ужин, но из-за двери не доносилось ни единого звука. Они хорошо знали своего господина.
И тогда я сказал:
– Господин Сильверберг и в самом деле обязан был тебе ответить. Когда к нам обращается человек, мы…
Как бы стирая следы моего голоса, он поднял руку:
– Чепуха! Кто он такой, этот Сильверберг? Еще чего! Этот маленький, мстительный еврей – какое мне до него дело? Но вот то обстоятельство, что ему пришло в голову, что у него хватило духу разыгрывать по телефону судьбу, то есть хранить молчание, как сама вселенная, дав мне возможность говорить, говорить, говорить… Сколько времени все это вообще-то продолжалось? Я уж и не соображу. Не потерял ли я лицо, не прибегал ли к ругательствам?
Я его успокоил:
– Вообще-то ты сказал ужасные слова, например: тушу я оставляю для живодера.
Хадрах встрепенулся:
– Живодер? Так я и сказал? Но ведь я же не Сильверберга имел в виду, не так уж он и велик. И однако же он сделал для меня кое-что понятным, словно пророк. Ты говоришь, и рассуждаешь, и зовешь, и спрашиваешь… а на другом конце провода ни звука, понимаешь, ни «Да» и ни «Нет», ни смеха, а связь работает, ты ведь не слышишь сигнала «занято»… ведь это же… это же…
Он снова себе налил, опрокинул рюмку, пожирая при этом глазами потолочные балки и светильник, составленный из трех сплетенных оленьих рогов.
– Посмотри только, завтра – шестьдесят, звание почетного доктора, толстый, массивный крест от правительства, заранее опробованные речи на похоронах, синтетические поздравления, завистники, которые с такой натугой тебе улыбаются, словно у них воспаление тройничного нерва… А когда они меня после этого спросят, как поживают мои дети… А когда некие дамы обступят Мауру и начнут шептать ей на ушко, что для такого мужчины шестьдесят – это еще не возраст, что пятнадцать лет разницы выравнивается благодаря тому-то и тому-то. А когда Маура вскинет подбородок, словно желая спастись от утешений, расточаемых этими ангелами льда, – да, когда она вскидывает подбородок и поводит глазами по сторонам, словно надеясь обнаружить детей среди толпы, или, скажем, тебя, своего Петера… Ну да, я хотел сказать: тогда наш хорошо сохранившийся юбиляр будет стоять, как несколькими минутами ранее, и будет говорить, говорить, выражать благодарность тому, выражать благодарность этому, обещать то, сулить это, порой острить, украшать себя цитатами, заклинать будущее Германии и всего мира, говорить он будет и слышать, как тают его слова и, как произошло несколькими минутами ранее: не получать ответа! А что можно прочитать на лицах его слушателей? Эти улыбочки, словно спустившаяся петля, этот неискренний одобрительный шепоток, эти исполненные достоинства кивки лицемеров – о, это не судьба, судьба отвечает по-другому, она отвечает как Сильверберг, но, – и он поднялся так же, как поднял это «но» из глубин своего существа, спокойно и торжественно, – мой олень меня ждет. Мне пора, я должен идти, найти его, увидеть, ощупать руками, кто он такой, что он такое.
Я воздел обе руки и заклинающе замахал ими перед его лицом – в глазах возможного наблюдателя это должно было очень смешно выглядеть.
– Сиди, – сказал я так ласково и так повелительно, как только мог, – я позвоню Мауре, – поспешно добавил я, словно в этом и было решение.
– Вот этого ты делать не станешь, – и Хадрах замотал головой, – никакого вмешательства больше не будет.
При этом он поднялся по лестнице на деревянную галерею, которая по периметру обвивала наверху холл и через которую можно было попасть в спальные комнаты. Он зажег свет и, перегнувшись через дубовую балюстраду, зорко поглядел вниз.
– Принесу тебе кое-что почитать, – сказал он почти приветливо и расслабленно, – я могу проходить очень долго.
– Может, дослушаем сперва пленку Мауры?
Я поднял глаза, и голова Хадраха тотчас исчезла за необычайно солидной балюстрадой из лучшего дуба.
– Пленку, пленку, пленку.
Я слышал, как он повторяет это слово, пока за ним не захлопнулась дверь.
В свое время Хадрах рассказывал мне про эти перила, что они выточены из старых давильных бревен, и когда растапливают камин, весь холл благоухает вином. Но сам он, к своему великому сожалению, наслаждался этим ароматом всего один раз, да и то много лет назад: для этого надо хорошенько протопить дом, и так – несколько дней подряд, а остаться на такой долгий срок в своем охотничьем домике он с тех ни разу не смог.
Об этом аромате, таящемся в толще дубовой древесины, я невольно вспомнил сейчас. Мои мысли хаотически метались, но всякий раз возвращались к Мауре. Я решил подчиниться воле Хадраха, не сопровождать его, но, едва он покинет дом, позвонить Мауре и попросить, чтобы она по телефону предостерегла Сильверберга, который, возможно, недооценивает существующую опасность.
Не прошло и пяти минут, как Хадрах спустился вниз, уже с ружьем за плечами. Правой рукой он держался за перила, его шаги грузно звучали на половицах. Я продолжал сидеть, потому что так ощущал в себе большую способность к сопротивлению, и принялся тихим голосом, разжевывая каждое слово, расписывать Хадраху возможные последствия этого приключения. В моем лепете всплывали такие слова, как «скандал», «бульварная пресса», «сенсационный процесс», под конец я и вовсе ударил кулаком по столу:
– А ко всему меня и вовсе принудят давать против тебя показания.
Он медленно повернулся ко мне, и его ступни проделали этот поворот вместе с его телом.
– Неужели для тебя это будет так уж неприятно? – спросил он, и ухмылка тронула его широкий рот, снова обнажив мощные челюсти, эту ничем не прикрытую силу, вид, который был для меня крайне неприятен и с которым я примирился, лишь когда он обнажил зубы в безудержной ухмылке.
Отвечать на этот вопрос было нечего. Я почувствовал, как под столешницей колотятся друг о друга мои колени, но тем не менее я взглянул на него. Впрочем, именно этого мне, вероятно, и не следовало делать. Ибо он заговорил снова:
– Разве все эти годы – с тех пор, как я женат – с тех пор, как я увел у тебя Мауру, – ты не давал показания против меня? Втайне, разумеется – когда мои дела удерживали меня где-нибудь за тысячи километров от дома. Не скажу, что твои показания были примитивно откровенными, и прямыми они тоже не были, нет, они делались совершенно в твоем духе, в форме неожиданной гримасы, внезапного молчания, вздоха, порой даже утешительного слова: «Ах, Маура, ведь он просто не может по-другому!» – «Ах, Петер, так об отце говорить нельзя, нельзя даже в тех случаях, когда ты прав!» – «Но, Цилли, твой отец, несмотря ни на что, всех вас любит, хоть его и нет никогда с вами!» – «Ну, конечно, Маура, ты права, но тут никуда не уйти от старой альтернативы!»… Нет, нет, ты обходишься без иностранных слов, ты, конечно же, вел речь о «двух исключающих друг друга возможностях в образе жизни человека, живущего на публике», о «давящем на сердце» или – или: жить ради профессии или ради души, ради успеха или ради любви, ради света или ради семьи – и так далее, и тому подобное, эту игру в или – или можно вести до бесконечности, вплоть до вопроса курить – не курить. Ты даже Мауру заставил бросить курить… Ни в чем, никогда я не мог обнаружить столь очевидных следов собственного влияния на нее, какое имел на нее ты, я, конечно, хочу сказать: такого положительного влияния. Почем знать, может, эту историю про коронованного зверя тоже подобрал для нее ты, дабы предостеречь меня своим нежным нашептыванием, своим символическим намеком – предостеречь от себя самого – от зверя во мне самом – от того оленя-убийцы, каким я безусловно являюсь в твоих глазах. Я ведь знаю, что ты писал моему сыну Петеру о безжалостности финансовых стратегов.
Я вскочил, я хотел швырнуть ему в лицо свое возмущение, но не нашел подходящих слов, да и голос мой мне вдруг отказал. А вот выражение его лица, пока я стоял перед ним в бессловесном возбуждении, стало спокойнее, я бы даже сказал, почти снова стало приветливым. И тут ко мне вернулся дар речи, и я заговорил:
– Эту легенду об олене-рогоносце – я хотел сказать: венценосце – Маура нашла где-то в другом месте, не у меня. Я тебя не обманываю, обманывать человека в твоем теперешнем состоянии было бы…
– Интересно, чем это было бы?
Хадрах медленно подошел к столу и оперся обеими руками о столешницу. Он плотно стиснул губы, отчего верхняя губа придала его лицу отчасти довольное, отчасти ехидное выражение.
– Это было бы преступлением, – докончил я.
– Ну, тогда признавайся, на эту мысль навела меня твоя оговорка насчет рогоносца: месяца два назад, когда я был в Гонконге, когда Маура хотела уйти от меня, у тебя с ней что-нибудь было? Ты понял, о чем я?
Я стоял, чуть наклонясь над столом. Его взгляд, все более яростный, прижимал меня к стене. Я сел, посмотрел на свои руки и наконец утвердительно кивнул.
– Вот видишь, – услышал я у себя над головой, и его словно подбитый ватой голос звучал со зловещим спокойствием, – так я и думал. Хотя Маура притворялась лучше, чем ты. Что мне прикажете теперь с вами делать? Поднять вас обоих на мои хоть и с опозданием, но недурно отросшие рога? Здесь, – и он схватился за ствол своей винтовки, – я бы сумел это сделать безо всякого. Тебя – сейчас же, завтра утром – ее. А в промежутке я бы еще раз выспался здесь наверху, хорошо выспался, у меня есть отличное снотворное. Но поступи я так, вы бы все заверещали, как они всякий раз верещат от возмущения: убийца! Так что этого я делать не стану. Да и к чему? Узнать! Себя! Друг друга!
Он отвернулся с тихим смешком. Я слышал, как громыхают его шаги по паркету. Он скрылся за столбом, прошел на кухню, я слышал, как он разговаривает с фрау Тейс. Потом он вернулся и проследовал в телефонную кабинку. Не проведя там и полминуты, вышел снова и совершенно спокойным голосом окликнул:
– Фрау Тейс, подите-ка сюда!
Точно таким же голосом он вызвал и шофера.
– Ну так вот, – сказал он тоном холодного приказа, – сейчас я пойду. Месяц, должно быть, скоро выглянет, а вдобавок у меня хороший фонарь. – Он ощупал карман пиджака и кивнул утвердительно. После чего подробно и обстоятельно начал внушать нам, что никто из нас ему на ближайший час не нужен. А если он задержится, можно ужинать, не дожидаясь его. Я встал, протиснулся между скамьей и столом и медленно подошел к нему. Тут Хадрах возвысил голос. – А теперь слушайте, – сказал он, – вся эта история никого из вас не касается. Все вы, стоящие здесь, ничего об этом не знали. Да я и сам еще не знаю, как оно все сложится. А вам было известно лишь то, что я по доброй охотничьей традиции собирался принести оленю последний кусок. И никого из вас я с собой не брал, никого. Потому что при таком деле мне никто и не нужен.
Он повернулся и открыл входную дверь. Я тихо подошел к нему, и мы остановились примерно в полушаге от дома. И тут прямо у нас над головой взволнованно щебетнула ласточка. Хадрах вздрогнул и поднял глаза к красным балкам на выдвинутом вперед фронтоне. «Как темно, да и то сказать – на дворе уже август», – пробормотал он. Я положил руку ему на плечо и прошептал: «Позволь мне идти с тобой, я тревожусь за тебя».
Тут Хадрах отскочил на несколько шагов, словно я угрожал ему, дал ружью соскользнуть с плеча прямо в руки и прохрипел:
– Не подходи ко мне близко! Я не знаю тебя! Я и вообще никого больше не знаю! Вот! А кто не оставит меня в покое, с тем я посчитаюсь, я его просто подстрелю, любого, и можешь спокойно объявить меня сумасшедшим!
– А завтра? – закричал я, словно желая его разбудить. Перед моим взором встала Маура и все гости. И голос у меня отнюдь не свидетельствовал о великой отваге, но я был исполнен решимости. – Ты же видишь, наступает ночь! А нам нужно еще сегодня вечером вернуться домой. Тебе надо выспаться. Да и Маура – она будет с ума сходить от страха и не сможет заснуть, а завтра ты опоздаешь и будешь усталый донельзя.
Хадрах по-прежнему держал ружье наизготовку.
– Завтра? Кто это там толкует про завтра? А может, я намерен поступить, как мой лучший друг, как старательный, таинственный, самоотверженно работающий ночи напролет Малёк? – Хадрах коротко хохотнул и откинул голову. – Да, да, Петер, я поступлю точно как ты – и как мои дети: я просто-напросто не явлюсь на торжество! Тогда Маура будет стоять завтра в десять, когда открывается колбасный рынок, будет, значит, стоять, хорошо будет стоять, хозяйка замка, и будет тосковать по мне, на сей раз вполне искренне, могу тебя заверить, так еще ни одна женщина не тосковала по своему мужу. А когда я не появлюсь, она начнет названивать по телефону – двадцать раз, тридцать раз, сорок раз, сто раз! У нее даже палец заболит от набора цифр, и голос обесцветится от многократного повторения одной и той же лжи. Интересно, какую отговорку она придумает? Может, что юбиляра просто похитили? – Тут он снова закинул ружье за спину и без тени грусти или разочарования сказал: – Это ж надо, какой итог после тридцати лет каторги, почти после двадцати пяти лет брака, после… короче, пока! И повторяю: пусть за мной никто не идет, никто! Исключений я больше не стану делать ни для кого.
С этими словами он отвернулся от меня и обошел вокруг дома, потом пошел вниз по дороге, ведущей на уже стемневший участок. Луна до сих пор не взошла.
Несколько мгновений провожая глазами уходящего, я размышлял, пьян он или нет. Сказать было трудно, во всяком случае, по его манере разговаривать ничего нельзя было определить. И то, что он вдруг так разговорился, тоже не могло служить доказательством, ибо Хадрах при всем своем умении ожесточенно молчать, порой даже и безо всякой выпивки начинал говорить без удержу и часами разливался перед своими слушателями. Знаком известного опьянения послужил быстрый и непредсказуемый переход его чувств с «холодно» на «тепло». Но если он пьян, значит, и к его угрозам следует относиться вполне серьезно.
Я вернулся в холл. Коричневатая стройная фаянсовая кружка все еще стояла на столе между обеих рюмок. А если Сильверберг со своей стороны тоже пропустил несколько рюмок… Я поспешил к телефону! Но трубка не лежала на рычаге, она лежала возле аппарата, и у нее был такой маленький хвостик. Я испуганно вскочил: провод был перерезан. Все, что я ни предпринимал потом, происходило, как мне кажется, под воздействием некоего внутреннего принуждения. Я выбежал из дома. Луна поднялась на ширину одной ладони над верхушками елей. Я открыл тяжелые бревенчатые ворота и пробежал вдоль палисадника, потом вдоль забора из проволочной сетки, покуда передо мной не блеснула в лунном свете медная дощечка: Сильверберг! Я поискал кнопку звонка, но не нашел, и тогда я просто перелез через ворота – они состояли из стальной рамы, на которую была натянута проволочная сетка, побежал дальше по извилистой дорожке. Дорожка была в образцовом порядке, я мог не опасаться, что споткнусь и упаду на бегу. Наконец я добежал до бревенчатого дома, позвонил, закричал, подождал, постучал, позвонил, снова закричал. И тут произошло то, что я счел поначалу вмешательством небес. В черной входной двери возникла поначалу четырехугольная светлая плоскость – окошечко, перед окошечком – решеточка – клетка – потому что сбоку подскочило нечто похожее на толстый, черный, взъерошенный комок перьев в зарешеченном световом квадрате. Лишь потом я сообразил, что это такое: это была просто-напросто старая негритянка, которая стояла по ту сторону двери и выглядывала наружу с таким же выражением, с каким я смотрел внутрь. Оба мы были изумлены до чрезвычайности. На какое-то мгновение я вообще перестал соображать, где я нахожусь. Негритянка же ужасно вращала глазами, от страха, надо полагать, пока не узнала, что привело меня сюда в такой поздний час. По-немецки она почти ничего не понимала, а ее ответы на английском я понял сперва лишь из ее отрицательных и указующих внутрь дома жестов. Из моих десятикратно повторенных вопросов и ее терпеливо повторяемых ответов я понял следующее: мистер Сильверберг еще до обеда покинул дом и на несколько дней вернулся в город, к делам – да, да, еще до обеда, часов примерно в одиннадцать. А примерно с час назад раздался телефонный звонок, она сняла трубку, села, но не могла понять ни единого слова, ни единого… А от голоса в трубке ей стало страшно, объясняла она мне, такой громовой голос…
Я засмеялся, пожелал старухе доброй ночи, извинился за столь позднее вторжение и пообещал в самое ближайшее время позвонить господину Сильвербергу и все ему объяснить, после чего еще раз пожелал ей доброй ночи. Я чувствовал себя как мальчишка, который вопреки всем ожиданиям благополучно сдал серьезный экзамен. По дороге к воротам я буквально приплясывал. Тогда не далее чем через час – так я прикидывал – мы можем выехать домой, в Хемхесберг. Ну а потом что? Я видел перед собой Мауру и испытывал страх при мысли остаться наедине с ними обоими.
Войдя во двор, я увидел, как из кухонных дверей выходит шофер, он делал медленные и маленькие шажки, причем то и дело останавливался. И тут я подумал: настал самый подходящий момент, чтобы дослушать легенду до конца. Я попросил шофера перенести магнитофон в холл. Я налил себе можжевеловки, чокнулся с рюмкой Хадраха, и вот уже в комнате зазвучал голос Мауры, такой близкий и такой прекрасно удаленный:
«В ту ночь в своем загородном дворце Василий размышлял о множестве других толкований относительно его цели и этого зверя, даваемых ему усердными придворными: глубокомысленные толкования богословов, мудрые – философов, приукрашенные – риторов, полные новых предсказаний – всяких болтунов из нижних подвалов ипподрома, куда прибегали за советом женщины Византии.
Этой ночью Василий увидел во сне своего крестного, могильщика. Император непрерывно подносил к широко распахнутым глазам старика птиц и при этом всякий раз вопрошал: „Что это означает?“ Его вопрос сдувал птицу в синеву стариковских глаз, следующая, едва император снова произносил свой вопрос, летела тем же путем, пока все они не скрылись из виду.
На рассвете следующего дня император с такой страстью приступил к охоте, что лучшие наездники не могли угнаться за семидесятичетырехлетним монархом. Гигантский огненно-красный олень, вспугнутый сворой, увлек императора за собой, словно некая невидимая нить связала воедино его рога со сверкающим наконечником императорского копья. Но потом, на глазах у подоспевшей свиты, олень вдруг развернулся на бегу и, осатанев от ярости, напал сбоку на всадника, поднял его прямо из седла на рога, и тогда император, подвешенный за пояс на рогах оленя, уплыл вместе с ним в золотом облаке пыли навстречу восходящему солнцу.
Умелый удар мечом отделил императора от оленя. Василий упал на землю со вспоротым животом. При полном молчании придворных, широко распахнув глаза, умирающий вслушивался, словно земля все еще дрожала от топота оленьих копыт. „Какой зверь, – промолвил он с великим удивлением, прежде чем окончательно испустить дух, – какой огромный зверь, способный привести Василия к цели, к такой цели…“»
Когда голос Мауры ускользнул на слове «цель», словно на облаке, нет, на облачке, которое, чуть вытянувшись, алеет в лучах заходящего солнца, я продолжал сидеть неподвижно и вслушиваться. Сколько я так просидел, мне впоследствии удалось подсчитать: примерно три четверти часа. Тишина в просторной передней растянулась, изредка что-то тихо потрескивало во множестве сплетенных между собою балок и стропил. Возможно, эти три четверти часа можно отнести к самым сокровенным в моей жизни, думается, я возносил молитвы – без слов, и был признателен, тих и исполнен надежды.
И вдруг вдали прогремел выстрел, выстрел из охотничьего ружья. Мое ухо восприняло его не резче, чем тиканье и треск в балках. И однако же я вздрогнул так, словно прозвучавший вдали выстрел громыхнул у самого моего уха. Я сник над столом, я углубился в себя самого. Потом сорвал себя с места и побежал на кухню с криком: «Пошли, пошли, там что-то случилось!»
Мы втроем поспешили сквозь ночь. И мы нашли его, где-то в самой глубине Сильверберговых угодий, на дне пересохшей речушки. Голова его лежала рядом с головой оленя, удаленная от нее примерно на ширину ладони. Я запустил руку в правый карман его куртки, я припомнил, как перед уходом он нащупывал сквозь ткань карманный фонарик. Я достал его, я направил свет на Хадраха – и тотчас погасил лампочку. Я и так увидел достаточно, слишком достаточно. На зеленой куртке как раз против сердца расплывалось темное пятно. Значит, он так и сделал. Я не мог, я просто не желал в это поверить. Но что еще прикажете думать, если дуло ружья при неумышленном выстреле оказалось направленным прямо в сердце? Я еще раз зажег фонарик и на мгновение еще раз вырвал из темноты его лицо. Он лежал почти на боку. Зубы у него блестели, полузакрытые глаза были устремлены на оленя. Похоже было, будто оба эти вытянувшихся тела перешептываются между собой и лишь притворяются мертвыми, потому что здесь присутствуем мы и мешаем им.
Я сказал своим спутникам, что втроем мы могли бы вытащить пострадавшего на берег, а потом раздобыть носилки. Но когда мы начали поворачивать его голову, это давалось нам лишь с большим трудом. И тут мы обнаружили, что острый сук, вертикально торчавший из какого-то корневища, через висок глубоко вонзился ему в голову. И даже по тому признаку, что олень так и лежал без последнего куска и, как пробормотал егерь себе под нос, «совсем не был развернут по правилам», то есть лежал не на правом боку, а как упал, криво и нескладно, мужчины могли прийти к выводу, что Хадрах углядел оленя и в то же мгновение сорвался с берега и съехал на дно. Я согласился с обоими, я сказал, что он и в самом деле сорвался вниз, а в падении вылетела пуля и поразила его – вы заметили? – прямо в сердце.
– Господи, – вздохнул егерь, – тогда бедный господин Хадрах дважды стал жертвой несчастного случая. – И совсем тихо добавил: – Проклятый олень!
Шофер спросил, не следует ли сообщить о случившемся госпоже.
– Конечно, – ответил я и еще раз укрепил обоих в их предположении, что речь здесь может идти только о несчастном случае, если угодно, о двойном несчастном случае. В своих показаниях они могут смело упомянуть, что господин Хадрах был слегка под хмельком.
После того, как мы подняли на носилки тело Хадраха и поставили перед домом, под деревьями, я еще посидел какое-то время в холле. Шофер поехал в М., чтобы вызвать врача. А передо мной стоял магнитофон. Я думал про коронованного зверя, который некогда доставил императора к цели, и к какой цели! И еще я думал про Мауру. Чтобы у нее никоим образом не мелькнула мысль, будто Хадрах, возможно, сам себя лишил жизни. Размышляя над тем, как лучше всего упорядочить подробности смерти Хадраха, чтобы подозрение на самоубийство вообще не возникало, я играл пальцами по клавишам магнитофона и тут снова услышал голос Мауры: «Ты понял, зачем я рассказываю тебе о Василии? Боюсь, что нет. Итак, прощай. Не пугайся, но на твоем завтрашнем торжестве ты меня не увидишь. Я уезжаю в Лондон, к Петеру, и больше никогда не вернусь. Дальше беги один и будь счастлив. И дай тебе Бог никогда не достичь собственных границ, никогда не догадаться, кто ты такой на самом деле, потому что этого ты просто не вынесешь. Спасибо тебе за все!» Потом пленка еще раз прошумела, раздался треск, но истолковать этот звук я бы не смог. А потом, уже без звуков и слов, пленка докрутилась до конца.
1964