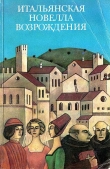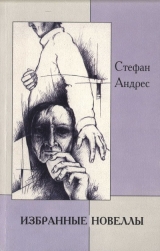
Текст книги "Избранные новеллы"
Автор книги: Стефан Андрес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
МЫ – УТОПИЯ
Коричневое однотонное плато искрошилось под лучами неизменно восходящего каждый день солнца, и вокруг экипажа, который то исчезал в неглубоких впадинах дороги, то снова карабкался кверху, возникало облако пыли, до того густое, что лишь по скорости его движения, по запаху бензина да по длинным полуденным теням можно было опознать в нем грузовик. Доведись постороннему наблюдателю издали увидеть это желтое рокочущее облако, что ползло по пустынной равнине, у него могла бы возникнуть нелепая мысль, будто участок дороги приподнялся и вышел в путь, чтобы хоть раз проследовать по загадочной линии ее подъемов, спусков и поворотов, уносясь прочь золотым султаном пыли и влача за собой все более редкий и низкий шлейф.
Но никаких наблюдателей не было. Редкие крестьянские дома мертвыми глазницами черных окон смотрели на солнцепек, лишь несколько собак вытягивали поначалу носы навстречу подползающему чудищу из грохота пыли, потом съеживались и припускали в опаленные поля, чтобы потом снова вернуться к пустынной дороге, по обочинам которой они шныряли, нерешительно принюхиваясь и грызясь возле опрокинутого воза да вздутой лошадиной туши, покуда голод не заглушал в них естественное отвращение к падали.
Пыльное облако уползало все дальше и дальше, и там, где на золотисто-коричневом взгорье вокруг сохранившегося еще со средних веков города высилась того же цвета крепостная стена, словно естественная скальная терраса, оно исчезло в проеме ворот – словно паровоз в тоннеле, – и часовые у ворот могли видеть, как на булыжной площадке внезапно осела пыль, блеснули штыки – железная ограда вокруг фигур словно из обожженной глины, что с оцепенелым выражением сидели на корточках в открытом кузове, наслаждаясь нежданной тенью, и лишь чуть подняли голову, чтобы бегло, украдкой поглядеть по сторонам.
Грузовик медленно двигался по узкой и мрачной теснине улицы, не повстречав ни единого человека, будь то солдат, будь то гражданский. На просторной, добела раскаленной площади он развернулся и затих перед парадной лестницей монастыря кармелитов, производившего мрачное впечатление застывшей роскошью своего барочного фасада.
В ответ на грубый сигнал машины под аркой ворот показался офицер в сопровождении солдата и сержанта, которые встретили вновь прибывших мрачно-безучастными взглядами.
Шесть штыков тотчас соскочили на булыжники, прозвучали резкие слова команды, и глиняные фигуры натужно поднялись, переступили раз-другой с ноги на ногу и, свесив как можно ниже уснувшие ноги, так же осторожно спрыгнули на камни.
Всего в монастыре кармелитов предстояло разместить более двухсот пленных. Его большие размеры и зарешеченные окна делали здание еще более подходящим для нового употребления, вдобавок задняя стена монастыря примыкала к городской стене, тем самым сразу под окнами второго этажа начинался крутой пятнадцатиметровый спуск, что создавало дополнительное преимущество для охранников, поскольку здание, способное вместить до двухсот пленников, можно было охранять силами минимального караула – в данном случае это был один лейтенант, один сержант и два солдата.
Правда, в городе еще размещалось несколько зенитных батарей и несколько механизированных взводов, дожидавшихся отправки на фронт.
Прежде чем доставивший пленных грузовик снова уехал, случился небольшой казус, за развитием которого внимательно наблюдал со ступеней лестницы молодой лейтенант. Он увидел, как один из пленных замешкался на грузовике, козырьком приставил ко лбу правую руку и, откинув голову, воззрился на монастырь. Тогда один из солдат поднял винтовку и прикладом ударил его в подколенные ямки, так что рослая фигура стоящего рухнула на колени, и это выглядело как на редкость естественный переход от предыдущей позы. Солдаты захохотали. Но тут долговязый удивительно ловким прыжком воздвигся перед ними, вопросительно и гордо, но отнюдь не гневно, оглядел их всех по очереди и присоединился к остальным, после чего штыки отвели пленных в монастырь, где им на какое-то время пришлось задержаться в тени крестового хода.
Лейтенант рассматривал их поодиночке, руководствуясь списком, который держал перед его глазами конвойный солдат со штыком, вслух зачитывая возраст и род войск, потому что форму свою пленным по большей части пришлось уступить победителям, а кое-кто просто сбросил ее из-за жары по дороге. Когда солдат зачитал: «Пако Хернандес» и еще: «53. Морская пехота», лейтенант вопросительно огляделся. Солдат со списком, быстро пошарив глазами по сторонам, указал на человека, который неспешным шагом направлялся к колодцу посреди дворика, окаймленного крестовой галереей, и лейтенант тотчас увидел: это тот, кто так странно оглядывал монастырь, а потом против воли рухнул на колени.
Пленники, сонные и до смерти усталые, стояли, привалясь к стенам галереи. Слышались лишь неторопливые шаги человека на усыпанной гравием дорожке во внутреннем дворике. По колоннам, ограждавшим крестовый ход, вились, отливая стальной синевой, вьюнки и дикий виноград, подступая к окнам коридора на верхнем этаже, медовый запах глициний тяжело и сладко висел в белой квадратной чаше каменных стен, а под сводами пахло известкой, плесенью и недавно прибывшими, потными, покрытыми пылью людьми, из которых кое-кто уже заснул, сидя на каменных плитах и привалясь к стене.
Тем временем шаги человека во внутреннем дворике вывели его к колодцу, сложенному из серого камня и выраставшему из зеленого плюща, словно чашечка цветка. На круглом оголовке колодца попарно склонялись один к другому четыре железных стержня, давая опору для колодезного ворота, и от каждого стержня вздымались к небу крылья чугунного литья, словно то склонились над колодцем два коленопреклоненных ангела, у которых из всей фигуры видимыми были только крылья.
А человек поднял железную крышку и заглянул в колодец. Движения его – так вдруг почудилось лейтенанту – напоминали движения самоубийцы, влекомого слепой силой, и лейтенант вскочил, тревожась за невосполнимую питьевую воду, бросился к ничего не подозревавшему человеку с яростным криком, чего, мол, тому запонадобилось возле колодца. Человек, к которому был адресован грубый вопрос, оторвал свое крупное лицо от созерцания и взглянул на лейтенанта, причем взглянул до того бестрепетно и равнодушно, что у молодого офицера дух захватило от ярости.
– Мне чего запонадобилось? – переспросил человек и улыбнулся. – Я просто хотел заглянуть в колодец, разве вы никогда этого не делаете, teniente дон Хуан?
Лейтенант глянул на потрескавшиеся от жары губы говорящего, гнев его улетучился, он лишь промолвил с удивлением:
– Хуан? Но ведь меня зовут вовсе не Хуан.
– Не Хуан? Ах да, верно, извините, так звали моего лейтенанта, а он погиб, верно, верно.
После этого молодой офицер, сам не понимая, с какой стати, назвал себя. Его зовут Педро, Педро Гутиерес.
– Вот как, – другой кивнул, – а меня зовут Пако.
– И вы действительно хотели просто поглядеть в колодец?
– Да. А вы этого никогда не делаете?
Задавая свой вопрос, долговязый Пако с неменьшим удивлением поглядел сверху вниз на явно не вышедшего ростом лейтенанта, а тот, коротко помотав головой, разглядывал пленника.
Лицо пленника представляло собой большой коричневый овал с глубокими отвесными складками, которые от уголков рта поднимались прямо к глазам. Закругления овала повторялись и в очертаниях глаз – они были закругленные сверху, карие и кроткие – а может, просто-напросто усталые, безразличные, отвоевавшиеся. Нос был чрезмерно длинный и тоже мягко закруглялся, и вдруг лейтенанту подумалось, что все это вместе взятое напоминает вполне определенную голову из кукольного театра времен его детства, ту самую, что он по большей части обряжал как Арлекина, но с не меньшей охотой – как главного героя. При этой мысли он сложил свои толстые губы в мимолетную задумчивую улыбку, после чего спросил:
– Вы пить хотите?
– Вообще-то я всегда хочу пить. Сейчас я готов пить даже воду, но ведь можно заглянуть в колодец и не испытывая жажды, как по-вашему, teniente дон Педро?
Лейтенант откинул и снова захлопнул железную крышку, глядя при этом в землю, точнее сказать – на изношенные до дыр башмаки пленного.
– А зачем вы перед этим, – так начал он, сдвинув кустистые брови и воззрясь на Пако, – зачем вы устроили это представление?
– Очень милостиво с вашей стороны, teniente дон Хуан, простите, дон Педро, я так плохо запоминаю новые имена и новые места, – понимаете, но все-таки… – Лицо Пако вдруг сделалось задумчивым, он явно соображал, стоит продолжать или не стоит, потом, однако, обвел взглядом крестовый ход и кивнул, словно приняв определенное решение. – По правде говоря, для меня и место здесь не новое, и представления я никакого не устраивал, когда вытаращил глаза, завидев этот фасад. Кстати, у меня к вам будет маленькая просьба, – он перевел взгляд на сложенную из песчаника лестницу, что вела наверх, – скорее даже не маленькая, а большая: отведите мне мою бывшую келью!
Заметив, как уставился на него лейтенант, Пако умиротворяюще кивнул и сказал:
– Ну, конечно, с тех пор, как я покинул эти места, минуло почти двадцать лет, но вот келья, понимаете, дон Педро, – даже собака и та привыкает к своей конуре, не правда ли?
От глаз говорящего в таком шутливом тоне побежали маленькие лучики, и лучики эти выжидательно подрагивали, отчего все выражение лица сделалось чуть хитроватым.
– Вы священник? – тихо спросил лейтенант Гутиерес внезапно севшим голосом.
Пако чуть откинул лицо и пытливо взглянул на молодого офицера.
– Священник? Почему вы спрашиваете? – Тут складки на его впалых щеках снова пришли в движение. – Вы задаете свой вопрос таким торжественным тоном, я же, да будет вам известно, я, собственно говоря, матрос по профессии, матрос первого класса на фрахтере, ну а кто я в настоящее время, вы, верно, и сами видите. Экая незадача! Война просто смыла меня за борт, и не просто смыла, а выбросила волной сюда – словно она способна действовать разумно, а то и вовсе наделена чувством юмора. Тут я и подумал, что такое совпадение можно достойно увенчать, если меня запрут в моей прежней келье, – хотя пленных, возможно, размещают в других местах: в прачечной, в библиотеке, в подвале?
Лейтенант Педро Гутиерес покачал головой:
– Ну, разумеется, в кельях! Но вы и в самом деле священник? Я задаю свой вопрос из чисто личных соображений.
Теребя усики, он не сводил глаз с Пако.
Пако пожал чуть обвислым плечом.
– Но, разумеется, отлученный от церкви.
Лейтенант Педро, судорожно дернув себя за усики, отпустил их и, уже уходя, крикнул:
– Господи Боже мой! Да кто из нас не был отлучен?!
Потом оглянулся еще раз и тихо промолвил:
– Идемте.
Поскольку пленных ради надежности разместили на верхнем этаже, а там на все четыре коридора только и было что сорок келий, большинство пришлось размещать по несколько человек на одну келью. Лейтенант Педро виделся себе истинным благодетелем, когда приказал освободить келью для Пако, едва тот, улыбаясь и покачивая головой, прервал внезапно свой равномерный шаг по красным каменным плитам, простер вперед руку и указал:
– Вот-вот, здесь это и было – здесь он жил, падре Консальвес.
Остальные пленные уже исчезли в кельях, почти беззвучно. Сержант указал им места, у лестницы стояли оба солдата подле пулеметов, которые в этом широком коридоре, словно спящие насекомые, недвижно и горизонтально выпячивали свои длинные хоботки.
Пако тотчас подошел к картинке справа от двери – к пожелтевшей гравюре в тонкой, воздушно легкой манере Лоренцо Тьеполо.
– И святой тот же самый, взгляните-ка, Святой Франциск Борджиа. Он был вице-королем Испании и стал иезуитом, стремясь к совершенству…
Пако обежал взглядом пустой сводчатый коридор от одного конца до другого.
– В таких местах есть что-то своеобычное. Неистребимо это дыхание стен – а ведь здесь происходило много всякого разного, не правда ли?
Говорящий все это веселым тоном себе под нос на последних словах как бы с внезапным испугом обернулся к молодому офицеру. Тот хмыкнул и согласился.
– Да, много всякого!.. Хорошо, что вы уже двадцать лет назад улизнули отсюда, редкая удача, причем удача для нас обоих.
Дон Педро сказал это, когда оба они уже стояли в келье. Внимая его словам, Пако оглянулся на него через плечо, хоть и сделал вид, будто всего лишь хотел поглядеть на дверь. А потом он и в самом деле на нее взглянул и поднял еще выше тонкие брови, и лоб, переходящий в лысину, нахмурился, дрожащие складки побежали по нему как легкие волны, которые словно стремились по его черепу соскользнуть назад, на затылок. В глазах у него вспыхнул внезапный испуг. В коричневой двери из каштана он углядел несколько небольших дырок, отколовших от нее свежие щепки, что невольно побудило его отыскивать щепки и на песчанике пола.

«Лейтенант Педро кивнул, но когда Пако очень серьезно поглядел прямо ему в глаза, отвел свой взгляд в сторону».
Когда Пако очень серьезно устремил свой взгляд в глаза лейтенанта Педро, тот посмотрел куда-то вбок, приблизился к конторке, возложил на нее руку и слегка качнул, а потом, словно ему вдруг что-то пришло в голову, достал носовой платок и промокнул пот на лбу.
– Ужасная жара в этих кельях, – плечи его вздрогнули, – они, понимаете ли, засели как кроты в своих норах. Выходить не пожелали, и тогда нам пришлось стрелять прямо в кельи, по-другому просто не получалось. – Он прокашлялся.
– Но как же та? Раз они не стреляли, их вполне можно было оставить в покое?
– И целый месяц держать здесь отдельный взвод, чтобы помешать им и дальше настраивать людей против нас? Разве на вашей стороне так поступают? У нас ни солдат для этого не хватает, ни времени, ни охоты, ни настроения. А к слову сказать, мы нашли зарытые у них в подвале ручные гранаты. Вы согласны, что со стороны монахов это было не так уж и дружелюбно? Ну и раз они в ответ на наше требование не пожелали выйти, нам самим пришлось войти к ним.
Тут рассказчик попытался изобразить улыбку на своем массивном лице, но ничего из этих попыток не вышло.
– Нелепый приказ – и надо же, чтоб его получил именно я. А вот в этой самой келье – как же его звали, того доброго падре? – Лейтенант подошел к двери, выглянул наружу и прочел табличку с внешней стороны. – Ах да, верно, падре Хулио. Помнится, отец у него известный человек, падре Хулио вполне мог рассчитывать на епископский сан, как мне рассказывали, весь город полнился его именем – с тех пор и двух недель не прошло. Другие монахи, те по крайней мере сами нам открывали; некоторые, полные предчувствий, так и держали их открытыми, один даже поспешил мне навстречу, ну да, этот! Остальные, когда мои люди стучали в дверь рукояткой револьвера, торжественно кричали в ответ: «Салют!».
– Этим приветствием здесь принято отвечать на стук в дверь.
Лейтенант кивнул.
– Забавно, когда смерть приветствуют словом «Салют!». А вот высокородный падре Хулио, он даже привязал дверь проволокой и в ответ на наш стук крикнул высоким пронзительным голосом: «Уно моменто! Я еще совсем не одет». Было и впрямь очень рано. Но когда мы захотели проверить, есть ли еще в нем признаки жизни, он оказался вполне одетым. И он лежал здесь, – лейтенант каким-то неопределенным жестом указал на каменные плиты пола, все до единой цвета английского крокуса, – нет, не здесь, а там, облаченный в белую мантию, он лежал ничком, когда мы перевернули его лицом кверху, на коричневой рясе оказалось совсем немного крови, а сам он был еще жив. Устремив на нас снизу, с пола, укоряющий взгляд, он сказал громко и внятно: «В такую рань не принято врываться к людям даже для того, чтобы их убить». Тут он продемонстрировал нам свои красивые зубы и испустил дух.
Пако напряженно смотрел на толстые губы говорящего, словно вдруг утерял слух и считывал слова с губ. Но лейтенант замолчал, и тогда Пако вздрогнул, воздел руки, прижал к груди большие пальцы, а остальными пальцами произвел какие-то порхающие движения.
– Teniente дон Педро, если можно, я хочу пить, я очень хочу пить, а если б еще и сигарету…
Лейтенант Педро протянул ему свой портсигар, дал огня и при этом спросил:
– Вы, верно, знали покойного?
Пако кивнул.
После этого лейтенант вышел и, выходя, сказал, что хочет сам посмотреть, нельзя ли раздобыть какую-нибудь еду. Пако глядел ему вслед через дверь, через дыры в двери и непонимающе качал головой.
Он нагнулся, словно ища чего-то на полу, он нагибался все ниже и ниже и под конец упал на колени, поцеловал каменные плиты, какое-то время лежал недвижно, закрыв руками лицо. О, падре Хулио, босоногий кармелит, граф, интеллектуал, шут и друг! Друг, насколько это вообще возможно среди послушников, друг беспокойному Пако, друг падре Консальвесу, ну, пусть не друг, но наперсник, хотя нет, именно друг… И вот здесь в келье беглого Консальвеса он, оказывается, принял смерть. Пако же пришлось вернуться, чтобы узнать об этом.
Склонившийся ниц внезапно вздрогнул, как вздрагивает человек, чуть не забывший о чем-то очень важном. Он рывком поднимается с пола, подходит к окну, открывает, и его пальцы ощупывают внешнюю сторону железных прутьев решетки, сверху и снизу, там, где их держит камень, сверху и снизу, при каждом прикосновении он, словно возбуждающий удар тока, воспринимает глубокую зарубку, тут наконец переводит дух, и воздушный поток, дрожа, вливается в него: сегодня же, ночью! Он чувствует щекочущее возбуждение между лопаток, он даже пыхтит от удовольствия, а потом стоит совсем тихо, устремив взгляд на плиты пола. Да, именно падре Хулио, когда его, Пако, начали стеснять решетки на окнах, – ведь не по доброй же воле он заделался монахом, – на полном серьезе посоветовал надпилить прутья решетки – только чтобы они не падали, и тогда вся решетка будет не более как предмет декорации и одновременно символ добровольного пленения!
В недалеком будущем им предстояло рукоположение, и Хулио тогда еще носился с мыслью покинуть монастырь, хотя уже возложил на себя обет. Поддавшись настояниям родителей, он вступил в орден, где благодаря богатому вкладу и громкому имени ему втайне предоставляли всевозможные свободы. Кончилось тем, что кающийся фанатик Консальвес ушел через два года после рукоположения, а вот падре Хулио, на ту пору гостивший у своих родителей, падре Хулио, слабодушный и нерешительный эстет, тот вытерпел заточение в монастыре и умер такой смертью, что даже его убийцы не без удовольствия рассказывают о ней.
А теперь Пако своим побегом будет обязан шутовскому совету падре Хулио, ибо решетка, несомненно, была всего лишь декорацией, этой ночью она будет выломана и – Пако хмурит брови: окно все-таки расположено слишком высоко в стене, метров десять будет. Он пытливо обводит взглядом келью: а вот он, набитый соломой тюфяк, средство, известное из многочисленных историй о беглых матросах. Сюда бы нож, а то ткань очень толстая – ах, и вот еще: под занавеской, прикрывающей вешалку для одежды, Пако видит торчащий кусок проволоки, грубой цинковой проволоки, с помощью которой Хулио, быть может, привязывал ручку двери. Пако разглядывает неровный, свернутый без всякого старания моток проволоки, но тотчас роняет приподнятую было занавеску и ощупывает ткань. Ткань явно из родительского дома падре, из замка, в остальных кельях парчи нет. Бедный Хулио, ты всегда был готов прийти на помощь, ты был очень изобретательный – и остался таким по сей день. Интересно, где они его похоронили?
По сути Хулио был человек очень беспомощный. Он никому не мог противостоять. Ни родителям, которые заточили его сюда, ни своим убийцам, которые намеревались извлечь его отсюда… А вот мне он теперь поможет выбраться… Складки на щеках у Пако словно две зияющие раны, и раны эти все не заживают, потому что смех то и дело разводит их края.
Пако глубоко вздыхает и подходит к конторке, на которую со старинного медного креста взирает святой Иоанн. Приблизив свое лицо к глазам святого, он тотчас со вздохом качает головой: почему они все так скорбно взирают на мир из своего ореола? Правда, отцу-основателю ордена довелось собственными глазами увидеть, как сын его, падре Хулио, стоял, оборотясь лицом к двери, и кричал: «Один момент!» Но видел он и как падре Хулио, мечтательно улыбаясь про себя, пишет латинские стихи: кузинам, бывшим соученицам, впрочем, может быть, именно это еще больше испортило настроение строгому отцу-основателю.
Непроницаемое лицо Пако при взгляде на святого расплылось в улыбке. О да, нетрудно понять этот пытливый, вечно неудовлетворенный взгляд. Святые, любящие и мечтатели-утописты продолжают каждый на свой лад выдумывать мир, но все они вскоре замечают, по крайней мере лучшие из них – тут Пако сочувственно подмигнул святому, – что на этой земле куда как трудно пристроить небесные видения. Когда образы чистой мечты не вписываются ни в какие рамки, когда действительность предстает буйным незрячим растением, которое терпит и святых, и любящих, и мечтателей как травяную тлю, от этого впору предаться унынию. Но до чего же печален был бы наш мир без уныния, питаемого неосуществимой мечтой! Подтверждение этому Пако видел на собственном примере всякий раз, когда вознамеривался стать разумным и практичным, стремясь лишь к тому, чего требует телесное благополучие. Процесс этот можно было сравнить с желанием при виде юрких рыбок стать одной из них – человек низвергается к ним, но вскоре осознает, что для жизни в водной стихии потребно возникновение одних органов и отмирание других. Тогда уж лучше страдать, страдать унынием как своего рода одышкой, чем внизу задохнуться от него.
Ранее, в средние века, существовало восемь грехов, и восьмым считалось уныние. Роскошно. Потирая колючий подбородок, Пако медленно ходит по келье. Но теологи тогда не знали, как это использовать, подобно тем активным людям, которые не знали, что им делать с тоской. А вот я, рассуждает далее Пако, ступая по тем же плитам, на которых умер падре Хулио, я снова хотел бы стать практичным, проявить благоразумие, я размышляю о возможностях побега и при этом мной владеет тревожно-двойственное чувство. В моей келье, в его смертной комнате – почему, собственно, эта поспешность, дабы вырваться отсюда? Потому лишь, что решетка надпилена, уже двадцать лет как надпилена, потому что этой келье присуще желание избавиться от меня, так ведь? Пако трется плечами о стену – чувство довольства и одновременно блошиные укусы, чего он, впрочем, не осознает, подстрекают его к этому движению. И, выныривая из глубины, он восклицает: «Салют!» Да, в дверь постучали, а к нему снова вернулись монашеские привычки, и келья явно не без благосклонности снова приняла его в свои стены.
Лейтенант Педро водружает на конторку поднос. На подносе – все, что может понадобиться: вино, вода, хлеб, сыр и даже нож! Благодаря своему нежданному появлению нож приобретает магическую силу. Это кухонный нож, прочный и хорошо заостренный. Пако заливается краской, и лейтенант Педро думает, что краснеет он от благодарности, впрочем, он не так уж и не прав. Спасибо за все, а главное – спасибо за нож. Если только лейтенант не унесет его с собой, думает Пако. Ему приходится с усилием отводить глаза, чтобы тот ничего не заметил, – если только он не унесет его с собой, это нас здорово продвинет. Такой нож – и Пако хватает его, чтобы отрезать кусок сыра, – это новая сила в руках. Он поворачивается к лейтенанту, который сидит на койке и неподвижно смотрит прямо перед собой, подперев голову руками. Пако начинает благодарить, бормочет какие-то слова о рыцарственности и о чрезмерном великодушии. Тем временем фигура на койке как бы делает плечами отрицательное движение.
– Нет, нет, падре Консальвес, вы мне лучше вот что скажите: значит, он был ваш друг? Как странно, не правда ли, что вы сидите и едите именно там, где он… Боже мой, да это просто как в кукольном театре. «Одного утащат прочь…»
Пако перебивает его вопросом, где «погребли тело».
Лейтенант бормочет:
– Ну, конечно же, на кладбище, неужели вы так дурно о нас думаете, падре Консальвес?
Пако воздевает руку:
– Не надо говорить «падре», не надо вспоминать старые имена. «Падре» я утопил в вине в тысячах портовых кабаков, запятнал развратом в постелях блудниц – это чтоб вы знали, с кем имеете дело.
– Тем лучше для меня, – прошептал лейтенант Педро. Его чуть выпученные глаза на отечном лице метали искры – от страстности, на какое-то мгновение подумалось Пако, и это вызвало у него гнетущее чувство. Но тут он увидел, как его собеседник хлопнул ладонями себя по лицу и застыл в согбенной позе.
Пако продолжал жевать. Каждый глоток приходилось споласкивать вином, он и сам не мог бы сказать почему, но присутствие этого человека его тяготило.
– Почему вы, собственно, не сядете? – вдруг спросил лейтенант Педро.
– Ах да, – и Пако опустился на соломенный стул. – Смешно, – пробормотал он.
– Что смешно?
– Что тут есть стул, а я не сажусь.
Лейтенант Педро пожал плечами и снова погрузился в свои раздумья.
– Кто может мне поверить, что я отроду не сиживал на этом стуле? – сказал Пако и удивился собственным словам.
Лейтенант Педро рывком поднял лицо:
– То есть как? Вы, значит, мне солгали?
– Почему же?
– Вы и в самом деле священник?
– При чем тут это? – И Пако недоуменно помотал головой. Потом наконец до него дошло. – А-а-а, потому что я никогда не сидел на этом стуле? – Он засмеялся. – Нет, не сидел я по другой причине. В ту пору я тайно готовился в столпники, а потому лишь преклонял колена, либо стоял, либо лежал. Достойное упражнение, доложу я вам, но в целом – не более как блеф. Я был не менее горд своим послухом, чем вы – своей медалью. Человек всегда старается что-нибудь из себя сделать, а при этом…
– Говорите, говорите, – взывал молодой офицер.
– Ах да, ну я просто хочу сказать, что это наше усердие впоследствии преграждает путь к тому истинному, которое нас ждет.
– Истинное – это, по-вашему, что? – Лейтенант Педро весь подался вперед и с любопытством впился взглядом в лицо жующего, который только что отрезал себе очередной кусок сыра и, покачав головой, воззрился на свой нож.
– Истинное-то? – И Пако небрежно бросил нож на поднос. – Для себя лично я сделал вывод, что по большей части оно прямо противоположно тому, к чему я стремлюсь. Известно ли вам, что я намеревался реформировать не только орден кармелитов, но и всю испанскую церковь?
Пако спросил это таким тоном, словно позволил себе нескромную шутку, замаскированную под вопрос.
– Да Господи ты Боже мой, сделать это было необходимо, а вы тогда были молоды. – Лейтенант Педро обронил свои слова легко и пренебрежительно.
– Необходимо? – Пако улыбнулся, утирая рот рукавом изодранной рубахи. – Что необходимо, то все равно произойдет с нами или без нас, какое-никакое, а утешение, верно? Вот взять, к примеру, вас, дон Педро. Здесь вы осуществили коренную реформацию. И прошу вас пока ничего мне об этом не рассказывать.
Он передвинул свой стул на другое место, он сидел теперь у стены, и закатное солнце отбрасывало на плиты тень решетки, так что теневые прутья легли как раз между плитами. Пако простер руку:
– Значит, здесь!
Лейтенант Педро кивнул:
– Не будь он вашим другом, я вполне мог бы сказать, что меня ничуть не занимает место, где был убит какой-то монах, к таким мыслям мы уже привыкли, да, уже привыкли.
Пако наклонил голову к плечу, словно прислушиваясь.
– Привыкли? Послушайте, это бьет артиллерия, верно?
Вдали раздавался глухой и сбивчивый гул пушек. Не дождавшись ответа, он продолжал:
– Привыкли? Когда я даже к себе самому так и не смог привыкнуть! Понимаете, уже находясь в гавани, я все еще стою на палубе своего корабля и, напротив, продолжаю спать в устойчивой кровати, когда мой корабль уже снова бороздит море. Ведь это вредно, вредно для здоровья – или нет? Но тут уж ничего не изменишь – или изменишь?
– Не понимаю, о чем вы.
– Ах вот как! Ну конечно же не понимаете. У вас кожа довольно толстая, я хочу сказать, раз вы так скоро ко всему привыкаете.
– Нет-нет, не ко всему! Перестаньте, конечно же не ко всему!
Густо заросшая голова лейтенанта теперь почти висела у него между коленями. Не поднимая плеч, лейтенант показал собеседнику свое лицо, для чего ему пришлось сильно закатить глаза, и Пако содрогнулся душой перед этой гримасой боли. Лейтенант прошептал, вернее, прошипел:
– Вы не хотите принять мою исповедь?
Услышав эти слова, Пако с силой откинулся на спинку стула, так что дерево взвизгнуло. Возникла пауза, которую металлическим, словно пропеллер, гудением заполнил комар. Пако желал изловить его, взмахнул рукой, но когда он разжал пальцы, на ладони ничего не оказалось.
– Послушайте, – обронил он словно вскользь, – я ведь всего-навсего матрос.
– Да будет вам известно, – нетерпеливо перебил его лейтенант, – что я юрист, вернее сказать, я еще не успел окончить университет, когда началась война, но еще со школы мне известно, – вы остаетесь священником. Вы сохраняете все права.
Пако встал и подошел к окну. Окно было распахнуто, но ни малейшее движение воздуха не всколыхнуло раскаленную духоту кельи. Будто темное золото простерлась за окном равнина, полого опускаясь, а ближе к горизонту, не очень и далеко отсюда, снова мягкими волнами взбегая кверху. Редкие каштаны со спокойствием и непосредственностью грибов торчали посреди безлесой равнины, растрепанные кусты можжевельника покачивались, будто черные огоньки, и тени деревьев окрашивали кармином городские стены. Казалось, будто вся земля, все предметы отлиты из бронзы, и когда на них обрушивался рев пушек, плато откликалось, словно гигантский гонг. Лишь узкая – в ширину ладони – полоса отделяла солнце от голого гребня горы, на него уже можно было смотреть, но после этого в сумрачной келье перед глазами вспыхивало множество солнц, они начинали кружиться, сталкиваться и затем угасали.
– Да-да, разумеется, – голос Пако звучал так, словно он хотел успокоить ребенка, – впрочем, как отлученный от сана священнослужитель, я мог бы дать вам отпущение лишь в articulo mortis, как мы называем это на профессиональном языке. Ведь не станете же вы утверждать, что находитесь при смерти…
– Проклятая схоластика! – Лейтенант вскочил. – Да не грози мне смертельная опасность, я и торопиться бы не стал.
Пако с выражением, внимательным, но и сочувственным, поднял голову.
– Смертельная опасность? Ну да, конечно, идет война.
Лейтенант презрительно рассек рукой воздух.
– Да нет, я не про эту опасность. О ней я даже и не думаю. Здесь другое. Каждое утро, проснувшись, я плаваю в поту, такая мерзость, доложу я вам, со мной никогда ничего подобного не бывало, пока эти проклятые монашки… – Его слова вздыбились, словно скакуны перед листом бумаги, потом одолели этот барьер с диким проклятием, содержавшим помимо всего прочего непристойное ругательство по адресу девы Марии и непорочного зачатия. Пако покачал головой.