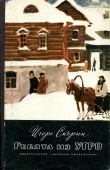Текст книги "Задание"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Леденцову следовало бы испугаться. Но его грели эти неожиданные пятьдесят процентов. Правильно он сделал, что пошел напропалую. Терять нечего, а еще процентик можно отвоевать; не отвоевать, так хотя бы подстелить для него соломки.
– Мужики, это не наш человек…
– Нет, наш! – вскипела Ирка. – Он грабануть не побоялся.
– Тогда чего же меня попрекает? Мужики, вы мой бизнес знаете. Повторяю для этого Желтка. Я не академик, я автомеханик высшего класса. Работаю в сторожевой охране, получаю сто сорок. Но у меня трое суток свободных. В эти сутки я не в кино хожу и не кубик Рубика вращаю. Сам верчусь! Я у десятерых клиентов на зарплате. Осмотрю машину раз в месяц, кое-что подрегулирую – и четвертной. А если ремонт серьезный, то оплата дополнительная. Да беру ремонты разовые, капитальные и всякие другие. Вот и прикинь, желтый прыщ, сколько выходит. Из шести-семи сотен в месяц не выхожу. Трудовая копейка!
– А запчасти мы приволокли краденые, – весело поделился Леденцов.
– Ты видел? – Бледный вскочил.
Мочин успокоил его легким жестом. Бледный опустился на стул недовольный. Все молчали, почему-то не решаясь взяться за еду. Бутылка продолжала пыжиться. Крошка вроде бы дремала.
– Зря ты меня сердишь, Желток, – почти ласково сказал Мочин. – Я ведь злой. Младенцем перегрыз рейку в кроватке.
– У тебя, наверное, зубки резались…
По его бешеному взгляду Леденцов понял, что оставаться тут нельзя. Да и Бледный с Шиндоргой лишь ждали команды. Леденцов вздохнул, кинул грустный взгляд на блюдо с языками и встал:
– Спасибо за приятно проведенный вечер.
Вскочил и Грэг.
– А ты куда? – остановил было его Шиндорга.
– Мне завтра рано в «Плазму».
Ирка смотрела на уходящих, смотрела на оставшихся и не знала, как ей быть. От напряжения губы ее сложились кувшинчиком.
– Желток! – усмехнулся Мочин. – А ведь я пяткой могу сделать тебе вмятину на затылке.
– Делай… Если пятка чистая.
Крошка вдруг захохотала на весь особняк, да так звонко и радостно, будто не пила водки с ликерами и не объедалась капустой, икрой и миногами. И Леденцов подумал, что вот сейчас поперечная повязка непременно спадет.
Ирка тоже рассмеялась этой чистой пятке, встала и пошла за Леденцовым.
19
На следующий день работалось легко. Грел вчерашний успех.
Во-первых, Мэ-Мэ-Мэ никакой не хайлафист, а заурядный потребитель. Уже легче, для подростков хапуги не привлекательны. Во-вторых, Шатер теперь расколот. Пусть трещинка маленькая, но зарубцеваться он ей не даст. И было третье: выпала очень нужная удача, связанная с Мочиным, прямо-таки философская, поскольку подтверждала единство содержания и формы.
У Леденцова так все спорилось, что он даже пораньше освободился. Даже вспомнил про яблоки, которых мама просила купить, дав матерчатую крепчайшую сумку. В магазине яблоки ему не понравились. Почему не махнуть на рынок, когда все спорится?..
Леденцов искал фруктовые ряды. Базарная круговерть вынесла его к мясу, потом к творожку, потом к цветам, к каким-то веникам… Но, еще не увидев яблок, услыхал он мягкий, но крепенький голосок:
– Они жиры снимают.
Широкая дама, задетая намеком, недовольно усомнилась:
– Каким это образом?
– Путем принятия внутрь.
Сперва Леденцову показалось, что дед торгует грейпфрутами. Пузатые, налитые, будто высвеченные изнутри желтым ласковым светом.
– Городские люди отчего жиреют? Аппетит есть, а работа сидячая, – развил мысль продавец.
Женщина фыркнула и ушла, неприязненно шурша плащом.
– Это… что? – спросил Леденцов.
– Антоновка, а я Антон, – самодовольно представился дед.
– Ну и яблочки! Вы, наверное, работаете садовником?
– Я, милый, работаю старшим куда пошлют.
– Тогда килограммчик, – попросил Леденцов, допуская, что выйдет всего два или полтора яблока.
Дед нравился – лицом, походившим на его яблоки, которое тоже светилось крепкой желтой спелостью; необычным разговором с первым встречным, как со старым знакомым; хитроватым подмигиванием правым глазом, будто дед звал пойти за угол.
– Эти яблочки с душой, парень.
– Как понимать «с душой»?
– Скажем, клюквенный кисель-концентрат в плоских цибиках… Бездушный, поскольку сделан на заводе. А клюква-ягодка, на болоте выросшая, она с душой. Колбаса из-под машины – какая в ней душа? А вот у молока душа имеется, поскольку от теплой коровки.
– Тогда еще два килограмма.
Леденцову вспомнился разговор о душе с мамой, и он спросил, как бы заодно с покупкой яблок:
– А у человека есть душа?
– Само собой, без нее не прожить.
– Многие живут, и неплохо.
– А ты присмотрись к таким, парень. Какая у них жизнь? На работе колотятся – в разговоре торопятся, едят давятся – разве поправятся?
– Еще два кило.
Яблоки перекатывались в его сумку как веселые колобки. Руку сразу оттянуло – пять килограммов.
– А как узнать, кто с душой?
– Кому больно, тот и с душой.
– Всем больно.
– Всем не всем, а через одного.
– Я таких не встречал.
– Кому, парень, просто больно, а кому с обратинкой, – объяснил дед.
– Спасибо за яблочки, – ничего не понял Леденцов.
– Спасибо мне много, а чекушечку самый раз, – попрощался и дед.
Сдачу Леденцов не взял. Занятный дедуля понравился не только шутками да присказками: он был оттуда, от лесов-полей, от изб и коров, – посланец из другого мира, почти неизвестного Леденцову. Душа, боль…
До дому шел он пешком. И чем дальше уходил от рынка, тем почему-то делалось тревожнее. Леденцов даже глянул назад, будто эта тревога давно струилась за ним вроде кометного хвоста. И вот теперь догнала. Видимо, беспокоила антоновка, пять килограммов, тянувшая сейчас на все двадцать пять. При чем тут антоновка? Дед, с его душой и болью.
В прошлый раз, когда ходил на рынок за картошкой, Леденцов думал и мучился, пробуя разобраться в ребятах. Книг набрал, дневник завел… А теперь? Обрадовался успеху, как школьник пятерке. Бегает, рыщет, вынюхивает без огляда и без разума. А ведь задание не оперативное, а педагогическое. Вот побывал у Мочина… А что понял, что продумал? Сегодня опять нестись в Шатер… С чем, с какой идеей?
Юморной дед сказал про душу и боль и про какую-то обратинку; кстати, лягушке тоже больно, и что – у нее душа? Мама признает только чувства, называемые ею эмоциями, которые якобы движут всем, в том числе и умом. Водитель милицейского «газика» не сомневается, что миром правят «летающие тарелки», одну из которых он видел ночью на дежурстве. Лейтенант Шатохин уповал на любовь. Капитан Петельников говорит, что все пылкие чувства и все добрейшие души, причем вместе взятые, не стоят одной извилины интеллекта…
Тогда вопросы – не к капитану Петельникову, а к интеллекту.
Как закрепить маленькую победу у Мочина?
Чем взять Бледного и Шиндоргу?
Почему сильный и беспощадный Бледный кажется лучше, чем тихий и маленький Шиндорга?
Хватит ли «Плазмы», чтобы отлучить Грэга от Шатра?
Почему ребята, жаждущие необычного и вроде бы даже романтического, присосались к элементарному потребителю Мочину?
Что делать с Иркой, которую он вчера проводил и поцеловал, но не потому, что хотелось, а потому, что она подставила свои распустившиеся губы? Или этот вопрос уже не к интеллекту, а к чувству?
Леденцов осознал себя на лестнице, идущим тяжело, с бормотаниями…
Яблоки Людмиле Николаевне понравились, хотя зимнему сорту следовало бы немного полежать. Они взяли по одному. Леденцов хрустко впивался зубами в крепкую плоть, казавшуюся только что принесенной с морозца. Людмила Николаевна ела бесшумно, лишь изредка задевая ножичком край тарелки.
Он рассказал про базарного дедулю.
– Возможно, старик и прав, – заметила Людмила Николаевна. – Язык боли понятен всем живым существам планеты.
– Само собой, – подтвердил Леденцов, как ему казалось, очевидный факт.
– Вдумайся! Минералы, вода, элементы, земля, воздух… Им не больно. Материя. Но стоит материи определенным образом организоваться, как ей делается больно. Не странно ли?
– Что тут странного? Она же организовалась.
– Но материи как таковой не может быть больно. Значит, больно не материи, а чему-то другому.
– Духу, – подсказал Леденцов.
– Духу, – согласилась она. – Но с другой стороны, какой дух, например, у курицы? А ей больно.
И может быть, впервые за все их беседы о милицейской профессии его задело сомнение, даже не сомнение, а далекая отлетающая зависть. Сколько в мире интересного, сколько в мире непознанного… И сколько останется им неузнанного, потому что он будет искать, ловить и перевоспитывать?
– А как с дедовой обратинкой? – отмел он ненужные сомнения.
– Была я на собеседовании с абитуриентами, – задумчиво вспомнила Людмила Николаевна. – Человек двадцать прошло передо мной. Каждому будущему биологу задавался вопрос: «С какой скоростью должна бежать кошка, чтобы она слышала звон привязанной к ее хвосту консервной банки?» Девятнадцать молодых людей добросовестно вычислили… И только один непонимающе спросил: «Зачем издеваться над животным?» Только его бы я и приняла на факультет.
– Он поступил?
– Нет, тройка по математике.
Леденцов насупился. Чего бы стоило этому абитуриенту тоже вычислить кошачью скорость – ведь не банку велели к хвосту привязать? Вон его шатровые не кошку – людей не жалеют.
– Мам, как его найти?
– Могу попросить в деканате адрес…
– Ну, а про обратинку?
– Видимо, дед говорил, что душа есть у того, кто отзывается на чужую боль.
Выходило, что курица бездушная – отзывалась только на свою боль. И выходило, что человек…
Долгие размышления, разговор с дедом о душе, беседа с матерью о боли, жалостливый абитуриент – все это соединилось для Леденцова в ясную, может быть, другим известную мысль; но он пришел к ней сам, и казалась она своей и свежей…
Если знаешь про боль и все-таки причиняешь ее людям, то не человек ты, а курица без обратинки. Короче, подлец.
Не ошибся ли законодатель, придумав для подростков всякие снисхождения, как к умственно неполноценным? Допустим, ребятам еще неведома жизнь и законы, но что больно избитому – они знают. Потому что душа есть у всех. Потому что они сами живые. Он это видел в Шатре. Да разве они знают только про боль? Каждому малолетнему правонарушителю, каждому разболтанному мальчишке отлично известно, что такое хорошо и что такое плохо. Каких-то восемь лет отделяли Леденцова от юности и отрочества, которые жили в нем без всякого усилия памяти. Был ли в его школе хоть один парень, не понимавший пагубности лени, шалопайства, курения или хулиганства? Нет, подростки есть подростки, но не дураки. Если так…
Если это так, все учителя мира делают пустую работу. Они ведь чем заняты? Растолковывают подросткам, что бить слабых и стекла, грубить старшим и родителям, не делать уроков и не застилать свою постель – плохо. Толкуют об известном, толкуют о том, что ребята давно знают… Хорошо, а что же делать? Или здесь педагогический тупик?
Леденцов посмотрел на часы.
– Опять? – печально спросила Людмила Николаевна.
– Опять, – согласился он с ее печалью.
20
Листья сирени опадали не желтея. Зеленая стена Шатра истончилась так, что горевший в нем фонарик был заметен издали. Леденцов прикрыл ладонью глаза и вошел…
Что-то мягкое и крепкое пало ему на голову, с шорохом скатилось по плечам на грудь и на живот, стянув тело так, что руки оказались прижатыми к бедрам. По ногам хлестнула веревка. Падая, он думал только об одном: не треснуться бы черепом о скамейку. Но и удар плашмя об утрамбованную землю вызвал боль в затылке и секундную тошноту. Ноги связывали неумело, но крепко. Мрак, запах пыли… Не хватает воздуха. Что у него на голове – мешок?
Подростки, перевоспитание, душа, боль… Это все идет мальчишкам-озорникам, которые мнут газоны да гоняют кошек. А тут сила, тут преступники. Против силы нужна сила, иначе предаешь справедливость.
Леденцов рванулся.
– Рыпается, – буркнул Шиндорга.
– Открой дыхало, – велел Бледный.
Мешок поддернули вниз, и на лицо ему съехала прорезь.
Леденцов вздохнул и огляделся. Шиндорга опоясывал его веревкой, ворочая, как бревно. Бледный светил фонариком. Остальных не было.
– Что дальше? – спросил Леденцов, когда Шиндорга кончил.
– В воду, – деловито сообщил Бледный.
– Речка далеко, – усомнился Леденцов.
– А мы тебя в котлован.
– Понесете или как?
– Такси возьмем, – усмехнулся Шиндорга.
Шутят? В чувство юмора Шиндорги Леденцов не верил. И котлован был в ста метрах, вырытый года три назад под спортивную школу. Зимой там мальчишки катались на коньках, летом плавали на автомобильных камерах, а сейчас, осенью, в зеленой воде плескались еще не улетевшие утки. Шутят? Но тогда зачем связали? Бить могли и без мешка.
– К чему такое средневековье? – спросил он повеселее.
– У нас нет электрического стула, – отозвался Бледный.
– Будете казнить?
– Приговор подписан.
– Мочиным?
– Вся твоя рыжая морда не стоит его гаечного ключа, – заверил Бледный.
– Утопите? – все-таки не верил Леденцов.
– За тебя срок волочь? – скривился Шиндорга. – Положим на ночь отмокать в воду, одна голова будет торчать.
– А я закричу.
– Кляпик вставим, – засмеялся Бледный.
– К утру замерзну, – понял Леденцов.
– Зато вчера повыпендрючивался! – рассвирепел Бледный. – Взяли его, как мэна и клевого парня. Мочин такой-сякой, запчасти краденые, деньги нетрудовые… Собачий потрох!
Леденцов испугался. Не смерти, которую, как и всякий оперативник, теоретически допускал. Но смерть он допускал в схватке с хулиганом, бандитом или рецидивистом; от ножа, пули или, в конце концов, от какой-нибудь заточенной железки. Разве был испуг, когда кубарем катился под ноги Петьки-охотника? Или когда перевернул на ходу такси, чтобы обезоружить и задержать жутких пассажиров? Но погибнуть от сопливых подростков… Замерзнуть в глинистом котловане, как пишут в протоколах, «от переохлаждения организма»… Впрочем, его могут найти случайные прохожие, – например, влюбленные, которые обожают бродить у воды…
И Леденцов похолодел, но теперь не от страха и не от воображаемой температуры, а от стыда. Его, оперуполномоченного уголовного розыска, лейтенанта милиции, находят в грязной воде, в мешке, с кляпом во рту… И везут в райотдел, с сиреной, к начальнику. «Товарищ полковник, пропавший лейтенант Леденцов обнаружен в котловане, где лежал, погруженный в воду». А он стоит мокрый, в глине и утиных перьях, и не может слова сказать – не из-за кляпа, а от дрожи и звона зубов…
– Поставьте меня, – хрипло попросил Леденцов.
– Пусть стоит, – разрешил Бледный.
Шиндорга его поднял, как манекен, и привалил к скелетным рейкам. Леденцов изучил степень своей свободы: он мог лишь вертеть головой.
– Бледный, я хочу сказать две мысли…
– Заткнись! – приказал Шиндорга, подступая.
– Обвиняемый имеет право на последнее слово, – сообщил Леденцов.
– Пусть речет, – согласился Бледный.
– Ребята, спасайтесь от Мочина.
– Дать ему залепуху? – спросил Шиндорга у Бледного.
– Пусть напоследок выскажется… Он же все молчал.
– Ребята, Мочин вас погубит.
– Мэ-Мэ-Мэ трудяга высшего порядка, – убежденно сказал Бледный, соглашаясь на этот разговор.
– Он работает только на себя.
– А на кого надо работать?
– Он же хапает!
– А кто отдает?
– Мочин обманывает девочек вроде этой Крошки…
– Сами хотят.
– Мочин подстрекает вас к воровству! Вы же сядете!
– А жизнь – это борьба. Вот мы и боремся.
– Сам же золотые часы содрал, – напомнил Шиндорга.
– И больше век не буду!
– Значит, станешь честным, идейным и принципиальным, как советуют газеты? – ехидно спросил Бледный.
– Неплохо бы стать!
– Тогда скажи, кто из них лучше: идейный и честный или безыдейный и жулик?
Леденцов чувствовал в этом вопросе какой-то подвох, но ему было не до тонкостей:
– Конечно, идейный и честный.
– Вон как заговорил, – удивился Шиндорга.
Бледный сорвался с места, прыгнув к пленнику. Белое око фонаря почти уперлось в глаза Леденцова. Он зажмурился, зная, что и лицо Бледного рядом, в досягании короткого выдоха.
– Тогда почему плохой живет хорошо, а хороший плохо? Почему идейный и честный живет хуже безыдейного жулика, а?
– Да, почему? – поддакнул Шиндорга.
Бледный отвел фонарь и отошел сам, как бы давая противнику подумать. Главным Леденцову казалось затеять этот серьезный разговор, пусть даже он сейчас в таком виде, в каком водят на эшафот. А будет разговор – за ответом и дело не станет. Но теперь все его мысли точно рассыпались, никак не организуясь… Почему плохой живет лучше хорошего? По логике должно быть наоборот, коли социальная справедливость. Он мог объяснить, почему умный живет хуже дурака: потому что дураку легче; мог объяснить, почему работнику уголовного розыска живется лучше, чем, скажем, инженеру: потому что интереснее; мог объяснить, почему мужчине жить лучше, чем женщине: потому что женщин в уголовный розыск не берут…
– Не знаю, – честно признался Леденцов.
– А учишь. – Бледный сел, остывая.
– Поволокем, – заторопил Шиндорга, – Ирка может прийти.
– Я вторую мысль не выложил, – напомнил Леденцов.
– Ну? – опять посуровел Бледный.
– В армию, ребята, вас не возьмут.
– Почему? – спросили они в два голоса.
– Трусоваты вы…
Шиндорга двинул его ребром ладони по губам. Хотя край мешка смягчил удар, Леденцов почувствовал во рту тепловатую соль крови…
И как химическая реакция, пошедшая после взбалтывания пробирки, этот удар встряхнул все предыдущие и сегодняшние мысли об осознании своих поступков и добре, о стеснении быть хорошим и боли, о душе и кошке с консервной банкой; сюда присовокупились, как посторонние элементы в ту же пробирку, мысли читанные и слышанные – о переломном возрасте, об исправляющем времени, о неосознанной жестокости детей… Неосознанная детская жестокость – к ней все пришло. Ложь это… Шиндорге не бывало больно?
Жестокость неосознанной быть не может, потому что боль ведома даже младенцу; неосознанным бывает только добро. Это психологическое открытие… Он напишет статью в журнал «Советская милиция». Или в какой-нибудь воспитательный. Если сегодня его не утопят. Умышленно, потому что жестокость всегда осознанна.
– Я и говорю, что трусоваты, – повторил Леденцов, чувствуя, как тяжелеют его губы. – Бить связанного… Ты еще достань свое любимое шильце.
– Подожди. – Бледный остановил Шиндоргу, который, видимо, намеревался еще раз садануть. – А я почему трус?
– Двое на одного, из-за спины, внезапно, в темноте, мешок, веревки… Бабы!
Они не ответили. Леденцов облизнул губы, готовясь принять ими новый удар за этих «баб». Бледный вскочил со скамейки, отчего луч фонаря заметался по уже редеющей листве.
– Развязывай! – приказал он.
– Сейчас же Ирка причалит…
– Развязывай, я один его уделаю. И ты не встревай!
Помешкав, Шиндорга нехотя взялся за веревки, но тут же отдернул пальцы. Где-то недалеко старческий женский голос позвал:
– Витя, Витя!
– Моя бабка, – буркнул Шиндорга.
– Чего она? – насторожился Бледный.
– К ней мильтон приходил.
– Тогда смываемся.
Бледный погасил фонарик. Они раздвинули стенку и пролезли сквозь чащобу с треском и хрустом.
– Витя, я же видела свет!
Грузные шаги приближались. Леденцов не знал, что делать: отозваться, молчать или попросить разделаться с веревками? Старушка уже была у входа. Она просунула голову и воркующе пристыдила:
– Нехорошо прятаться от бабушки…
Ее руки, видимо, рылись в кармане: Леденцов слышал торопливое шуршание. Что-то отыскав, она вошла в Шатер и чиркнула спичку. Желтоватое пламя всей темноты не одолело. Старушка пошла вдоль круговой лавки и наткнулась на непонятный столб в мешковине, перевязанный веревками и очень походивший на рулон ковров – штук десять закатано. Она подняла спичку, чтобы глянуть, какой высоты этот рулон…
В прямоугольную прорезь на нее смотрели человеческие глаза.
– А-а-ай! – жутко вскрикнула она, отступая.
Спичка погасла. Леденцову показалось, что старуха побежала не то с воем, не то со стоном. Сейчас она вызовет милицию. Скажет, что убили человека и поставили. И он представил другую картинку, не хуже котлованной: в Шатер входит старший наряда с милиционером, а лейтенант Леденцов стоит в мешке и зыркает из прорези, как средневековый рыцарь из-под забрала. «Чего стоим, товарищ лейтенант?» – «Поставили, товарищ сержант…» Позор на все УВД.
Он начал втягивать и выпячивать живот, стараясь сжаться и расшириться, чтобы скинуть путы. Потом завращался, как жонглер в цирке с десятью обручами на торсе; затем начал проделывать что-то походившее на индийский танец; в конце концов, запрыгал, топоча на всю округу… В мешке стало душно, он вспотел. Но продолжал работать всем телом, будто вывинчивался из собственной одежды. Веревочные петли сползали медленно, по миллиметру. Когда же они опустились достаточно низко и позволили сгибаться, Леденцов присел, подсунул руку под край мешка и содрал путы. Освободившись от мешка, развязал и ноги.
Тело дрожало от физического да и от психического напряжения. Ему хотелось на секундочку присесть, но на фоне бледного входа он увидел вальяжную фигуру Ирки.
– Боря, ты? – Она разглядела его в кромешной тьме.
– Я, – бодро согласился он, заталкивая ногой мешок с веревками под скамью.
– А ребята?
– Все ушли.
– А ты?
– Тебя жду.
Она вошла в Шатер и хотела было сесть, но Леденцов опередил:
– Пойдем на свежий воздух…
– Проводишь?
– Разумеется.
И Леденцов устало подумал про это свое каторжное воспитательное задание… Его сегодня вязали, мешок надевали, валяли, угрожали, по губам били, утопить хотели… А теперь вот иди целоваться. Но когда они вышли под темное осеннее небо, он подумал другое: как хорошо, что над миром звездное небо, а не дерюжный мешок.
– Ир, ты адреса всех ребят знаешь?
– Ну…
– Просьба: собери их завтра сюда к шести часам.