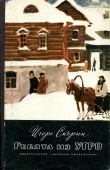Текст книги "Задание"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
7
Многотонное чудище, что-то среднее меж китом и осьминогом, копошилось в серой воде. Хотело вылезти по каменным ступенькам на берег. Да не одно, а вместе с другими, которые поменьше, но со свинячими хвостиками.
– Это… кто? – спросил Леденцов у проходившего парня.
– Катер с лодками, – улыбнулся он.
Леденцов пошел дальше, ставя ноги осторожно, будто не верил крепости гранита.
Набережная с чего-то разыгралась. Золотой купол собора покрылся волнами, как сморщился. Фонари стояли шатко, тоже сомневались в надежности гранита. Деревья росли криво. Далекий шпиль, обычно ровненький, будто аршин проглотил, сегодня, видно, этот аршин не проглотил, а ввинтился в потемневшее небо штопором. Автомобили – и смех и грех – наподдавали друг другу, точно в хоккей играли; одна шустрая легковушка столкнулась с автобусом, въехала в него и сзади выскочила.
Леденцов стал и остервенело потряс головой, чтобы уложить мысли в обычный порядок. Какая-то старушка тоже остановилась с завороженным любопытством.
– Чем могу быть полезен, гражданка?
– Ты сейчас вовсе бесполезный, поскольку труп.
– Гражданка, выбирайте выражения, – строго попросил Леденцов.
– Труп, только тепленький. Шел бы ты домой.
– Домой и иду.
Ему казалось, что он неестественно раздвоился: тело вот оно, шагает по набережной, а сознание отлетело, парит рядом птичкой, наблюдает за телом и ухмыляется, поскольку никогда это тело таким не видело. Тепленький труп. Леденцов пощупал лоб – даже горяченький.
Он свернул на улицу. Надо бы взять такси, но нет денег. Сесть в автобус – там полно народу, стыдно. Троллейбус до дому не идет. И сил мало. Полный расслабон. «Доза», «мэн», «клевый»… Его затошнило. И тогда отлетевшее сознание надоумило позвонить Петельникову, который, вероятно, еще в райотделе. Леденцов втиснулся в телефонную будку, почему-то оказавшуюся на редкость крохотной. С третьей попытки номер набрался.
– Здравия желаю, товарищ капитан!
– Кто это? – не узнал его Петельников.
– Леденцов, ваш подчиненный.
– Голос у тебя, как у древнего граммофона.
– Это от портвейна розового, товарищ капитан.
– С ними пил?
– Так точно. Бежит вина живой поток… Захлебнемся сами…
– Как себя чувствуешь?
– Противно. И зачем люди пьют?
– Эту тему мы обсудим позже. Ты передвигаешься?
– Пунктирно, товарищ капитан, но сознание ясное, и логика четкая.
– Оно и видно. Где ты?
– Где продают жареные пирожки.
– Их на каждом углу продают. Напряги сознание и назови еще ориентир.
Леденцов огляделся сквозь стекла будки:
– Кафе-мороженое «Белый мишка».
– Стой на месте и ни с кем не говори. Сейчас придет машина…
Леденцов вышел из будки и воззрился на торговку пирожками. Отлетевшее сознание научило заесть вино, чтобы пропала тошнота. Капитан запретил ходьбу и разговоры, но пирожки есть не запретил. Леденцов зашарил по карманам. В брюках, под платком, оказались два мятых рубля, видимо сунутых туда поспешно, когда пили с Иркой кофе.
– С чем? – спросил он лоточницу деловито.
– С рисом и мясом, горяченькие.
– Десять с тем и десять с этим.
– Тара есть?
– Тары нет.
– В чем же понесешь?
– Я не понесу.
– А куда?
– Съем.
– Двадцать пирожков?
– Мужской аппетит, – внушительно сообщил Леденцов и потер зазеленевшую скулу.
Лоточница отыскала лист картона метр на полтора, из которого вышел не кулек, а воронка, громадная и негнущаяся, как раструб из жести. Леденцов отошел к скамейке, положил груз и хотел было начать есть. Но отлетевшее сознание усмехнулось: он же не верблюд, чтобы сжевать двадцать пирожков. Если бы с чаем или с компотом. А без них только десять. С мясом, поскольку вкусней. С рисом – это, в сущности, с кашей. Но как теперь узнать, какой с чем? Путем вскрытия, то есть путем взлома.
Леденцов расставил ноги пошире, чтобы упираться в шаткую землю, и принялся за дело – разорвал первый пирожок ровно посередине. Он был с рисом. Второй тоже оказался с рисом. И третий, и четвертый, и пятый… Когда он разорвал шестой пирожок и отложил половинки в отдельный холмик, сочувственный голос поинтересовался:
– Зачем вы их так?
Рядом стоял мужчина средних лет с серьезными усиками и с интересом следил за пирожковой баталией.
– Ищу с мясом.
– А эти куда?
– Снесу домой.
– Не дойдете.
Леденцов бросил пирожки и обернулся к мужчине. За ним стояли два парня и женщина. И у всех были красные повязки.
– Здравствуйте, товарищи дружинники!
– Здравствуйте, – ответил мужчина. – Выпили?
– Портвейна розового.
– Чему же радуетесь?
– Вам, – еще больше обрадовался Леденцов. – Вы меня домой не подкинете? Квартира восемнадцать.
– Подкинем, – согласился мужчина.
– Не могу, мне приказано стоять тут.
– Кем приказано?
Отлетевшее сознание насторожилось: подростки подростками, задание заданием, а позорить родной уголовный розыск нельзя. Он всего лишь подвыпивший гражданин.
– Одним приличным человеком, – хитренько объяснил Леденцов.
– Собутыльником, – фыркнула женщина.
– Пойдемте. – Мужчина легонько взял его под локоть.
– Куда?
– Недалеко, в помещение.
– Закон есть закон, – внушительно согласился Леденцов.
Они пошли. Усатый справа, женщина слева, два парня сзади, а понурый Леденцов с неохватной воронкой пирожков ковылял в середине. Его же отлетевшее сознание струилось где-то поверху, не очень задетое таким поворотом: к дружинникам попал, почти к своим.
– Угощайтесь, пожалуйста. – Леденцов поднес воронку даме.
– Молодой человек, неужели подобное состояние вам приятно?
– Отнюдь. Между нами говоря, мутит.
– Зачем же пили?
– Я пил не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы искоренить.
– И сколько искоренил? – усмехнулся один из парней.
– Семьсот граммов, – с готовностью объяснил Леденцов.
– Господи, о чем думают матери, – вздохнула женщина.
– Моя мама думает о нуклеинах, нуклеотидах и прочих наукоподобных.
– А впереди протокол, штраф, вытрезвитель…
– Гражданка, только не надо песен, – осадил ее Леденцов.
Милицейская машина почти на скорости прижалась к поребрику. Из нее суетливо выскочил майор – тот самый, дежурный, который все знал. Леденцов смотрел на него хитренько, но неузнавающе.
– Вот он мне, голубчик, и нужен. Где взяли?
– У кафе, – оторопел старший дружинник.
– Давно за ним бегаем. Полезай-ка, милый.
Майор бережно подсадил Леденцова, стараясь не порушить куль.
– Рецидивист? – спросил один из парней.
– Разберемся. Продолжайте дежурить, товарищи.
– Он что-то в пирожках искал, – вспомнила женщина.
– Все осмотрим, – заверил майор.
– Мясо! – успел крикнуть Леденцов…
Через полчаса он шагнул в свое парадное, в переднюю. Лимонные волосы прилипли к влажному лбу. Белое, обычно незагораемое лицо облила ровная, какая-то ошпаренная пунцовость. Зеленовато-полосчатая скула казалась малахитовой. Взгляд был бездонным, точно Леденцов смотрел издалека, из космоса, и никак не мог понять, что за планету он видит. Правая щека флюсоидно вздулась, ибо за ней лежал недожеванный пирожок, – между прочим, опять с рисом.
– Что это? – тихо, одними губами, спросила мама.
– Десять с рисом, десять с мясом.
– Боря, что с тобой?
– Мэн принял клевую дозу.
Леденцов пропетлял в свою комнату. Войдя, он оглядел ее удивленно, точно оказался тут впервые.
– Откуда взялся шкаф?
– Боря…
– Ты думаешь, я пьян?
И, упав на тахту, позволив себе расслабиться, он честно признался:
– Мама, я умираю.
– Что с тобой, Боря, что?
– Мутит.
– Так пойди в туалет и сделай то, что тебе хочется.
– А что мне хочется?
– Тебя же тошнит?
Но Леденцов вяло смотрел в потолок. Рассыпанные пирожки лежали на его груди бурыми комьями, развернувшаяся воронка покойно прикрыла ноги. Мать схватила его за руку и поволокла в ванную. И пока он раздевался, долго лил на себя горячую воду, потом холодную, потом опять горячую, стояла под дверью и слушала: не захлебнулся бы…
Через час, мокрый, но почти разумный, сидел Леденцов на кухне. Отлетевшее сознание вернулось в определенное природой место, в голову, – правда, не в большие полушария, а куда-то под самую макушку. Чай снимал дурноту, и Леденцов глотал его чашку за чашкой.
– Теперь-то можешь рассказать?
– Выпил я, мама…
– Сколько?
– Бутылку бормотухи натощак.
– Где?
– В Шатре.
– Ресторан такой?
– Тихое местечко в листве.
– С кем хоть?
– С клевыми ребятами.
– Боря, говори по-русски…
– С Бледным, Артистом, Иркой-губой и Шиндоргой.
– Зачем ты примкнул к сомнительным парочкам?
– Почему парочкам? – все-таки высчитал Леденцов.
– Я поняла, что два парня и две девицы.
– Нет, Шиндорга не девица.
– А синяк откуда, а ссадина на переносице?
– Они угостили, – бросил Леденцов, захлебываясь чаем.
– Во время пьянки?
– До.
– И после этого ты с ними пил?
– Мама, у меня такая работа…
– Завтра же я займусь этой работой, – перебила она, готовая заплакать.
– Мама, я сам виноват.
– В чем?
– Размяк от одной бутылки. Начальник парижской тайной полиции Видок мог выпить десять бутылок вина.
– Боря, ну зачем человеку уметь пить?
– Человеку незачем, но оперативник все должен уметь.
Она смотрела на того, кого с детства готовила к научной работе. Вот он – перекрашенный, нетрезвый, краснорожий, с синяком… Ее ли сын? Впрочем, не сын, а оперативник.
После шестой чашки ядреного чая Леденцову захотелось жить. И захотелось есть – дикий аппетит засверлил желудок.
– Мама, зато я теперь знаю, почему пьяный норовит пристать к людям. Сам он выпил, ему противно, на душе кошки скребут… И вдруг навстречу идет трезвый. «Ага, паразит, свеженький, не пил, деньги экономил, здоровье берег… Умный очень!»
– Боря, ложись спать, – невесело прервала она.
– Мама, у тебя на работе хорошая библиотека, – вдруг трезвым голосом заговорил Леденцов. – Возьми мне Ушинского, Крупскую, Макаренко, Корчака, Сухомлинского… И этого… Песталоцци.
8
Петельников засомневался: имел ли он право дать Леденцову это задание? В сущности, не оперативное, а педагогическое.
Он снял плащ, понюхал ноготки – интересно, кто их ставит? – и распахнул окно. Влажный августовский воздух тронул легкую портьеру. В кабинете запахло акацией, скошенной травой, горячим автомобилем, – этот шумный запах оттеснил терпкость ноготков. Петельников открыл шкаф, где стояло небольшое зеркальце, и причесал мокрые волосы, не высохшие после душа.
Говорят, что воспитание – это искусство. А он послал молодого оперативника, мальчишку, ни жизненным опытом не умудренного, ни этим искусством не наделенного. С другой стороны, воспитание не может и не должно быть искусством. Дар искусства у единиц, у избранных. А воспитанием занимаются миллионы и растят неплохих людей. Без всякого искусства. Сердцем. Недавно он глянул в Герцена и напал на пронзительную мысль, которую даже выписал.
Петельников порылся в ящике стола, нашел блокнот, где среди адресов и телефонов втиснулись скорые слова: «Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка».
А он послал лейтенанта не воспитывать, а перевоспитывать; не одного, а четверых; не ребенка, а почти взрослых людей. Сам же остался на этом… на амвоне. Он снял пиджак, повесил на спинку кресла и отомкнул сейф. В правом углу желтела папка, набитая рапортами, донесениями, записками, протоколами… Ради этой папки он пришел на час раньше, чтобы посидеть в тишине и докопаться до той ускользающей сути, которая увязала бы все эти разрозненные бумаги единой мыслью, именуемой версией. Он бросил папку на стол. Ноготки шевельнулись…
Тихий, какой-то неумелый стук в дверь удивил. Не свои: свои не стучат, свои врываются. Видимо, чья-нибудь жена ищет заблудшего с вечера мужа.
– Да-да! – раздраженно крикнул Петельников, усаживаясь покрепче, ибо он пришел думать и будет думать.
Вошла женщина и осталась у двери. Он ждал обычной фразы: «Дежурный послал к вам…» Женщина поправила грузные каштановые волосы. Петельников вскочил:
– Людмила Николаевна, вы? Что-нибудь с Борисом?
– Он спит.
– Проходите. – Петельников засуетился, не зная, в какое кресло ее усадить.
Они встречались два раза, мельком, но его компьютерная память никого не забывала. В этот ранний час уместно предложить кофе, но секретаря у него не было, а идти за водой, включать плитку и проделывать заварные манипуляции под взглядом гостьи ему что-то мешало.
– Боря вчера пришел пьяным.
– Я приказал, – почти сурово ответил Петельников, как бы утверждая, что приказы не должны обсуждаться ни сыном, ни его матерью.
Они неловко помолчали. Капитан разглядывал ее бледное, как ему казалось, почти голубоватое лицо и думал, что Боря-то спит, а спала ли она? И не эта ли бессонная ночь привела ее сюда?
– Вадим Александрович, вы его начальник и кумир, поэтому я пришла именно к вам с нижайшей просьбой…
– Охотно выполню, – сразу ответил Петельников, пытаясь скоростью слов отогнать догадку.
– Помогите вызволить сына!
– Откуда?
– Отсюда.
– Вы обратились не по адресу, – усмехнулся Петельников, нервно встал, подошел к окну и глянул за акации, на разгулявшийся проспект…
Давно ли Борис Леденцов пришел в уголовный розыск? В двадцать лет, сразу после армии, без опыта и без знаний – взяли по особому разрешению начальства. И сперва никто не понял, зачем взяли и кем. Не то стажер, не то практикант, не то оперативник… Тощ, невелик, рыж – тогда он был еще тощее и рыжее. И вроде бы придурковат, что выказывалось в никем не понимаемых шутках. Впрочем, старшина Переварюха их понимал – смеялся, едва завидев Леденцова.
– А где он, по-вашему, должен работать?
– В науке.
– Да, там легче, – согласился Петельников, возвращаясь за стол.
– У вас, Вадим Александрович, обывательское представление.
– Наоборот. Обыватель убежден, что ученые денно и нощно сидят у микроскопов или синхрофазотронов и выдают открытия.
– Обыватель также убежден, что вы ежедневно бываете в перестрелках и схватках.
– Перестрелки случаются редко, но схватки психологические – ежедневно.
– Зачем эти схватки моему сыну?
– Я и говорю, что вы хотите для него тихой заводи.
– Хочу, чтобы он ушел в науку.
Петельников помнил, что говорит с матерью. Ее сердцу веская логика что стихи голодному. Инстинкт материнства. Чтобы ребенку было легче, мягче, слаще… Но Петельников говорил не просто с матерью, а с матерью работника уголовного розыска; в конце концов, с умным человеком, ибо ум не глупость, его с лица не сотрешь и мимикой не прикроешь. Как же ее ум с образованием не одолеют пращурного инстинкта? Неужели большие полушария и дипломы тут бессильны? Тогда зачем они? И уж если она не понимает, то как спрашивать за воспитание с женщин простых?
– Людмила Николаевна, вы не знаете своего сына.
– Неужели вы знаете его лучше меня? – удивилась она, видимо, наглости Петельникова.
– Хотите, чтобы он ушел в науку… От кого? От друзей, от борьбы, от тяжелой работы?.. Истинный мужчина от всего этого не уходит.
– Я не к безделью его толкаю, а к интересной работе.
– Да он борец! Наукой может заниматься почти каждый, диссертацию может накропать любой грамотный человек… А бойцовская натура – редкость. Нам не диссертаций не хватает, а борцов!
– А мне сына не хватает! Я хочу, чтобы он не пропадал по ночам, неделями, бывал спокоен, не приходил в синяках, ел человеческие обеды… Я хочу, чтобы он жил нормальной жизнью. Что предосудительного в моем желании?
Ее лицо, казавшееся ему голубоватым, порозовело. И Петельников торопливо, в пылу этого разговора, подумал о странностях прекрасного. Леденцов очень походил на красивую мать. Но у сына всего было чуть-чуть больше: волосы рыжее, кожа белесее, нос длиннее, брови незаметнее. Уж не говоря про яркие, клоунские пиджаки и шутовскую речь.
– А кто будет колотиться здесь? – спросил Петельников.
– Вы.
– Так, а вы с Борей станете по утрам пить кофей, – едко согласился он, втягиваясь в запретный для себя спор.
– Вы же любите эту работу…
– И пусть я прихожу в синяках и не ем обедов. Меня вам не жалко. Я же не родной, я – пусть!
– Да, не жалко. Если бы не вы, Боря давно бы бросил милицию.
– Допустим. И пошел бы бродить с геологами, плавать с моряками, лазить в горы или опускаться на дно морское. Он натура клокочущая.
– Тогда пожалейте меня как мать! – Людмила Николаевна сердито тряхнула головой, чтобы удержать слабодушные слезы.
Волосы упали на плечи с песочным шорохом. Она их не поправила – молча отвернула взгляд от капитана, борясь с этими незваными слезами. Молчал и Петельников, ударенный запрещенным приемом. Жалость… Он посажен в этот кабинет не для жалости, а для справедливости. Знает ли эта интеллигентная и красивая женщина, доктор биологических наук, что на другом конце жалости частенько гнездится несправедливость? Было бы время и другой тон разговора, он бы это доказал; он засыпал бы ее примерами из практики уголовного розыска, когда жалость к одному оборачивалась предательством другого. И кого она зовет пожалеть – Леденцова? Нет – ее, мать.
Петельников опять встал и бессмысленно прошелся по кабинету. Его глаза избегали слабеющего лица женщины – смотрели в окно, на проспект. Августовский ветерок откуда-то принес первые желтые листья и повесил на кусты акаций, как медали.
– Он имеет награду, грамоты, ценные подарки, Людмила Николаевна.
– Кто?
– Ваш сын.
– За что?
– Неужели не показывал?
– Нет.
Петельников не верил: сын не делится с матерью своими заслугами? Стесняется хорошего? Не гордится героизмом?
– Настолько вы не любите его работу? – ужаснулся он.
И, бросив окно, подошел к Леденцовой и посмотрел ей в глаза своим жестким взглядом, которого боялась шпана и уважали коллеги. Но взгляда не вышло, он как-то обессилел и потух: перед ним сидела не ученая и не волевая женщина… Сидела мать с бледным невыспавшимся лицом, стянутым вечной заботой о детях, и потому похожая на всех матерей мира.
– Я сварю кофе, – тихо решил Петельников.
И пока он ходил за водой, включал чайник, засыпал порошок, ставил чашки, клал в вазочку сахар и разливал кофе, она пусто смотрела на букетик ноготков. Чашку взяла безвольно, как больная, подчинившись его приказу. И, только отпив половину, негромко заговорила:
– У каждой матери есть мечта, Вадим Александрович. Со школьных лет я видела Борю ученым, в окружении порядочных людей…
– Вам не нравятся его товарищи? – удивился Петельников.
– Кроме вас, никого не знаю, но такая работа, видимо…
– Я про них расскажу, – перебил он, как бы защищая ее от ее же обывательского суждения. – Брали мы как-то Петьку-охотника – бандита и браконьера. Он выскочил из-за дерева с двухстволкой и скомандовал оперативнику: «Ложись, застрелю!» Думаете, оперативник лег?
– А что же ему делать?
– Кубарем покатился под ноги Петьке. У того в глазах зарябило, и первый выстрел промазал, а второй уже не успел.
– Храбрый ваш оперативник, – вяло согласилась она.
То ли они уже перекипели, то ли кофе успокаивало, но разговор пошел спокойный. Впрочем, говорил лишь он, изредка перебиваемый тусклыми вопросами.
– В позапрошлом году пошли грабежи таксистов. Тогда пришлось нашим ребятам заделаться водителями такси. И вот в полночь в одну из машин садятся двое и просят отвезти за город. Только выехали на шоссе, как оперативнику упирается в затылок дуло обреза. Что делать?
– Кричать, – подсказала она.
– Кричать… Оперативник бросает машину в кювет и переворачивается. Результат: оба преступника связаны.
– Как же он сам не пострадал?
– Держался за руль, ждал удара. Или вот еще случай… Шел наш сотрудник ночью и видит, как трое бьют одного. Ни секунды не думал, правда, и самому досталось. Это я вам рассказываю про крупные поступки. А всякая мелочишка?
– Какая мелочишка?
– Например, оперативник простоял двое суток зимой на крыше дома – надо. Или: пришла старушка, ключи забыла, дверь захлопнула и газ включен. Наш сотрудник по стене, по балконам влез на четвертый этаж…
Людмила Николаевна слушала оцепенело. И тогда Петельников догадался, что все делает наоборот – запугивает уже запуганную женщину. В каждом рассказанном случае сотруднику уголовного розыска грозила смерть или увечье. Но Петельников сжал губы. Перед ним была не просто мать, а мать его товарища по трудной мужской работе.
– Людмила Николаевна, я вас немножко обманул…
– Этих историй не было?
– Были, но не с разными сотрудниками, а с одним.
– С кем? – спросила она, уже догадавшись.
– Да с вашим сыном. Им надо гордиться.
И, поправ все законы конспирации, он рассказал про новое, педагогическое задание. Людмила Николаевна слушала уже с интересом. К ней на глазах возвращалась красота, осанка ученой дамы и голубоватый отсвет белой кожи.
Но после второй чашки кофе она печально сказала:
– У меня к вам нижайшая просьба: не посылайте Борю на опасные задания…