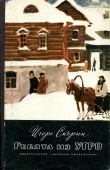Текст книги "Задание"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
17
Капитан никак не мог взять в толк…
Почти каждый вечер ребята не бывали дома и почти каждый вечер приходили пьяными или дурными от выкуренных пачек сигарет; возвращались за полночь, битыми, с чужими вещами, с деньгами. Неужели их родители не знают о пресловутом Шатре? А коли знают, почему не разогнали, не вырубили кустов и не спалили его деревянного скелета? Почему у этих родителей не срабатывает могучий инстинкт материнства-отцовства? Или его хватает лишь на кормление-поение, обувание-одевание?
Петельников утопил кнопку. В квартире сердито зазвенело, отозвавшись недовольными и неспешными шагами. Дверь открыли. Шиндоргина бабушка спросила подозрительно:
– Телевизионный мастер?
– Не телевизионный, но мастер, – улыбнулся он, сомневаясь, можно ли начинать правовой разговор с шутки.
– Тогда какой?
– Мастер своего дела.
– А-а, – узнала она капитана. – Пришли Витю арестовывать?
– Нет, вас.
– За что же?
– За совершенное преступление.
– Ага, я соседку зарезала.
– Вы совершили преступление, предусмотренное статьей двести десятой Уголовного кодекса.
– Молодой человек, мне шестьдесят пять, из них сорок лет трудового беспрерывного. Шутковать со мной вроде бы ни к чему.
– А я не шучу. Вы спаиваете подростков.
– Кто сказал? – Высокий ее голос заметно померк.
– Весь двор видел пьяных ребят…
Пользуясь ее растерянной заминкой, Петельников настырно просочился в переднюю. Она отступила – приземистая, в стеганом халате, седые волосы всклокочены бодливыми рожками. Петельников затеял бы против нее уголовное дело не колеблясь; за одну выходку с двухкопеечными в кабинете стоило бы оштрафовать… Но мешал Леденцов, с его затянувшейся операцией. Поэтому капитан зашел лишь предупредить да попугать.
– Так ведь день рождения! – всплеснула она руками убежденно.
– Повода закон не признает.
– Даже совершеннолетия?
– Гражданка, даже последний алкоголик не пьет без повода.
– Чайку хотите? – вдруг спросила она голосом, каким, видимо, говорила с внуком.
– Вот чайком бы ребят и угощали.
– Господи, шестнадцать лет… Первый в жизни юбилей!
– Поэтому глуши до скотского состояния?
– Витя сам захотел.
– А желание Вити – закон?
– Да вы проходите…
Петельников был впущен в комнату. Он сел в полукреслице, вытянул ноги и расслабился так, что дерево с пружинами пискнуло, принимая тяжесть. Работа научила отдыхать каждую свободную минуту, потому что бегал, потому что еще бегать. Сейчас бы кофейку, но предлагали чаю.
– А где его родители?
– На Севере, завербовавшись.
– Давно?
– Четвертый год пошел.
– Бросили мальчишку в тринадцать лет.
– Как это – бросили? А я-то? Закон законом, но и жизнь надобно знать, – уже нравоучительно изрекла она. – Теперь бабушки идут на грамм золота. Слыхали пословицу? Ребенок – это последняя кукла для матери и первое дитя для бабушки.
Весьма знакомо… А, Леденцов сказал, что теперь воспитывают не матери и не отцы, а бабушки.
– Нужны все-таки родители.
– Не та мать, которая родила, а та мать, которая вырастила, – нашлась у нее еще одна мудрость.
– Нет, – не согласился Петельников. – Не та мать, которая родила; не та мать, которая вырастила; а та мать, которая воспитала.
Она вдруг склонилась к нему так близко, что капитан видел только крупные белесые мешки под глазами. Одна пола тяжелого халата, отдававшая жареной картошкой, легла ему на колено. На его ухо упал седой завиток. Петельникову захотелось по-лошадиному прядать ушами и смахнуть щекочущие волосики.
– Милок, ты рожал?
– Нет, – признался он.
– То-то. Поросенка и того вырастить непросто.
– Как вас звать?
– Анна Вавиловна.
– Анна Вавиловна, не обязательно рожать поросенка, чтобы знать о действии алкоголя на юный организм.
Впрочем, он хотел сказать другое – хотел ввернуть когда-то вычитанный афоризм о том, что не нужно быть шницелем, чтобы знать, как тому горячо. Но все это уже не имело значения, и делать тут было нечего. Говорить о воспитании с этой вздорной старухой? Сейчас-то ее седые бодливые рожки пуганно опали. Хотя уже встают, уже спорят – скоро начнут бодаться. Говорить надо не с ней, а с родителями.
Тринадцать – шестнадцать лет… Оставить мальчишку, когда из него рождался человек? Время становления натуры, бешеных замыслов и первой влюбленности. Но и время бешеных поступков, обидных слез и злых влияний. Как же они бросили Шиндоргу в самое сложное для него время? Спросить бы. Так ведь отговорятся: Север надо осваивать, условий для сына не было, понадеялись на бабушку. И Петельников додумал, как ему показалось, давно начатую мысль до логического конца…
В Уголовном кодексе есть статья под номером сто пятьдесят два, карающая за выпуск недоброкачественной продукции. А какая же статья карает за выпуск в жизнь никудышных личностей? Неужели отправить в продажу гнусавый будильник, разнокаблучные туфли или окривелый телевизор для государства опаснее, чем получить неполноценного человека?
– А до Севера кто его воспитывал?
– Я, кому ж еще.
– Значит, спрос за плохое воспитание с вас?
– Плохое? – обомлела Анна Вавиловна, начав двигаться вокруг Петельникова и обдавать его запахом все той же жареной картошки. – Да знаете ли вы, что Витька родился бройлером?
– Как… бройлером?
– Синий, кило четыреста, недоношенный. Стандартный вес бройлера. Кто его выходил? Я. А когда у него проявились дарования в спортивном интересе, кто водил на каток? Я. Его чуть не взяли во вздорную… эту… сборную команду района. А кто его выходил, когда он отравился?
– Чем отравился? – перебил Петельников.
– Кто-то из ребят приволок бутылку. Наклейка красивая, иноземная, что написано – не понять. Но якобы коньяк в честь Наполеона. Ну, Витенька первый и хлебнул. Оказался натуральный яд против мошек. В больницу попал.
– Неужели на бутылке не было предупредительного рисунка?
– Череп с костями. А пацаньё решило, что это череп того самого Наполеона и есть.
Криминалист, не думающий о причинах преступности, еще не криминалист. Думал и Петельников. Но в последнее время его смущала одна часто приходившая мысль. Он будто спотыкался об нее, отбрасывал и забывал, а она застенчиво приходила опять, но уже в другое время и по другому поводу…
Петельников усомнился не только в величии, но и в полезности человеческих чувств – тех самых, которыми люди жили и которые мировая литература воспевала и продолжала воспевать. Его опыт говорил о другом. Почти все преступления шли от страсти к деньгам, женщине, пьянству или безделью – шли от чувств. Вернее, от того, что их не обуздал разум. Ум к преступлению не толкал. Почему же он не воспет столь громко, как чувства?
Если бы интеллект этой бабуси хоть чуточку бы…
– Анна Вавилоновна… – начал Петельников.
– Вавиловна.
– Извините. Анна Вавиловна, неужели вы не слыхали о вреде алкоголя для растущего организма? Неужели не слыхали о привыкании к вину с одноразового приема? Неужели после отравления ядом у вас не дрогнула рука?
– Я же им не яду лила!
Но попроси Шиндорга – она бы и яду нацедила. Любовь к внуку. Великая, воспетая и всеми принятая. А где же ее разум? Нет, не бабушкин, а где разум любви? И Петельников подумал: что произойдет, если они – ум и чувства – поменяются местами? Когда человек станет поддаваться не порыву чувств, а порыву разума… Не тогда ли придет на Землю Великое будущее?
И чтобы приблизить его, Петельников спросил:
– Вы знаете, что внук пропадает в Шатре, где пьют, курят и безобразничают?
– Наговоры…
Капитан поднялся:
– Я вызываю родителей.
– Нет! – крикнула Анна Вавиловна.
Она привстала на цыпочки, точно пыталась чмокнуть его в подбородок. Но Анна Вавиловна заглядывала ему в глаза, жмурясь от желания угодить. Петельников догадался, что попал в больное место. Видимо, ей было строго-настрого приказано следить за внуком.
– Нет, – тише повторила она. – Я возьму скалку, подкараулю их сборище и бабахну по этому чертову Шатру.
Капитан прикинул: она возьмет скалку, отец Грэга возьмет, мать Бледного и мать Ирки возьмут. От Шатра ничего не останется. И вся леденцовская проблема.
Выходя из квартиры, Петельников подумал: он к разуму обратился? Нет, к чувству, к ее страху перед родителями внука.
18
Начальник уголовного розыска подкинул ему работы, как отдохнувшему. Будто он с юга приехал. Леденцов, изворачивался, чтобы не пропускать почти ежевечерних шатровых сборов. Сегодня даже пришлось подъехать на милицейской машине, сегодня был важный день – Мэ-Мэ-Мэ.
Он заглянул в Шатер, как в берлогу. Казалось, там никого и ничего нет. Но слабеющий свет фонарика затрепетал желтой бабочкой. Все были на месте. И в этом желтом свете Леденцову показалась необычность минуты: ребята сидели с замкнутыми лицами, молча, куртки застегнуты наглухо, у ног громоздятся рюкзаки.
– Опаздываешь, – сказал Шиндорга, упершись в его лицо дрожащим лучиком.
– Бери рюк, – велел Бледный.
– Что в нем?
– Золотишко.
Леденцов послушно взвалил мешок, который пригнул к земле каменной тяжестью. Что-то острое сильно вдавилось в низ спины, будто его пробовали посадить на кол. Он встряхнул рюкзак – теперь впилось и в позвоночник. Если и золотишко, то в виде самородков. Подобные грузы взвалили все ребята, даже Ирка скособочилась от неподъемной сумки.
– К «тачкам», – приказал Бледный.
В одно такси они, конечно, не уместились: только груза килограммов сто пятьдесят. В первую машину сел Бледный с Шиндоргой, остальные во вторую. Ирка подтолкнула Грэга к месту рядом с водителем, а сама прыгнула на заднее сиденье, прижавшись к Леденцову плечом. Это крепкое прикосновение отдалось лишь далекой тревогой: сейчас Леденцов думал об этом, или об этой, Мэ-Мэ-Мэ.
– Боря, – назвал его Грэг по имени, – я раб твой до гроба.
– А, сходил в «Плазму»?
– Там ребята высшего порядка!
– Не подведи меня…
– Скорее лопну, – заверил Артист.
Машины отмеривали квартал за кварталом. Леденцов смотрел в окошко, ориентируясь легко: город он знал, как свою квартиру. И все-таки не утерпел:
– Куда хоть едем?
– К Мэ-Мэ-Мэ, – промекал Грэг.
– Не бойся, не пожалеешь, – тихо успокоила Ирка.
Ее губы были где-то возле его уха. Он следил за путем, но чувствовал, что Ирка смотрит ему в затылок и ждет, когда он повернется.
Город явно кончался. Уже пошли районы новостроек. Куда они едут? Зачем? Что в рюкзаках? Беспокойство крепло. Не за свою жизнь: не убьют же. Но он мог впутаться в преступление. Потом объясняй, как это оперуполномоченный уголовного розыска попал в шайку, почему ехал на такси вечером за город, что вез в мешках, зачем связался с подростками…
Подростки? Но ведь они живут взрослой жизнью. Вот едут на такси вечером с грузом за город… Разве это не взрослое поведение? Ребятам через год-два вручат оружие и попросят охранять страну. Им-то? Ирка через год-два может выйти замуж, стать матерью и воспитывать детей. Она-то?
Машины уже мчались по загородному шоссе.
– Скоро? – притворно зевнул Леденцов.
– Приехали, – отозвался Грэг.
По соснам на развилке, по спрятанным в лесу домам, по светлым косогорам Леденцов догадался, что они в Песчаных Полянах. Машины свернули с шоссе и уже крутились меж соснами и штакетниками. Но заглохли они у высокой металлической ограды. Рюкзаки вытащили скоро, Бледный расплатился с обоими водителями, и такси уехали торопливо, будто испугались темных сосен. Леденцов огляделся. Деревья, железная ограда, тьма… Ни людей, ни огней. Но люди были. Невысокий плотный человек отвалился от сосны, подошел к ограде и чем-то звякнул, отчего в ней засветился узкий проем. Ребята взяли свои грузы и вошли в калитку. Сзади опять звякнуло. Меж калиткой и последующей стеной было метра два, поэтому они тут же миновали дверь и уже стояли в каком-то помещении, освещаемом фонарем в углу, тусклым, как лампада. Видимо, какое-то предприятие, замершее после дневной работы.
Яркий белый свет ослепил.
– Здорово, мужики!
Леденцов открыл глаза и, помаргивая, разглядел этого плотного человека…
Кепочка, что-то вроде ватника, русские сапоги. Круглое лицо, бульдожистые щеки, расторопный взгляд. И Леденцов подумал, что ведь можно иначе: рабочая одежда, приятное лицо, круглые щеки и энергичный взгляд.
– Тут Дуся спросила: а кто пятый?
– Желток, – объяснил Бледный.
– Проверен, – добавила Ирка.
– Тогда будем знакомы: Михаил Михайлович Мочин.
Он протянул руку. Леденцов тренировал не только бицепсы и трицепсы, но и кисти с пальцами. Однако сейчас ему показалось, что ладонь попала под колесо грузовика. Такая сила и жесткость бывает у людей, работающих с металлом. Ему бы еще добавить одну букву «М» – Могучий.
– Куда? – спросил Шиндорга.
– Сыпьте в уголок.
Вслед за всеми Леденцов развязал рюкзак и вытряхнул содержимое. Карбюраторы, свечи, поршневые кольца, прокладки… Спидометры, зеркала, «дворники», приемник… Кто-то даже коленвал приволок. Наверняка все краденое, видно, что детали и приборы выламывали впопыхах. Приемник вырван «с мясом».
– Ни себе фига! Спасибо, мужики. Если на свалке попадутся еще и колеса, то катите сюда.
Слово «свалка» Мочин выделил, сказав его громко и твердо, чтобы никто не сомневался: запчасти со свалки. Шито белыми нитками. Он внушал ребятам, что якобы не знает о происхождении товара. А коли не знает, то нет и скупки краденого. И Леденцов подумал, что этот человек столь же хитер, сколь и силен. Чувствуют ли это ребята? Когда они успели наворовать деталей? Видимо, еще до него, иначе бы пригласили. Интересно: сколько он заплатит?
– Мужики, возляжем? Эй, Крошка!
Леденцов не сразу приметил еще одного человека – худенького подростка в спортивной шапочке и лыжном костюме. Крошка бросился к приземистому ящику, похожему на ларь. Мочин толкнул приваленный к стене громадный рулон, и тот мягко упал на пол.
Леденцов огляделся.
Помещение – метров пятьдесят, сплошной бетон, на потолке солнцем горит лампа ватт в двести. Не то бункер, не то цех. Но стены украшены: как изделия абстракционистов висели до самого потолка масляные фильтры, диски сцепления, фары, цепи, гаечные ключи… А меж ними неожиданная и яркая краска. Неужели фрески на бетоне? Тигриная морда, бутылка шампанского, обнаженная женщина, лик Христа… Леденцов вертел головой, не понимая, чем завораживают эти стены. Неужели живописью? Скорее, контрастностью: женское тело, а рядом натуральная шестеренка.
– Ложись! – крикнул Мочин так, что по бетонным стенам пробежал звон.
Леденцов со всеми повалился на раскатанный спортивный мат. Легли полукругом. В середине оказались собранные Крошкой глиняные миски с зеленым луком, кислой капустой и солеными огурцами. Черный хлеб порезан скибками, как порублен топором. Вилки алюминиевые, кривые. Граненые стаканы не то мутного стекла, не то грязные.
Мочин сорвал винт с бутылки водки и разлил до донышка всем поровну. И Крошке, легшему с ним рядом. Сколько этому Крошке, лет четырнадцать-пятнадцать?
– Опростимся, мужички. – Мочин поднял стакан. – Вкусим за умных!
– Умные – это какие? – спросил Леденцов подурашливее.
– Умный кушает шницель, а дурак горчицу.
И Мочин оглядел его своим проворным взглядом, как обшарил.
– Тогда мы дураки: кушаем капусту…
– Это кто? – изумился Мочин, указуя на Леденцова стаканом.
– Это Желток, – объяснил Бледный.
– Я так и подумал, – удовлетворился Мочин.
Выпили торопливо, захрустев огурцами. Леденцов оглядел своих шатровых. Бледный от сосредоточенности еще больше заострился лицом, Шиндорга смотрел на Мэ-Мэ-Мэ с откровенным подобострастием. Но Грэг жевал капусту рассеянно. Ирка же не спускала глаз с него, с Леденцова.
Что для них этот Мочин? Кто он? Чем держит? Видимо, за краденые детали платит хорошие деньги.
– Сколько он даст «бабок»? – шепнул Леденцов Ирке.
– Ни рубля.
– Тогда к чему канитель?
– Он хайлафист.
– А на полу водка с капустой?
– В этом верхний шик…
– Не секретничать! – приказал Мочин, добавив, видимо, для новенького: – Умный тот, кто умеет крутиться.
– В какую сторону? – полюбопытствовал Леденцов.
– А вот кто не знает, в какую сторону крутиться, тот натуральный дурак.
Шиндорга хихикнул. Улыбнулся и Бледный. Грэг вяло жевал, прислушиваясь к разговору. Ирка дышала прямо ему в ухо.
– Может, я и дурак, – прикинулся Леденцов, пробуя догадаться, кто этот человек для ребят.
– Сейчас проверим. Дуся спросила: почему в бане все равны?
– В женской?
– Зачем в женской?
– Так ведь спросила Дуся…
– У меня такая присказка. Ну, почему в бане все равны?
– Потому что голые…
– Потому что начальство моется в сауне, – усмехнулся Мочин.
– Значит, я дурак, – признал Леденцов.
Водка ударила в голову неожиданной ясностью, будто промыла мозги…
Где же предел потаканию? Сперва золотые часы, теперь запчасти. Пьет с ними. Так и в соучастники попасть недолго. У этого Мочина статья чистая – скупка краденого. Пожалуй, скупки нет, поскольку денег он предусмотрительно не платит. Впрочем, почему скупка? Он же сам слышал его слова про колеса – «катите сюда». Классическое соучастие в форме подстрекательства. Плюс спаивание несовершеннолетних.
Но почему ребята бегут к нему телятами? Ирка и Бледный с характерами, Грэг не дурак… Ага, Мэ-Мэ-Мэ – хайлафист, человек высшей, или высокой, жизни. Но в чем она и где? В бетонной коробке? В капустке с лучком? Не нагрянуть ли сюда завтра утречком пораньше, пока целы запчасти? И что? Отдать всех под суд? Убедить и перевоспитать этим? В сущности, силой?
Мочин откуда-то из-за спины вытянул балалайку. Ну да: водка, лук, кислая капуста – тут без балалайки что хлев без коровы. Неужели ребятам интересно? Еще бы, если Мочин брякнул по струнам и запел:
Отпотел на стройке лето,
Не жалел ни ног, ни кед,
Заработал на газету
И на комплексный обед.
Леденцов опасался, что хозяин выставит еще бутылку, но он швырнул балалайку в инструменты и поднялся.
– Опростились, мужики, и хватит.
Ребята вскочили так резво, будто ждали этой команды. Мочин погасил свет и открыл дверь, но не ту, через которую входили. Все пошли за его скорым шагом. И сразу оказались в такой же бетонной коробке, слабо освещенной. Леденцов лишь успел заметить «Волгу», белым лебедем дремавшую у стены…
Они уже стояли на воздухе, в свете голубоватого фонаря, который, похоже, загорелся сам. Мочин вел. Под ногами поскрипывал крупный, конечно, голубоватый песок. Аллейка с холеными елочками, тоже голубыми, стоявшими плотно, как ратники в шеренге. Голубое крыльцо кирпичной кладки, над которым нависал темный с цинковым блеском купол крыши. Дверь, обитая латунью…
Голубой свет погас, но загорелся желтый, надкрылечный, освещая путь в дом.
Просторная передняя светлого дерева… Фарфоровый плафон, расписанный цветами. Вешалка из перепутанных рогов во всю стену – штук пять убито оленей, не меньше. Телефон на полированной тумбе. Телефон в загородном доме?
– Мужики, раздевайтесь.
Ирка легонько толкнула Леденцова, показывая взглядом на свою грудь и плечи. Новая, яркая кофта, мохнатенькая, как ангорский котенок. Оказывается, все ребята принарядились: Бледный в сером костюме, Шиндорга в кожаной куртке, Грэг с галстуком.
– Входите, мужики, входите…
Леденцову показалось, что просторная комната, как и подстриженный сад, залита голубым светом. Но хрустальная люстра горела чисто и ясно. Голубело от другого… Пол выстилал голубой палас. Кресла, стулья, два разномерных дивана, пуфики – все было обито голубым бархатом. И голубые с золотом обои.
– На гарнитурчик тринадцать тысяч брошено. – Мочин перехватил его взгляд. – За трапезу, мужики!
Леденцов ступил на щетинистый палас неуверенно, боясь его нетронутой голубизны. Овальный стол вытянулся среди комнаты, будто переплывал ее солнечным теплоходом. Но Леденцова поразили не импортные бутылки и посуда, не закуски и фрукты, а плоская фаянсовая салатница, полная черной икры. Как темное дупло в середине стола. И серебряная ложка воткнута, бери и накладывай.
Вот почему деньги за товар не платились… Подобная компания сожрет водки с капустой и коньяка с черной икрой на трехзначную цифру. Ради этого воровали? Факт. Но тогда почему ждали этого дня, как праздника, принарядились, лица горели тихим восторгом? Непохоже, что Ирку или Бледного можно купить за икру, а Грэгу в ней и дома не отказывали.
Все сели. Исчезнувший было Мочин появился вновь. Длинный и мягкий халат небесной синевы делал его стройнее и даже скрадывал бульдожистость лица. Он мягко открыл бутылку шампанского и налил все бокалы.
– Подождем вторую даму.
Рядом с Мочиным пустовало место. Вторая дама, казалось, вышла из голубой стены. Леденцов оторопел…
Невысокая, стройная, с темными распущенными волосами. Черты лица хоть и мелковаты, но правильны до геометричности. Голубая шелковая лента не столько прикрывала грудь, сколь ее поддерживала, как бесплотную драгоценность. Не то юбочка, не то набедренная повязка, – разумеется, голубая. На прямых упитанных ножках голубые чулки, кончавшиеся сразу выше колен, отчего свободные бедра сияли незагорелой белизной.
– Кто это? – спросил Леденцов Ирку, севшую рядом.
– Крошка.
Леденцов еще раз оторопел, намереваясь расспросить Ирку, но Мочин встал.
– Приветствую вас в голубой гостиной моего дома. Предлагаю тост за смелых мужиков. Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Бокалы опорожнили, и сразу пошумнело. Зацокали ножи с вилками, заскрипели голубые стулья, заиграл магнитофон, засмеялась Крошка…
– Всегда так? – спросил Леденцов Ирку.
– Как?
– От гаража с водкой до гостиной с шампанским?
– Всегда по-разному.
Мочин поражал их контрастами. Ирка говорит, что всегда по-разному. Может быть, этим и жила его притягательность? Трудно ли шарахнуть по неокрепшему воображению подростка – им чем ярче, тем интереснее.
– Чего не ешь икру? – грозно спросил Мочин, увидев, что новый гость ковыряет кружок свежего огурца.
– Не привык.
– Привыкай.
– Зачем?
– Тогда Дуся спросила: что такое черная икра?
– Как что такое?.. Дефицит.
– Нет, черная икра есть стимул.
– Стимул чего?
– Жизни! Допустим, захотел ты черной икры… Что для этого надо? «Бабки». У тебя их нет. Что делать? Идешь вкалывать. Так не стимул ли?
Губы и брылы Мочина улыбались, но проворный взгляд исследовал леденцовскую физиономию с дотошностью эксперта – ему бы лупу с пинцетиком.
– На черную икру не навкалываешься, – осторожно поддел Леденцов.
– А я научу. Мужики, все сюда! Хочу развесить по городу объявления в два слова: «Учу жить». И номер телефона. Ни себе фига, а?
Ребята захлопали в ладоши. Крошка чмокнула его оглушительно, словно бутылку шампанского откупорила. Сколько ей, лет восемнадцать-девятнадцать? А ему – тридцать?
– Мэ-Мэ-Мэ, когда займемся кун-фу? – спросил Бледный.
– Мужики, кун-фу штука солидная. Означает «искусство убивать».
– Ты обещал, – напомнил Бледный.
– Колеса будут и еще кое-что, – заверил Шиндорга.
– Этот месяц докручу и стану вашим сэнсэем.
«Сэнсэй», видимо, «учитель». Леденцов чуть не стукнул себя по лбу – как же он раньше не смекнул? Ребят притягивали не деньги, не икра и не выпивка. Они учились жить. Сэнсэй, гуру… Учитель! Мочин физически силен, энергичен, умен, богат, удачлив. Чем не пример? Это как в пьянстве: подзаборный алкоголик мальчишек отвратит, а работящий да веселый выпивоха может заманить. Милиция, учителя, родители бессильны, ибо это то же самое, что лечить живущих у отравленного источника.
Леденцов вспыхнул злостью. До каких же пор?.. Сейчас он начнет раздевать этого сэнсэя перед ребятами до нижнего белья его скудной философии. Хорошо сказано, то есть подумано: до нижнего белья его скудной философии. А потом пусть бьют, выносят, топчут и что там еще делают…
– А как жить? – громко бросил Леденцов.
– Как жить… – Мочин учил, особенно новенького, с наслаждением. – Но сперва Дуся спросит: у тебя запас есть?
– Запас чего?
– Вот чего у тебя есть запас?
Леденцов окинул памятью свою квартиру. Чего там запас… Они с мамой всю жизнь боролись с лишними вещами. Впрочем, запас у мамы был – спичек, имеющих привычку кончаться неожиданно.
– Запас чистой бумаги, – вспомнил он стопку на своем столе.
– Ни себе фига! А у меня запас всего.
– Как это – всего? – не поверил Леденцов.
– Денег – пожалуйста. Спиртного – целый бар. А одежды – на всю жизнь хватит. Жилплощади – в мой дом три семьи влезет. Транспорт – «Волга» в гараже. Продуктов – под домом погреб десять на десять. Что еще? Музыки? Записи всех ансамблей мира. Лекарств? И змеиный яд есть, и женьшень. У меня даже запас времени имеется. Я могу месяц, два, три загорать в Евпаториях-крематориях, а дела мои будут крутиться. Мужики, вдарим по коньячку!
Пил и ел он вкусно, как в кино. Коньяк у него проскакивал одним глотком, сколько бы его в рюмке ни было; лимон отжимался крепкими губами досуха; соленые миноги похрустывали яблочно. И этому учились ребята, как, впрочем, учились тут всему.
Ирка, видя, что Леденцов жует одни травки, плюхнула ему на тарелку пару столовых ложек икры и положила куски свежей булки с маслом. Оставалось только намазать. Леденцов ощутил предательский и голодный ком, шедший из желудка к горлу. Что и где он сегодня ел? Ага, в столовой трамвайного парка проглотил биточки и компот. Но это было давно, утром, да и было ли?
– У меня от икры диатез, – шепнул он Ирке.
– Чего? – не поняла она «диатеза».
– Ну, аллергия.
Она ловко поменяла их тарелки – теперь перед ним были маринованные миноги с жареными шампиньонами.
– А социальная справедливость? – громко спросил он Мочина, глотательным движением заталкивая ком обратно в желудок, где ничего, кроме водки, не было.
– Тетя Дуся спросила: ты песни про слонов знаешь?
– Про розового слона есть детская, про слонов в цирке… Ну и что?
– А теперь скажи: большая нам польза от этих слонов?
– Развлекают.
– Именно. А сколько ты знаешь песен про коров?
Леденцов попробовал вспомнить, но ни одной в голову не шло. Не сочинили или ему память отшибло? Впрочем, одну песенку вспомнил. «Что-то я тебя, корова, толком не пойму…» Издевательская, поэтому Мочину ее не назвал, понимая, что подобная ему и нужна.
– Не вспомнишь, не напрягайся. Как же так? Про слонов, которые нам до лампады, песни сложены. А про буренок, которые нас буквально кормят и поят, песенок не придумали. Вот тебе и ответ насчет социальной справедливости.
Сюда бы капитана Петельникова. Он бы от этой коровьей философии камня на камне не оставил. В случае чего, и врезал бы Мочину, – конечно, в порядке самообороны. И ребят бы увел. И черную бы икру с миногами съел.
– А добро? – решил прибегнуть к вечной категории Леденцов.
– Тут Дуся спросила: почему волка держат за хищника, а человека нет? Мясо-то сообща едим. Дуся ответила: потому что волчишка не догадался построить мясокомбинат, а жрет прямо сырье.
– А при чем доброта?
– Если человеки мясо едят, то какая доброта, мужик?
– По-волчьи живете? Чужого съедите, своему не поможете?
– Тебя как звать-то?
– Борис Тимофеевич.
– Желток его звать, – поправил Бледный.
– Желток, кому помогать?
– Так уж и некому?
– А ты мне покажи человека в горе. Под машину попал, дача сгорела, жена тройню родила… Я таких не знаю. Кому помогать? Бледному и Шиндорге? Они свое сами возьмут. Артисту? Ему папа поможет. Ирке? Пусть мужа делового ищет. Вот научить я могу.
– Люди бьются за добро и справедливость, – сказал Леденцов, понимая, что не спорит, а мямлит.
– Красивые словечки! Бой, схватка, битва, сражение… А смысл один: человек хватает человека за глотку и душит до посинения.
– Желток выпендривается, – пьяновато решил Бледный.
– Потому что не ест, – объяснила Ирка.
Их перепалку с Мочиным слушали вполуха. По столу гуляла бутылка финского ликера «Адвокат», который закусывали переспелыми грушами. Магнитофон крутил уже немодного эстрадного кумира Принса. Крошка, не сказавшая еще ни слова, угощала сигаретами «Данхилл» и «Кэмел».
– Ты будешь есть? – громко спросила Ирка.
– Он и не пьет, – вставил Мочин.
– И Грэг не пьет, – удивился Бледный.
– Мне утром в «Плазму».
– Прекрасная Ириша тоже не вкушает, – добавил Мочин.
– Она втюрилась в Желтка, – заухмылялся Шиндорга.
– Только не надо песен, – вяло бросила Ирка.
Леденцов быстро глянул на двух непьющих. Грэг сидел опустив голову, отчего упавшие вперед волосы делали его похожим на добрейшую овечку. Он явно тяготился застольем, думая о своей «Плазме». Ирка смотрела на Леденцова – втюрилась и поэтому не пила. А раньше, судя по репликам Мочина, они все тут напивались до положения риз. И в Леденцове все гикнуло от радости: двое из четверых не пьют. Это же пятьдесят процентов!
– Мэ-Мэ-Мэ, а ты был женат? – спросила вдруг Ирка, поскольку все-таки втюрилась.
– С кольцами и под Мендельсона!
– Развелся?
– Нет, не развелся.
– Умерла?
– Нет.
– А где же она? – удивилась Ирка.
– Жена была очень хорошая. Вы даже не можете представить, как я любил ее. А потом она взяла да и съела большой кусок мяса. И я, как вы догадались… Да, и под камень положил, и на камне написал…
Все, кроме Леденцова, рассмеялись. За это Мочин ощупал его своим пронырливым взглядом, добавив:
– Зачем жена? Мне достаточно, чтобы на кухне звякала тихая Крошка.
В подтверждение он притянул эту Крошку к себе так, что та легла грудью на стол, на блюдо отварного языка с зеленым горошком. Поперечная лента, стягивающая ее, задвигалась свободно, и Леденцов подумал: еще движение – и то, что лента стягивает, вывалится на блюдо.
– А любовь? – неуверенно спросила Ирка.
– Любовь? Ответь-ка Дусе, кто чаще влюбляется: мужчина или женщина?
– Всегда женщина.
– Именно. Поэтому оставим любовь для слабых.
– Ты будешь жрать? – сердито зашипела Ирка на Леденцова.
– Конечно, буду.
Он взял кусок хлеба и вонзил вилку в миногу, которая у него даже захрустела на зубах. Впрочем, могло трещать и за ушами от упоенной работы челюстей. Потому что дело идет и успех налицо, потому что пятьдесят процентов сидит и не пьет.
– Мужики, когда у вас будет, как у меня, гаражик с машиной да вот такой особнячок, то с любовью никаких проблем. Любая Крошка почтет за честь. А если подарите французские туфли с зеркальными шнурками…
– Не любая, – прошамкал Леденцов с набитым ртом и уставился на Крошку.
– Тут Дуся спросила: как это – не любая?
– Дура твоя Дуся. – Теперь Леденцов сказал чисто.
– Это кто? – удивился Мочин, показывая на него вилкой с поддетой шляпкой маринованного боровичка.
– Это Желток, – тщательно растолковал Бледный.
– И он выпендрючивается, – добавил Шиндорга.
– Может, его фотку расцветить? – предложил Бледный.
– Побереги краску! – обрезала его Ирка.
– Что он такого сказал? – удивился Артист. – Оскорбил какую-то мифическую Дусю.
– Он оскорбил мою Крошку, – уточнил Мочин. – Или не так?
– Я просто сказал, что большинство женщин признает копейку трудовую…
– А у меня она краденая?
– Ну, если ты академик…
Сделалось так тихо, что все глянули на стол, где шипела закупоренная полупустая бутылка из-под шампанского. Мочин встал как бы нехотя. Его щеки – самая бульдя – налились розовой силой и вроде бы еще обвисли. Леденцов украдкой глянул на ребят… Бледный с Шиндоргой смотрели на него пьяно и презрительно. Грэг уставился на хозяина дома и уже не походил на травоядную овечку. Ирка вертела головой—то к нему, то к Мочину.