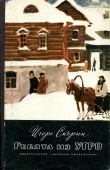Текст книги "Задание"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
12
Они поехали автобусом, но в сутолоке, тряске и шуме не поговоришь. Артист сразу же плюхнулся на свободное место, потянув за собой и его. Леденцов сел напрасно, ибо знал, что женщины и пожилые люди, в каком бы конце салона ни находились, непременно шли к нему: видимо, притягивал рыжий цвет. Поэтому в общественном транспорте он не садился, да и зажатым быть не любил.
На следующей же остановке Леденцов уступил место женщине лет тридцати. Грэг ухмыльнулся, развалясь демонстративно и тихонько пощипывая струны. Пола замшевой куртки легла на колено соседки, длинные волосы рассыпались по спинке сиденья…
У Леденцова вдруг шмыгнуло преступное желание – дать ему по затылку со всего маху. И все! Не убеждать, не воспитывать, не сюсюкать, а по патлам, по патлам… Небось сразу бы все почувствовал. Леденцов усмехнулся: эту педагогическую мысль в блокнот лучше не записывать.
Поездка выходила пустой: он стоял, Грэг сидел. И тогда Леденцов предложил ему выйти и дальше топать парком. Артист согласился.
Шли они медленно, бездельно, нога за ногу, как ходить Леденцов не привык и не умел. Уже стемнело. Белые круглые фонари, прикрытые сверху листвой, походили на выросшие торшеры. Светили они диковинно, выхватывая из тьмы деревья и ложась на дорожку матовым туманцем. Запах поздних осенних цветов показался Леденцову забытым. Когда он тут был? В июне, в белые ночи. Тогда он летел с гоночной скоростью, рассекая телом кусты и сучья, сдирая с себя куртку, рубашку и кожу, – преследовал бывшего боксера, он же «король дискотеки», он же Фимка-жила. И было не до запахов.
Клен даже в фонарных сумерках краснел. Его дерево, родственное, тоже рыжее. Леденцов нагреб веер листьев.
– Красота, а?
– Желток, давай фонарь кокнем?
– Зачем? – опешил Леденцов.
– Просто так.
– Просто так я ничего не делаю.
– Все со смыслом? – поехиднее спросил Артист.
– Стараюсь.
– Значит, ты дурак, Желток.
– Это почему же?
– Да потому что смысла ни в чем нет.
Леденцов обрадовался: разговор шел в руки и завел его сам Артист. Да сразу о смысле жизни. Теперь бы взять верную ноту, но Леденцов вдруг ощутил легкость своих лет. А ведь есть же педагогические приемы, как говорить по душам; есть разработанные методики, есть обобщенный жизненный опыт… В тех книгах, которые мудрой стопой ждут его дома на столе.
– Если нет смысла в шатровых сборищах, так, по-твоему, его нет ни в чем? – рубанул сплеча Леденцов.
– Не понравился Шатер?
– Скукотища, – смягчил он сказанное.
– У нас бывает классная веселуха. А смысла нет.
– Работа завлекающая, книжки умные, кинофильмы остросюжетные, люди хорошие… Вот в чем смысл!
– Для тебя.
– А твоя семья? Отец, говорят, крупный руководитель. Так и в семье нет смысла?
Артист ущипнул струны и запел, тревожа осень печальными словами:
Руки страхом сведены,
По щекам бежит смешок…
Я в тепле родной семьи
Словно брошенный щенок.
Леденцов хотел обратиться к школе, но, вспомнив дружное неприятие Шатром учителей, замолк. Какой-то парадокс. Он намеревался говорить о труде, о пустом времяпрепровождении, о морали и преступности. Но Артист ошарашил его сложнейшим, но в принципе пустым вопросом: есть ли смысл во всем сущем? Для Леденцова это походило на вопрос: нужны ли земля и воздух, труд и правда?
– Григорий… – начал Леденцов и сделал паузу, чтобы определить реакцию на «Григория».
Артист скоро глянул на него и отвернулся вроде бы равнодушно. Они шли по тополиной аллее, и белесовато-зеленые стволы уходили в высоту, недосягаемую для света фонарей. Под ногами скрипел гравий, насыпанный днем. Пахло корой, мокрой галькой и палым листом.
– Григорий, – повторил Леденцов. – А в этом парке есть смысл? В его осенней красоте есть смысл?
Артист стал, опасливо указуя гитарой на ларек, торговавший днем мороженым.
Какие страшные картины
мне чудятся за тем углом…
А в этих зарослях малины
Кто притаился с кистенем?
И сад, враждебно надвигаясь,
Не станет другом никогда.
И за кустами, угрожая,
Мне строит рожи чернота.
– Неплохо, – похвалил Леденцов, не считавший себя знатоком стихов. – В них тоже нет смысла?
Артист не ответил, по-особому звонко выдавливая гравий из-под пяток. Обидная мысль задела Леденцова: его не воспринимают всерьез. Почему? Молод? Не солиден? Рыж?
И Грэг объяснил ему впопад:
– Нравилась бы тебе жизнь – в Шатер бы не заплыл.
Вот почему… Свой, такой же, а своих не слушают. Он забыл про главный кирпичик воспитания – про личный пример. Петельников предупреждал.
– Я у вас временно.
– А мы все временные.
– В каком смысле?
– Пересажают нас, – почти весело поделился Артист.
– И ты этого ждешь спокойно?
– А ты психуешь?
Где-то за кустами вскрикнули, потом засмеялись, потом тихонько запели. Грэг поднял руку.
Вот странный звук в ночи раздался,
И близко отозвался вскрик.
Между деревьев затерялся
Багрово-вещий лунный блик.
– Уйду я от вас, – мрачно и серьезно решил Леденцов.
– Думаешь, я не хотел уйти? И Губа хотела, и Бледный… Засасывает.
Парк уже кончился. Они вышли на аллею, по которой трусили бегуны. Леденцов подумал, что уже неделю он не бегает, не плавает, не ходит на борьбу… Не видел своих ребят и родного кабинетика. Занимается пустяками. Но странная мысль, определенно дурная, удивила донельзя, и, может быть, не сама мысль, а удивило то, что пришла она именно ему… Искать, ловить, хватать и сажать легче, чем перевоспитывать. Неужели? Но тогда выходило, что его работа не такая уж и главная – есть и поглавнее. Леденцов тряхнул рыжей Шевелюрой, освобождаясь от ненужной и неожиданной мысли.
– Григорий, кем же ты хочешь стать после десятилетки, если для тебя ничего не имеет смысла?
– Дворником.
– Шутишь?
– А что, дворник не человек?
– Не похож ты на дворника.
– Если бы я сказал, что хочу стать космонавтом, ты бы меня по плечу похлопал? А ведь на космонавта я тоже не похож.
– Дворницкая работа не интересна, заработок маловат…
– А мне время нужно, а не деньги.
– Зачем тебе время?
– Играть, сочинять, петь… Желток, я хочу стать супербардом…
Они вышли из парка в тишину улицы, нарушаемую лишь такси да редкими автобусами. Потеряв цель пути – миновать парк, – они остановились. Большие глаза в пушистых ресницах смотрели на оперативника изучающе и печально. Замшевая куртка, слишком широкая, чтобы придать вид узким плечам…
– Меня зовут Борисом, – вдруг представился Леденцов, хотя Грэг его имя знал.
– Тебе Мэ-Мэ-Мэ подойдет, – вдруг сказал Артист.
– Какой Мэ-Мэ-Мэ?
– Узнаешь.
Третья загадка. Что за операция «Отцы и дети»? Почему деньги отдали Ирке? Что такое Мэ-Мэ-Мэ или кто такой Мэ-Мэ-Мэ? Леденцова подмывало расспросить, но он сдержался: спелый плод упадет сам.
– Григорий, а почему тебе не пойти в вокально-инструментальный ансамбль?
– В плохой ВИА не хочу, а в хороший не берут. Упаднические, мол, песни, доморощенность, плохо учусь…
– В «Плазму» пошел бы?
– Группа суперкласса. А что?
Загоревшиеся глаза перестали быть печальными. Леденцов понял, что реальность уплывает из-под его ног. Но остановиться уже не было сил.
– У меня там дружок…
– И он устроит?
– С твоими-то способностями? Непременно.
– А когда?
– Завтра ему звякну.
Грэг, видимо, хотел выразить признательность, но не умел – лишь хлопал пушистыми ресницами да теребил струны, гудевшие по-шмелиному.
– Борис, ты… того… опасайся Шиндоргу.
– Почему?
– Со временем усечешь.
Но Леденцов, кажется, усек, вспомнив полумрак, дрожавшую от нетерпения челку и жаждущий блеск шила. Артист показал на дом, на три горевших окна, видимо, его квартиры:
И в доме нет успокоенья,
Луна давно в окно зовет.
Сулит продлить мои мученья,
Грозит – во сне ко мне придет.
Опасный свет ее ложится
На пол, на стены, на часы.
И к горлу моему стремится…
Как эти руки холодны!
13
Петельников остановился у самой двери парадного. Не взяв куртки, вышел он из машины на осенний ветер в белоснежном свитере тончайшей вязки из шерсти горной козы, в отглаженных кремовых брюках и туфлях из бесшумной мягкой кожи. Старший оперуполномоченный уголовного розыска полагал одежду неотъемлемой частью своей сущности, как, впрочем, и квартирный интерьер с бытом. Он был убежден, что неряха не может хорошо работать, легкомысленный никогда не станет истинным другом, недалекий не сумеет полюбить… Ибо натура нерасщепима.
Петельников прошелся по лестнице в поисках квартиры под номером 1а. Таковой не было. Его надоумило спуститься по ведущим вниз ступенькам. Квартира под номером 1а оказалась подвалом. Он открыл толстенную шумозащитную дверь и вошел…
Музыка остановила. Современный непререкаемый ритм старался схватить человеческое тело и двигать им, подчинять и командовать. Петельникову, привыкшему к классике, захотелось сопротивляться. Но под навязчивым ритмом текла вроде бы неброская мелодия – за ней нужно было следить, за утекающей, за зовущей куда-то далеко, может быть, в космос. И тогда музыка захватывала душу, ритм не замечался и хотелось просто слушать и слушать.
Оркестр умолк. Человек восемь ребят молча смотрели на вошедшего.
– А почему, собственно, «Плазма»? – спросил Петельников.
– Мы горим высоким накалом, – мрачно объяснил молодой человек в очках и с бородкой.
– И сжигаем других, – добавил кто-то.
– А вы с проверкой? – спросил бородатый, – видимо, руководитель.
– Я с просьбой.
Музыканты расслабились. Петельников подошел к их аппаратуре. В тридцатых годах ее бы посчитали за пульт управления межпланетным кораблем. Один синтезатор ошеломил бы.
– Неплохо устроились, – заключил Петельников, разглядывая обшитые деревянными панелями стены, мягкие кресла, кофейный столик и яркие светильники.
– Все своими руками, – бросил один из музыкантов небрежно.
– И кресла?
– Все, кроме инструментов. Тут был кошачий подвал.
И оперативник сразу понял, что он полюбит эту группу, потому что ему нравились люди, делающие собственными руками мебель, музыку и свои судьбы.
– А вы, извините, кто? – спросил бородатый руководитель.
– Я из уголовного розыска, капитан Петельников. – Он предъявил удостоверение.
– Вроде бы музыку мы не воруем…
Ребята улыбались. Что-то в них было общее, как у родственников. Он разгадал: молодая серьезность. Все в одинаковых темных комбинезонах, как рабочие где-нибудь в гараже или на стройке; обязательно усы, или бородка, или то и другое, да еще и очки. Правильно, ибо плазма – штука горячая и серьезная.
– Какая у вас просьба? – спросил руководитель, самый из них солидный.
– Устроить в вашу группу одного паренька…
Теперь музыканты рассмеялись и глянули на оперативника, как на крайнего простака.
– Товарищи, вы не поняли. Не за родственника прошу, не за приятеля…
Он рассказал про Шатер и про Грэга. Музыканты молчали. Юноша, игравший на ударнике, достал платок и вытер мокрый лоб.
– Знаете, к нам очередь стоит.
Ребят словно прорвало:
– С консерваторским образованием не берем…
– «Плазма» вот-вот перейдет в профессионалы…
– Какой-то бард-самоучка…
– Пусть идет в кружок при жилконторе…
– Мы как музыканты…
– А я пришел к вам не как к музыкантам! – перебил Петельников голосом, который по мощи не уступил бы синтезатору.
– А как к кому? – спросил тот, которого он перебил.
– Как к гражданам! Что бы вы сделали, если бы под окнами вашего подвала стали бить человека?
– Выбежали бы, – хмуро сказал руководитель, уже понимая ход мысли оперативника.
– С электрогитарами, – улыбнулся молодой человек, походивший минимум на доцента.
– Товарищи, так ведь бьют! Нужно выбегать! С электрогитарами! Никто не просит, чтобы он с вами выступал. В конце концов, можете вы сделаться коллективным наставником?
– У вас, наверное, подобных «артистов» много? – спросил музыкант, походивший на доцента.
– Следующего обещаю свести в симфонический оркестр.
Все засмеялись. Петельников вздохнул: пожалуй, первый раунд за ним. Впрочем, подобных раундов предстоит много, ибо неизвестно, что и кому сейчас обещает в Шатре Леденцов. Не пришлось бы идти в хореографическое училище и пристраивать в балерины Ирку-губу.
В понятие «розыск преступника» люди вкладывали один очевидный смысл – бежать, ловить, стрелять, хватать… Но любой оперативник лишь усмехнется от этого очевидного смысла. Конечно, ловят, хватают, стреляют… Иногда. Как-то он месяц прокопался в архиве одного учреждения, отыскивая клочок бумаги, от которого зависела судьба человека… Неделю помогал чистить общественную уборную в парке, куда хулиган бросил нож… Два месяца безвыходно прожил в квартире у жены рецидивиста – ждал ее мужа, – смотрел телевизор, готовил обеды, убирал, стирал… Десять дней вез из Владивостока наиважнейшую свидетельницу, семнадцатилетнюю мать с ребенком, которого купал в вагоне, бегал для него на стоянках за молоком и тальком… Вот и сейчас не ловит и не стреляет, а уламывает музыкантов.
– Рок-группы поносят все кому не лень, а за помощью идут, – грустно заметил руководитель.
– Я считаю: чем больше ансамблей, тем меньше безобразий, – серьезно возразил оперативник.
– Не хотите ли кофе? – предложил вдруг руководитель.
– С удовольствием.
Вот не теперь ли он выиграл первый раунд?
Они сели за низкий овальный столик, расписанный под палех. Вроде деревянной ложки. Делать такой столик кофейным не стоило бы: на нем меркло все, что ни поставь, как в цветочной клумбе. Однако кофейные чашечки не померкли, – может быть, оттого, что расставили их две элегантные девушки, появившиеся неизвестно откуда.
– Как вы относитесь к хэви метал? – спросил кто-то.
Петельников вздохнул. Ребята засмеялись, но потребовали:
– Говорите прямо.
– Для меня хэви метал слишком примитивен.
– Но тяжелый рок – это музыка городских подростков! – вспыхнул самый юный музыкант.
– А разве музыка делится на подростковую и взрослую, на городскую и сельскую?
– В городе тыщи ребят играют тяжелый рок! Почему?
– Тяжелым роком легче овладеть, – улыбнулся Петельников.
– Так вы бьете хэви метал? – уже чуть не бросился на него парнишка, наконец-то дорвавшись до зримого и близкого противника.
– Отнюдь. Я предпочитаю классику, но мир наполнен многими и разными звуками.
– Гордитесь, что любите классику, – заметил руководитель. – Любить классику легче, чем эстраду.
– Разве? – не поверил Петельников.
– Классика нами впитана вместе с молоком матери, как нечто прародительское. Она как бы жила всегда, она вечная, она не развивается, она лишь трактуется. А эстрада – это новообразование, это беспрерывные поиски, движение, мода… Поэтому хаять ее проще простого.
– Товарищи, – запротестовал оперативник, – я эстраду не хаю. Я сказал, что люблю музыку классическую.
– А песню? – спросила одна из девушек.
Петельников понял, что это допрос. Возможно, что от его ответов будет зависеть судьба Грэга. Но подстраиваться он не намерен.
– В современной песне мне частенько мешают слова.
– Есть же первоклассные поэты, – вроде бы обиделась девушка, и Петельников догадался, что она певица.
– Хотите послушать жуткую историю? – предложил он.
– Из вашей уголовной практики? – хихикнула вторая, дивясь странному переходу на другую тему.
– Однажды в моей квартире случился пожар. Огонь бушует, как в домне. От жара лопаются стекла, трещат стены, рушится кровля, горит на мне одежда… Но это все пустяки, по сравнению с тем пожаром любви, который бушует в моей груди…
Все засмеялись, догадавшись, что он пересказал слова песни. Петельников незаметно порадовался: может быть, он еще выиграл полраунда? Но дознание есть дознание, и вопросы сыпались отовсюду:
– Ваш любимый композитор?
– Чайковский, Моцарт и Бах.
– Случаем, не знаете, сколько кантат написал Бах?
– Двести двадцать.
– Ваше самое любимое у Баха?
– «Каприччо на отъезд возлюбленного брата», – сказал Петельников ради красного словца, ради оригинальности названия.
– Под музыку можете работать?
– Представьте себе, могу.
– Значит, вы ее не слышите?
– Наоборот: чем тоньше музыка, тем больше конкретных идей приходит мне в голову.
– Как вы относитесь к Высоцкому?
– Как к великому человеку.
– Потому что он сам писал стихи, музыку и сам исполнял?
– Потому что сумел выразить боль своего времени. Потому что был народным артистом, которого слушал и рабочий, и ученый, и подросток, и преступник. И еще: он своим пением мужчин приобщал к мужеству.
– Такой вопрос: преступность и музыка?
– Чем больше хорошей эстрады, тем меньше преступности.
– Вы это серьезно?
– Конечно. Когда развлекаются, то не пьют и не хулиганят.
– Ваша самая любимая группа?
– «Плазма».
Сперва они засмеялись, а затем пошел такой шум, будто здесь пили вино, а не кофе с печеньем. Разогретые своими же вопросами, музыканты позабыли про гостя, про серьезность, про бороды и усики, глотали чашками кофе и кричали так, что эти самые бороды дыбились намагниченно, а комбинезоны мешали размахивать руками. Оперативник смотрел на них с радостью: творческий и честный коллектив. Вот сюда бы всех шатровых… Впрочем, еще с Грэгом неясно.
Но тут же Петельников понял, что судьба Артиста решена, потому что руководитель поершил бородку и спросил вполголоса:
– А он нас не обворует?
14
Он дышал в три приема, как учили йоги. И рекомендовали утром, сразу после сна, сосредоточить свою мысль на чем-нибудь одном, на каком-то несуетном предмете. Леденцов выбрал десятикилограммовую гантелину, спокойнее ее ничего на свете не было. Он делал зарядку, стоял на голове, принимал душ, думая лишь об этом чугунном снаряде. Но шаровидные култышки в его сознании делались резиновыми, становясь то вытянутой головой Бледного, то лобастым кругляшом Шиндорги. И волевая мысль, Заслоненная этими марионетками, перескакивала на случай с сигаретой…
Ребята не хотели быть хорошими. Вернее, стеснялись. Почему? Почему плохим быть менее стыдно, чем хорошим? В чем тут тайна? Не задать ли этот вопросик своему блокноту под названием «Мысли о криминальной педагогике, или Приключения оперуполномоченного Бориса Леденцова в Шатре».
Но его позвали пить кофе.
Людмила Николаевна по воскресной привычке просматривала за завтраком журналы, листая какой-то иностранный ежемесячник. Ее смешок удивил: что может быть веселого в рефератах по биологии?
– Боря, для тебя. В моем свободном переводе… Так, существует множество теорий преступности. В том числе и биологическая, которая утверждает, что преступления совершают люди, имеющие сорок семь хромосом. Надеюсь, ты знаешь, что у человека их сорок шесть?
– А не тридцать две?
– Боря, это зубов тридцать два. Так, дальше… Известный борец… Пожалуй, громила. Известный громила Пит Чауз, отбывающий девяностодевятилетнее заключение – боже! – эту теорию опроверг. У него ровно сорок шесть хромосом, как у нормального человека. Вот смешное… Когда исследовавшие его ученые рассказали про теорию, Пит Чауз ее одобрил и сказал, что все верно: у него сорок семь этих самых хромосом. На вопрос ученых, откуда ему это известно, Чауз сказал: «За свою жизнь я ухлопал ровно сорок семь несговорчивых типов».
Леденцов слушал вполуха, даже не усмехнулся. А что, если теория верна? И у всех этих Бледных, Шиндорг и Грэгов по сорок семь хромосом? Тогда хоть лопни, а Шатра не разогнать. Нет, теория глупа: ему были известны пропащие подростки, которых теперь не узнать. Скажем, Генка-дух. За импортный диск маму не пощадил бы. А теперь Геннадий Михайлович Духов, изобрел тележку-самокатку для садоводов.
– Боря, сотрудников уголовного розыска обворовывают?
– Плох тот сотрудник, которого можно обокрасть.
– Значит, ты плох, Боря.
Он глянул на нее непонимающе. Она пила кофе, как всегда, с каким-то артистизмом, будто ее тайно снимают для кино: голова с тяжелыми каштановыми волосами слегка откинута, спина пряма, щеки голубоваты даже после душа, чашечка поднята высоко и любовно.
– Боря, нас обокрали.
– Как?
– Триста рублей из шкатулки…
– Сто пятьдесят завтра верну.
Завтра он выходил на работу. Половину ущерба взял на себя Петельников. Идти за денежным возмещением к руководству они не решились.
– Боря, я не прошу вернуть. Если тебе нужно…
– Деньги пошли на одно оперативное мероприятие.
– О, мы финансируем работу милиции?
– Мама, сколько ты скупила для лаборатории на свои деньги белых мышек, кошек и разных там морских свинок?
За это непочтительное напоминание его послали на рынок за картошкой, снабдив двумя сумками на пять килограммов каждая. И советом: купить рассыпчатой, с песчаных, лучше всего с новгородских, земель. Размяться он был не прочь, да и думать это не мешало.
Все-таки почему ребята стыдятся своих хороших порывов? Он же видел, как они мучились болью отличника, чужой болью. Почему им хотелось казаться более жестокими, чем они были на самом деле? И опять-таки, почему плохим быть не стыдно, а хорошим стыдно? Тут какая-то глупая загадка, кособочившая человеческие отношения, ибо добро есть добро, как и свет есть свет.
На рынке Леденцов сразу пробежал в картофельный ряд. Зимой тут лежали унылые груды, вся картошка была одного серого тона. Сейчас неокрепшая кожура имела свой цвет и даже оттенки. У каждой хозяйки интересные клубни. Розовые, продолговатые, ровненькие, как отполированные; круглые, вроде бы сиреневые, и такой яркости, словно их окунули в чернила да еще чуть-чуть прибавили серебристого блеску; маленькая и беленькая с кожицей-пленочкой, которую и чистить не надо; громадная, желтая, будто уже заправленная сливочным маслом, поэтому даже на вид сытная… К этой, к сытной, он и подошел.
– Это картошечка? – на всякий случай спросил Леденцов, озадаченный ее размерами и сливочной желтизной.
– Неужели апельсины?
– А чья?
– Моя и есть.
– Вернее, из какой земли?
– Так со своего огорода.
– Точнее, из каких мест?
– Новгородская.
Ему и велено купить новгородской, рассыпчатой. Десять килограммов, чтобы хватило надолго.
На улице, при скорой ходьбе сумки тяжелели. Он намеревался, как и было задумано, нестись с ними до дому, но подвернувшийся трамвай соблазнил. Леденцов угнездился на площадке, сразу вернувшись к прерванному размышлению, не отпускавшему его…
Коли стыдно быть хорошим… Но это же тупик! Коли стыдно быть хорошими, то какими остается быть? У них нет положительного идеала, даже самого завалященького, а тогда им некуда и двигаться. К кому, к чему? Черти парнокопытные! Шиндорге запугивать первоклашек не стыдно, Бледному выражаться при Ирке не стыдно, Грэгу не уступить места и положить гитару женщине на колени не стыдно, Ирке не по-девичьи хлестать вино и ходить распустехой не стыдно. А показать сострадание к чужой боли…
Подросток лет тринадцати сидел крепко и угрюмо. Рядом стояли две пожилые женщины. Одна смотрела в потолок с таким видом, будто сидеть ей век не хотелось; вторая разглядывала мальчишку, как заползшее в трамвай насекомое. Но обе молчали. Леденцову захотелось подойти и огреть мальчишку картошкой – новгородской, рассыпчатой. Не из таких ли мальчуганов проклевываются шатровые петушки?
Трамвай остановился. Леденцов нехотя, словно что-то здесь не доделал, вывалился на асфальт. Приехал и мальчишка.
– Гражданин, можно вас? – остановил его Леденцов.
– Чего?
– Ответь мне на один интимный вопрос.
– Домой надо…
– Скажи: у тебя протез?
– Какой протез?
– Деревянный, алюминиевый, пластмассовый… Короче, у тебя костяная нога?
– Нет…
– Может, плоскостопие или колченогость?
– Зачем…
– Ранен, контужен?
– Не контужен.
– Ага, значит, болен.
– Чем болен?
– Мало ли чем. Грипп, коклюш, свинка, а?
– Не болен.
– Ага, значит, устал.
– Чего вы ко мне прицепились?
– Тогда ответь мне, как мужчина мужчине: почему ты не отлип седалищем от места и не уступил его женщине, у которой наверняка и ноги болят, и грипп есть, и усталость лошадиная? А?
Мальчишка мгновенно насупился. Выходило, что к нему не бездельно пристал молодой рыжий парень, а остановил взрослый за допущенную провинность.
– Не знаю, – промямлил он, разглядывая асфальт.
– Ведь тебе что сидеть, что стоять. Так?
– Ну, так.
– Почему же не уступил?
– Не знаю…
– А ты подумай.
Со стороны их могли принять за братьев: старший отчитывает младшего, например, за то, что тот не хочет взять одну из тяжелых сумок. Уже прошли два трамвая, уже люди намекающе их поталкивали.
– Стыдно, – вдруг сказал мальчишка.
– Стыдно уступить место? – не поверил своим ушам Леденцов.
– Угу.
– Стыдно поступить хорошо?
– Все будут смотреть…
– Впредь не стыдись, – рассеянно отпустил его Леденцов.
Совпадение поразило: его подопечные тоже стеснялись добрых дел. Неужели все подростки такие? Но он вспомнил свою школу, где умных уважали, хороших любили. Возможно, разгадка лежала где-то в сравнении Шатра и его школы. Сосредоточиться мешали тяжелые сумки.
Дома он прошел в свою комнату, сел на диван и включил тихую задумчивую музыку. Педагогические сочинения ждали его строго и уже вроде бы нетерпеливо. В них есть ответы, там все есть…
Неожиданно припомнилось, как он выступал в ПТУ. Была встреча молодых работников милиции с молодыми рабочими. Он рассказал про свою работу и предложил задавать вопросы. Их не оказалось. Он ударился в воспоминания острых случаев из практики. Ни одного вопроса. Тогда Леденцов подбросил «клубнички» – про трупы, про заглоченные бриллианты, про насильную любовь… Вопросов не было. Так бы и тянулось, не осени его, что он не с беседой выступает, а элементарно перед ними выпендривается. После вечера педагог ему объяснил: «Вопросов они не задавали, потому что стесняются выглядеть умными».
Мама звала обедать…
Новгородская картошка развалилась на куски и желтела в тарелке почти с мелкокристаллическим блеском. Ее парок тревожил ноздри; впрочем, призывно пахла и селедка, которую Людмила Николаевна вымачивала таким способом, что та походила на анчоусы. Но и вкусная еда не отвлекала Леденцова от мыслей. Он рассказал про мальчишку в трамвае.
– Очень даже объяснимо, – не удивилась Людмила Николаевна.
– Если только с биологических позиций…
– С психологических, Боря. Представь, что в трамвай вошла женщина и все мужчины вскочили. Не сомневаюсь, встал бы и мальчишка. Но ведь все сидят. Выходит, что подняться надо ему одному, то есть выделиться из всех. Проявить индивидуальность. Боря, на это и многие взрослые не способны.
– Почему?
– Психологическая сила толпы.
– Что-то я не верю в эту силу…
– Не знаешь, что многие люди живут не как им подсказывает разум или желание, а стараются жить, как все? Не слышал, что трудно быть самим собой? Я имею в виду человека с индивидуальностью.
– Совсем не трудно, – вспомнил Леденцов капитана Петельникова, ярче которого людей он не встречал.
Психологию на юрфаке сдавать еще предстояло. Видимо, наука зыбкая и парадоксальная. Всем известно, что нужна воля, чтобы удержаться от плохих дел. Но вот мама доказала, что силой воли спасаются и от хороших. Как же так?
И, словно уловив его недоумение, Людмила Николаевна улыбнулась хитренько. Леденцов смотрел на нее, перестав жевать селедку, которую, впрочем, можно было и не жевать, ибо во рту она таяла.
– Боря, если бы ты выбил соседское окно, ты бы признался?
– Мам, стекол я даже в детстве не бил.
– Допусти.
– Конечно, признался бы.
– А вот в прошлом месяце ты менял проводку у старушки в шестой квартире… Воскресенье ушло. Почему же назвал себя электриком из жилконторы?
– Иначе бы она отказалась от помощи.
– Застеснялся хорошего поступка?
– К чему себя выпячивать…
– Вот и мальчишка в трамвае не стал выпячиваться.
– Я стеснялся не поступка, а благодарности.
– Так ведь тебе не двенадцать лет, и ты работник милиции. Кстати, эта бабушка до сих пор убеждена, что ты электрик. Когда приезжаешь на милицейской машине, она полагает, что тебя привозят из вытрезвителя.
Леденцов перестал есть… Уж коли подростку в трамвае не совладать с психологической силой, в общем-то, хороших людей, то каково ребятам в Шатре? Друг перед другом-то? Их надо лишить обоюдного тока дурных сил, разобщить, расшвырять по разным и хорошим коллективам… Надо? Но ведь он для этого и заслан в Шатер. Выходит, капитан все это знал: и про психологию, и про подростковую неуверенность, и про мальчишку в трамвае.
Леденцову захотелось посоветоваться с матерью, уж коли Петельников выдал их тайну. Рассказать про отличника, про сигарету, про испуг самих мучителей… И представил, как от холода побледнеет мамино лицо, дрогнут тонкие пальцы и голос высохнет до шепота. Он вздохнул, и вроде бы бессвязные слова вырвались сами:
– Чем их задеть, что в них искать?..
Но Людмила Николаевна поняла.
– Боря, ищи в них душу.
– А душа есть у всех?
– Непременно.
– И у негодяев, и у преступников?..
– Только она глубже спрятана.
Леденцов глянул на часы и встал.
– Ты куда?
– Искать глубоко спрятанные души.