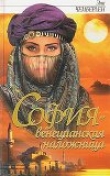Текст книги "Тысячелетняя ночь"
Автор книги: Софья Радзиевская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Глава XXIX
– Ни слуги, ни стража – не помощь нам. Проклятые скоты улепётывают при одном только имени шервудского разбойника, а если и посланы они в поход, побожусь, нарочно путают следы и не находят его. «Робин Гуд – защитник всех угнетённых», – говорят и в душе своей питают дерзкие замыслы против законных своих господ и властителей. Клянусь моим мечом, пора с корнем вырвать заразу, иначе она распространится по всей стране! Недавно гнусный развратитель помешал милостивому шерифу свершить праведный суд. Переодетый, с сообщниками вырвал он на базарной площади из рук палача двух братьев-преступников: один из них убил оленя в королевском лесу, второй пожаловался на своего лорда и благодетеля. Примерное наказание должны были получить они, а вместо того уведены в леса на вольную жизнь и разбой. И народ на площади кричал им вслед: «Много лет живи, наш любимый Робин!» Просто свет перевернулся!
Взволнованный непривычно длинной речью, лорд Уолтер Бромлей, посланник шерифа Ноттингемского, откинулся на спинку кресла и освежил себя большим глотком вина из высокого кубка венецианской работы. В этом занятии был он искусен больше, чем в разговоре, и мало имел себе равных. Внимательно слушавший хозяин замка не замедлил последовать хорошему примеру. Кубок, который держал он в волосатой руке, был украшен такой искусной резьбой, изображавшей сцену охоты на кабана, что гость, наклонившись, засмотрелся на него.
– Говорят, – сказал насмешливо хозяин, – что голова этого кабана похожа на мою. – И при этом он издал такой дикий хриплый звук, что гость, вскинув на него глаза, поспешно отвернулся. Некрасив был сэр Гью Гисбурн, а в припадке весёлости становился поистине ужасен. Смущение гостя ещё больше развеселило его: он любил забавляться людской растерянностью.
– Так как же ты полагаешь: можно справиться с безбожником? – спросил он через минуту, поглаживая волосатой лапищей резную кабанью морду.
– Можно, – поспешно отвечал гость. – В поединке – один на один. Проклятый разбойник храбр и ловок, в этом ему нельзя отказать. И, говорят, стоит в шервудском лесу, на перекрёстке двух дорог, прокричать ему вызов на бой, как он является один и бьётся честно.
– Сколько? – спокойно уронил сэр Гью и потянулся к кубку.
– Тридцать золотых фунтов обещает милостивый шериф за голову разбойника и вдвое за живого, чтобы можно было четвертовать его в Лондоне на площади перед тюрьмой, – отвечал посланец, несколько смущённый. Он и сам был не слишком разборчив в вопросах чести, но нанимать знатного барона для убийства разбойника приходилось ему впервые.
– Мало! – коротко ответил Гью Гисбурн и отодвинул кубок. – Мало – за то, чтобы благородный рыцарь скрестил меч с подлой голытьбой.
– Но он сам благородного рода, добрый сэр, – торопливо заговорил сэр Уолтер. – Клянусь моим мечом. До казни придётся на площади перед Тауэром лишить его графского титула. Ибо, как ни горько, но богомерзкий выродок – барон Фицус и последний граф Гентингдон. Казнь его была бы…
Но тут посланец шерифа впервые в жизни почувствовал, как волосы на его голове зашевелились и стали дыбом. Не окончив речи, съёжился он на своём кресле и рука его невольно потянулась к висевшему у пояса кинжалу – так страшен стал его собеседник. Гью Гисбурн приподнялся, опираясь на ручки кресла, и наклонил голову, будто готовясь броситься на кого-то. Тонкие губы громадного рта искривились, и жёлтые клыки на бескровном землистом лице заблестели ярче, чем тусклые глаза, спрятанные под густыми нависшими бровями. Одежда из лошадиной шкуры, на которую и раньше изумлённо поглядывал гость, казалось, вдруг срослась с его телом, превратив его в невиданного зверя. Он выпрямился и повернулся к окну так резко, что грива и хвост метнулись у него за спиной, окутав плечо его и бок чёрными волосами. Так стоял он, протягивая руку к окну, туда, где на горизонте, на высокой скале над рекой, краснела острая крыша высокого замка.
– Я нашёл его! – торжествующе воскликнул он скрипучим воющим воплем, гораздо более подходящим к его облику, чем человеческий голос. – Я нашёл его! И… я принесу его голову на твою гробницу, Элеонора!
Собеседник не выдержал и тоже вскочил.
– Добрый сэр, что говоришь ты? – воскликнул он, задыхаясь и обегая кресло таким образом, что оно стало между ним и хозяином.
Но Гью Гисбурн уже пришёл в себя, внезапный взрыв сменился каким-то сосредоточенным злорадством.
– Передай достоуважаемому шерифу, сэр Уолтер, что я согласен, – отрывисто проговорил он. – Согласен, но с условием, – и, немного помедлив, добавил: – Шериф получитего. И скоро. Но… без головы.
С этими странными словами он опять повернулся к окну.
Простоватый и недалёкий рыцарь Уолтер Бромлей не выдержал: оглядываясь и запинаясь, забормотал он, что ему-де по неотложному делу необходимо срочно покинуть гостеприимный замок любезного хозяина.
– Клянусь моим мечом – необходимо, – бормотал он, судорожно дёргая и крутя седую свою бороду.
Не оставить гостя ночевать, отпустить его без обеда после пары кубков вина было неслыханным нарушением законов гостеприимства. Но, казалось, хозяин горел таким же стремлением отделаться от гостя, как гость – покинуть мрачные своды, увешанные странным необычным оружием. И потому прощание было коротким и удивлённые слуги сэра Уолтера со вздохом должны были завязать пояса, уже распущенные в расчёте на обильное угощение. Но и они, хотя в дороге пришлось утолять голод запасами из седельных сумок, не очень-то жалели о том, что не остались на ночлег.
– По правде сказать, – с набитым ртом проговорил весёлый и румяный оруженосец Том и, обернувшись на ходу, показал рукой на замок, казалось, мрачно наблюдавший за ними насторожёнными бойницами стен, – в этом чёртовом гнезде столько христиан сложили свои бедные головы, что лучше переночевать в харчевне у брода. Кто их знает, чего у них намешано в их угощения? Не обернулись бы мы, отведавши их, кошками или дикими совами! Сам рыцарь-то, говорят…
– А чей это замок вон там, слева? – прервал хозяин его разглагольствования.
– Как не знать, – охотно отозвался весёлый Том, довольный случаем похвастать своими сведениями. – Перевозчик рассказывал, это графство Гентингдона. Последний-то граф умер, наследников нет, и замок…
– Понятно! – сэр Уолтер энергично взмахнул рукой, поймав недостающую нить размышлений. – Соседи не поделили чего-то и крепко повздорили. Но чем они могли так прогневать этого сатану в кобыльей шкуре? Гроша не дам за шервудского молодца, если за его головой охотится этот воплощённый дьявол. Можно, видно, было шерифу обойтись и без тридцати фунтов. А уж половину-то я мог спокойно положить в свой карман, клянусь моим мечом! – И, ещё раз оглянувшись на высокую красную крышу, исчезавшую за поворотом, он пустил коня вскачь, торопясь покинуть узкую, так пригодную для засады, тропу.
– Одно могу сказать, почтенный сэр, – рассказывал лорд Уолтер на другой день за пышным обеденным столом гостеприимного шерифа, – прикажи мне только хоть сам милостивый наш король ещё раз сунуть нос в это разбойничье гнездо, я попрошу его найти другого посланца… Клянусь моим мечом!
И много потребовалось густого и сладкого испанского вина, пирогов с дичью и жареной оленины, чтобы развеселить расстроенного поездкой благородного барона.
Глава XXX
Глухой дребезжащий звук колокола нарушил спокойствие летней ночи. Жидкий и жалобный, он бился в закрытые ставнями окна и, проникая в глухую темноту монашеской кельи, назойливо вплетался в горькие и радостные сны всех, кто болею судьбы укрывался под этими тяжёлыми вводами.
Монастырь, такой старый, что самая память о его основании сохранилась лишь в старинных рукописях его книгохранилища, видом своим менее всего походил на мирную обитель, посвящённую прославлению божию. Ров, полный поды, подъёмный мост и грозные зубчатые стены сделали его скорее похожим на крепость, нежели на божий храм.
Внутри, на первом дворе располагались дома и мастерские рабочего люда – плотников, пекарей, золотильщиков, резчиков по дереву, маляров, портных, скотников, конюхов, птичников, крольчатников, даже мастеров по откорму ежей, до нежного мяса которых были особенно охочи святые отцы. Казалось странным – какое количество мирских работников необходимо для расчистки пути к небесному блаженству скромным служителям божиим. Но о таких вещах опасно было и думать, а говорить – тем паче. Святая церковь располагала многими надёжными средствами для искоренения вольных мыслей в умах мирян и духовенства: ходили слухи, что глухие норы-тюрьмы в подвалах Ньюстедского аббатства были не менее прочны, чем в любом рыцарском замке и… населены не менее плотно. А потому монастырские рабы и крепостные старались роптать потише: для чутких ушей его преподобия настоятеля монастыря малейшая жалоба была непереносима.
Удары колокола продолжали звучать всё настойчивей. В одной из келий высокий худой монах, склонившийся было над заваленным книгами столом, поднял голову, провёл рукой по покрасневшим глазам и прислушался. Его лицо хранило ещё отблески молодости и красоты и густые чёрные волосы упрямо вились над бледным лбом. Но глубокие складки около рта и на щеках и печальное выражение чёрных глаз говорили о трудно прожитой жизни.
На столе оплывающая восковая свеча в тяжёлом железном подсвечнике освещала колеблющимся пламенем толстую книгу в кожаном переплёте, пузырьки и баночки с красками и кисти в высоком резном стакане. Одну из них, тонкую, блестевшую золотой краской, монах ещё держал в руке.
– Странно, – пробормотал он. – Или свечник ошибся, или звонарь прозвонил слишком рано. – И он устремил взгляд на свечу. Широкие чёрные и красные полосы покрывали её: восемь полос – значит горение её было рассчитано на восемь часов. Эта остроумная выдумка в век, когда даже песочные часы считались роскошью, помогала в тиши монашеской кельи довольно сносно вести счёт времени.
Монах перевёл внимательный взгляд на заглавную букву на листе пергамента, сиявшую тонким красным с золотым узором, и, вздохнув, отложил кисть.
– Жаль, – проговорил он, – нужно торопиться. Отец Бенедикт зорко следит за теми, кто опаздывает к службе. Однако после службы утомлённая рука уже не будет так тверда…
Он задул свечу и, ощупью нажав ручку двери, вышел в длинный узкий коридор, полный спешащих чёрных теней. Многие из монахов несли в руках свечи, загораживая их ладонью от движения воздуха таким образом, что беглый пляшущий свет падал им на лица. Чёрная одинаковая одежда равняла их, высоких и низких, толстых и худых. Но выплывающие из мрака освещённые лица были до такой степени различны, что монах-художник невольно приостановился, не в первый раз с острым интересом наблюдая это молчаливое шествие. Немало лиц было бледных, аскетически измождённых постом и молитвами. А порой пляшущее пламя озаряло румяные щёки, тройной подбородок, заплывшие жиром глазки…
Он стоял, прижавшись спиной к холодной каменной стене, и чёрные фигуры плыли мимо бесконечным безрадостным потоком. Неожиданно поднесённая к лицу его свеча заставила монаха вздрогнуть. Это был послушник.
– Отец Бенедикт приказал тебе прийти к нему после утрени, брат Ульрих, – сказал он и, поклонившись, добавил шёпотом, – неладное они задумали, Улл: хотят, чтобы ты помог им поймать кого-то, только не сумел разобрать – кого. И сейчас совещаются. Я малость послушал было под дверью, да отец Гугон высмотрел и наградил подзатыльником. – Молодой послушник деланно рассмеялся и поднял тревожные глаза. – Будь твёрд, Улл, – шепнул он. – А теперь, хочешь, вместе пойдём? Если опоздаем – беда. – И две тонкие чёрные тени присоединились к остальному шествию.
В темноте было незаметно, что бледное лицо Ульриха ещё больше побледнело, чёрные глаза его загорелись, а губы сложились в упрямую складку.
Между тем в просторной келье настоятеля Ньюстедского аббатства совещание было в разгаре.
– Я говорю тебе, досточтимый аббат, это – единственное средство избавиться от мошенников, – Арнульф де Бур резким движением отодвинул тяжёлое кресло и встал из-за стола. – Они укрепились в Шервудском лесу, как в своём государстве: каждая тропинка в нём ведёт к какой-либо проклятой тайной норе-пещере или подземелью, откуда они сыплются, как крысы из мешка. Его милость шериф давно уже потерял сон и терпение, а сейчас ему угрожает опасность распроститься с милостями нашего возлюбленного короля, если только ты, почтенный аббат, не поможешь нам.
Небольшой человек в монашеской сутане, сидевший у стола, почтительно наклонил голову при имени короля.
– Моё самое горячее желание – доставить удовольствие сэру Ральфу, достопочтенному шерифу Ноттингемскому, – проговорил он ласково. – Если бы я раньше знал о том, кого укрывает кровля нашего благочестивого монастыря, я сам бы известил об этом его милость. Однако… – и тут аббат, кротко глянув на второго, роскошно одетого и тщедушного собеседника, сделал значительную паузу. – Однако вполне ли ты уверен, добрый сэр Эгберт, что глаза твои не ошиблись и сей служитель божий действительно приходится братом приспешнику нечестивого разбойника?
– Вполне! Вполне уверен! – резко ответил горбун и, не без труда выбравшись из глубокого кресла, нервно засеменил по келье – красный плащ так и взлетал на поворотах. – Много лет я их не видел, но проклятый монашек почти не изменился. Он не заметил или не узнал меня, но я-то хорошо рассмотрел это проклятое отродье и рад, что этим смог быть полезным почтенному шерифу.
Аббат молчал. Потянувшись к столу, он снял щипчиками нагар с оплывающей свечи в высоком серебряном подсвечнике. При этом обнаружилось, что широкий рукав его сутаны подбит золотистым шёлком, а белую пухлую руку обвивала в несколько раз тонкая золотая цепочка. На полном, даже одутловатом лице его трудно было бы найти следы изнурённости и упорных размышлений на духовные темы, небольшие тёмные глаза смотрели пытливо и подозрительно.
– Я в большом затруднении, достопочтенный сэр, – промолвил он и, сбросив нагар со свечи на стоявшее около неё серебряное блюдечко, положил щипцы и скрестил руки на груди. – В большом затруднении, – повторил он и покачал головой. – Не первый год брат Ульрих в нашем монастыре. Холодной дождливой ночью постучался он в наши двери и не сказал, кто он и откуда, но желал спасти душу свою в господе благочестивыми делами и молитвами. Он оказался не только лучшим переписчиком священных рукописей, но и умелым иллюминатором, красота его заглавных букв в красках и золоте поистине не поддаётся описанию. С тех пор монастырь наш приобрёл великую славу и сам король соизволил заказать нам роскошный требник для королевы. Много у Ульриха учеников, но ни один не сравнялся с ним в редком его искусстве. Что же делать нам, если он вздумает упорствовать?
Арнульф де Бур с презрением пожал плечами и, вновь опустившись в кресло, протянул руку к наполненному вином кубку.
– Мне ли учить тебя, почтенный аббат? Передают, что тюремщики Ньюстедского аббатства владеют уменьем заставить говорить и немого.
Отец Бенедикт покраснел, и его руки, сложенные на чёрной сутане, приметно дрогнули, но он быстро овладел собой.
– Мало ли что говорят злонамеренные языки, – спокойно проговорил он. – Вот если бы…
– Если бы что? – нетерпеливо и довольно бесцеремонно перебил его помощник шерифа.
– Если бы… – медленно повторил аббат, не отрывая взгляда от колеблющегося пламени свечи… – подождать немного.
– Какому дьяволу это нужно? – вскричал Арнульф де Бур, окончательно выйдя из терпения, и сердито оттолкнул от себя кубок. – Я достаточно ясно сказал тебе, почтенный аббат, что сам шериф…
Но аббат успокаивающим движением положил правую руку на бархатный чёрный рукав нетерпеливого гостя.
– Горячая кровь – признак благородной породы, – с тонкой улыбкой проговорил он. – Одну минуту терпения, благородный сэр. – Слегка откинувшись на спинку кресла, не выпуская из левой руки кубка, отец Бенедикт продолжал, пристально рассматривая тонкую его отделку. – Наш монастырь, как тебе известно, славится также искусными братьями-врачевателями. Целый сад засажен у нас целебными цветами и травами и многие страждущие находят у них спасение от бед своих. Брат Климент, самый сведущий в тайнах врачевания, сказал мне, что усердие брата Ульриха к письму и рисованию чрезмерно и не позже как через год глаза его не выдержат и вечная тьма спустится на них. Так вот… – аббат продолжал говорить, не поднимая глаз. – Не подождать ли несколько, уважаемый сэр Арнульф, и тем дать нашему монастырю возможность получить от брата Ульриха всю пользу, какую его благочестивое искусство может нам доставить? Когда же от неумеренного рвения зрение его ослабнет… тогда и допрос можно будет вести смелее. Потому что при всей его кротости вряд ли он легко согласится выдать своего нечестивого брата.
Наступило молчание, прерываемое лишь лёгким потрескиванием оплывающей свечи. Наклонившись вперёд, крепко взявшись за поручни крытого зелёным бархатом кресла, сэр Арнульф устремил пристальный взгляд на спокойное румяное лицо аббата.
– Так, – наконец промолвил Арнульф де Бур и откашлялся, прочищая внезапно охрипшее горло. – Клянусь всеми болотными чертями и их двоюродной бабушкой, мы, солдаты, грубы и жестоки, но, святая пятница, чего стоит наша жестокость перед кротостью служителя церкви!
Густая краска, внезапно покрывшая полные щёки аббата, была единственным доказательством того, как глубоко задело его замечание гостя, но в эту минуту послышался лёгкий стук в дверь.
– Кто там? – с приметным облегчением спросил отец Венедикт.
– Недостойный раб Господа, Ульрих. – последовал тихий, но твёрдый ответ, и высокая фигура со сложенными на груди руками склонилась в глубоком монашеском поклоне, а затем, войдя в круг света, неподвижно в нём остановилась. – По твоему приказанию, – добавил сдержанный голос.
Приподнявшись в кресле, помощник шерифа внимательно рассматривал вошедшего: тот стоял с уставно скрещёнными на груди руками и опущенными глазами. С самому ему непонятным волнением Арнульф де Бур отметил, что на этом бледном лице веки были красноваты и словно слегка воспалены. При виде горбуна, удалившегося в полутёмный угол комнаты, лёгкая судорога прошла по лицу монаха, тотчас же принявшему прежнее выражение спокойной замкнутости и решимости.
Помощник шерифа нетерпеливо кашлянул, и аббат, несколько торопливо, заговорил:
– Брат Ульрих, – сказал он строго, – придя под нашу святую кровлю, ты утверждал, что не имеешь ни матери, ни отца и самый отчий дом твой тебе неизвестен.
Монах, не поднимая глаз, молча наклонил голову.
– Но ты обманул нас, – с хорошо разыгранным нарастающим негодованием продолжал отец Бенедикт и, взглянув вдруг случайно на кубок, который всё ещё держал в руке, торопливо отставил его подальше. Ты скрыл, что брат твой великий грешник перед господом, проливающий кровь невинных, волк в господней овчарне.
Ульрих вдруг поднял глаза и в упор встретил бегающий взгляд настоятеля. Сделав шаг вперёд, он поднял руку.
– Остановись, преподобный отец, – сказал монах решительно, – выслушай меня. – И прежде, чем ошеломлённый его дерзостью настоятель смог вымолвить хоть одно слово, он продолжал: – Мой брат – не волк в господней овчарне. Он добр и милостив к страждущим и восстаёт против их обидчиков. Но нам не дано вмешиваться в предначертания всевышнего. Потому я и удалился в нашу тихую обитель. Молитвами и смиренными моими трудами, надеюсь, я вымолил ему прощение, если путь его в мире неправеден.
Ульрих провёл рукой по лицу, и внимательный глаз помощника шерифа тотчас же углядел красноватое пятно под прядью его волос – след ранивших лоб покаянных земных поклонов.
Но щёки милостивого аббата в третий раз за вечер покрылись ярким румянцем, а глаза заблестели гневом.
– Ты обманул нас, – ещё раз повторил он, не обращая внимания на слова Ульриха. – Скрыв от нас преступления своего брата, ты сам сделался их соучастником. И за это святая церковь призывает тебя к ответу.
– Я готов, – монах с трудом подавил прорвавшуюся горячность, вновь скрестил руки на груди и опустил глаза. – Приму любую кару, какую угодно будет тебе наложить на меня.
На лице аббата появилось странное выражение.
– Клянись же мне в этом, – промолвил он и, быстрым движением высвободив из-под сутаны небольшой золотой ящичек на тонкой золотой цепочке, протянул его монаху. – Здесь, в этой ковчежке, заключена частица древа святого креста господня, – добавил он.
Ульрих быстрым движением приблизился и, взяв в руки реликвию, опустился на колени.
– Клянусь, – проговорил он, – со смирением и кротостью выполнить епитимью, которую ты соблаговолишь наложить на меня, досточтимый отец Бенедикт, так как (тут тихая и скорбная улыбка промелькнула на его губах) каждое новое испытание, истощая бренное тело, рвёт цепи, привязывающие к земле, и приближает меня и бедного моего брата к небесному блаженству.
Аббат пристально продолжал наблюдать за ним, сохраняя всё то же странное выражение лица, которое так безотчётно неприятно действовало на помощника шерифа.
– Да не тяни ты, святой отец! – воскликнул он наконец вскочив, зашагал по комнате. – Скажи ему всё… и дело с концом.
Аббат спокойно наклонил голову.
– Святая церковь принимает твою клятву, сын мой, – проговорил он, – и повелевает тебе во искупление греха своего… указать досточтимому сэру де Буру местонахождение твоего преступного брата, которое тебе, несомненно, известно.
В комнате воцарилось тягостное молчание. Некоторое время Ульрих оставался неподвижен, затем, не вставая с колен, он протянул руку к аббату:
– Разреши, – сказал он тихо, – разреши меня от моего обета, святой отец. Человеческая душа не может этого вынести и благость божия не может того требовать.
Лоб монаха покрыли крупные капли пота, голос был спокоен, но самый звук его показался помощнику шерифа страшнее крика.
Однако отец Бенедикт был непреклонен, он уже безукоризненно и, похоже, с удовольствием, играл навязанную ему роль. Величественно поднявшись с кресла, указал рукой на дверь.
– Иди, заблудший брат, – сказал с пафосом, – иди и верни себе нашу милость и господне прощение.
Медленно Ульрих поднялся с колен. Глаза его были опущены, тонкая струйка крови показалась из закушенной губы.
– Если господь допустит, я готов, – тусклым голосом проговорил он и, отвесив низкий поклон, вышел.
Не в силах более сдерживать раздражение, Арнульф де Бyp упёрся тяжёлым взглядом в румяного аббата.
– Много я в жизни видел такого, чего лучше бы не видеть, и много делал такого, чего бы лучше не делать. Но эта наша затея гнуснее всего…
Горловой звук, похожий на клёкот, прервал его – и дальнем углу комнаты, утонув в глубоком кресле, смеялся горбун.
В эту минуту дребезжащий звук колокола возвестил окончание службы.