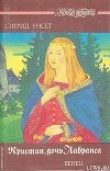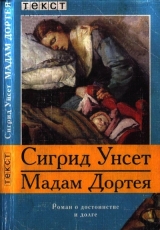
Текст книги "Мадам Дортея"
Автор книги: Сигрид Унсет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Ты возьмешь их с собой?
– Табор Сибиллы собирался идти на север долины, – не оглядываясь, ответил он. – К тому же ты знаешь, что зимой на путников было совершено несколько нападений. Если я и не встречу никаких бродяг…
Дортея замерла, чувствуя, что бледнеет. Если б ее Йорген не был так горяч!.. В прошлом году у него было столкновение с цыганами. Тогда они доставляли много неприятностей рабочим завода, и Теструп вместе с капитаном Колдом и несколькими молодыми рабочими, главным образом из немцев, заставил табор уйти подальше от завода. Крестьянам в соседних усадьбах это пришлось не по душе, они опасались мести цыган.
Теструп взял фляжку с коньяком и вытащил из вороха одежды серую крылатку.
– Зачем мне плащ? В такой ветер? Нет, повесь его обратно.
– Я думала… Может, его свернуть и приторочить сзади к седлу? Вдруг он понадобится тебе или кому-нибудь другому. Даббелстеен наверняка одет слишком легко…
– Опять ты со своим Даббелстееном! Да он не заслуживает даже… – Теструп рассмеялся. – Ну ладно, ладно, давай его сюда. Ах, Тея, Тея!
Увидев, что лицо жены покрыла смертельная бледность, он положил руки ей на плечи:
– Не теряй мужества, дорогая!.. Вот увидишь, завтра в это время мы соберемся здесь все вместе и посмеемся над нашими волнениями. – Он погладил ее руки и удержал в своих. Потом быстро поднял и поцеловал, сперва одну руку, потом другую.
Дортея улыбнулась, хотя и подумала: только не Даббелстеен, он-то, во всяком случае, не будет сидеть с нами и смеяться над своими волнениями. Но она знала: если ее сыновья вернутся домой целыми и невредимыми, горе этого чужого человека не сможет омрачить ее радость. Достаточно было одной этой неожиданной ласки, чего-то выходящего за рамки обычных добрых отношений между супругами, и уже никакое несчастье, если только с детьми все в порядке, не могло омрачить счастья Дортеи… Пока муж был рядом с ней…
– Нет-нет, не ходи со мной. Мне может посветить и Элен.
Дортея осталась на крыльце, она держала Фейерфакса за ошейник. Луна поднялась уже так высоко, что казалась совсем маленькой. Было светло, и ветер заметно утих. Дрожа от холода, Дортея ждала, пока они выйдут из конюшни: Элен с фонарем и Теструп, ведя под уздцы Ревеилле. Кобыла была норовистая, в последнее время на ней ездили мало. Дортея подавила в себе порыв броситься к мужу, проститься с ним еще раз и попросить его быть осторожным. Ему бы это не понравилось. Она держала собаку, которая громко лаяла и рвалась к хозяину, – лучше бы он взял собаку с собой. Вот он обернулся в седле, махнул ей, и Элен, скользя и разбрызгивая лужи, побежала отворять ворота.
Собака успокоилась и, гремя цепью, снова залезла в свою конуру, но Фейерфакс продолжал рваться и лаять. Дортея прислушивалась к стуку копыт и думала, как хорошо будет вернуться в дом и снять мокрые башмаки, ноги у нее были холодные, как лед. Наконец снова показалась Элен с фонарем в руке, и Дортея по звуку угадала, что Теструп уже выехал на раскисшую от ростепели дорогу.
2
Вильхельм очнулся от сна, закончившегося грохотом канонады. Стояла непроглядная тьма. Он откинул с вспотевшего и зудящего лица какие-то шерстяные тряпки, пропахшие конюшней, ощутил кожей холодный ночной воздух и обнаружил, что его окружает лес и что на небе светит луна.
Он сел, растерянный и продрогший, с него слетели последние остатки сна, но голова продолжала пылать. На груди у него лежал Клаус, теперь он тяжело повис на руках у Вильхельма. Во сне они с головой спрятались под попону, сейчас Клаус лежал на боку, нижняя часть его туловища была открыта, длинные ноги в сапогах поджаты, лежал он на каких-то досках.
Вильхельм обнаружил, что сидит в неподвижно стоящих санях, кругом сверкает снег и по обе стороны от дороги поднимается темный еловый лес. Громко бурлил полноводный ручей – сани стояли на небольшом мосту. Ручей сбегал из узкого распадка, нырял под мост и вырывался на покрытую льдом равнину, поросшую редким кустарником, – это было болото, лунный свет отражался в нем и серебрил кусты.
Вильхельм отодвинул брата в сторону и встал на колени. Бессознательно он прикрыл Клауса мешками и попоной. Он не имел представления о том, где они находятся и который теперь час, но не иначе, как была уже глубокая ночь.
Во рту у него был неприятный привкус, в груди жгло. Впереди в санях, прикрытые полостью, съежились два человека. Они храпели, но были неподвижны, как трупы. Борясь с растущим чувством страха, Вильхельм попытался собраться с мыслями.
Они находились на дне глубокой расселины, высоко в небе светила луна, маленькая и почти круглая, было светло и вместе с тем сумрачно. Позади дорога сбегала вниз по крутому склону, впереди – круто уходила вверх, в лес. Вильхельм понял, что проснулся оттого, что лошадь остановилась, а канонада ему приснилась, когда сани застучали по бревнам моста.
Мохнатая пегая лошадка стояла, склонив голову, и тяжело дышала, бока у нее ходили. Вильхельм, потягиваясь, пробрался вперед. Погладил лошадь и поговорил с ней.
– Вот что значит пить водку, – сказал он.
Ему помнилось небо с несущимися красноватыми облаками, его медная краснота отражалась в неровном льду озера, на котором ветер морщил лужи. Когда они вышли из трактира в Сандтангене, солнце, должно быть, уже зашло. Они полагали, что найдут попутчиков, которые довезут их до дому, так, во всяком случае, говорил Даббелстеен. Но Вильхельм не узнавал этой узкой расселины, он был почти уверен, что нигде по дороге между Сандтангеном и стекольным заводом не было такого места. Почему-то ему казалось, что лошадь шла на север.
Да и не на этих санях они выехали из трактира в Сандтангене, те были больше, и в них была запряжена рыжая кобыла. Ничего не понимая, Вильхельм повернулся к съежившимся на санях людям, но лиц их не было видно, а разбудить спящих он не решился. Да это было и невозможно – они спали так крепко, как спят только пьяные. Вильхельм догадался, что один из них Даббелстеен. Но кто же другой и как они здесь оказались? Он ничего не понимал.
Может, это и был тот человек, которого Даббелстеен хотел встретить в Сандтангене? Вильхельму помнилось, будто один раз они выходили из трактира и стояли у каких-то саней, он еще гладил мохнатую светлую лошадку. Значит, пьяный Даббелстеен сел и погнал лошадь куда глаза глядят, а они с Клаусом были так пьяны, что не обратили внимания, куда их везут. Кажется, из Сандтангена они выехали в лес. Но ведь, чтобы попасть домой, они должны были поехать через озеро на юг… Верно, они успели далеко уехать на север – солнце зашло в семь, а теперь, судя по луне, была уже полночь.
У Вильхельма сдавило горло и на глаза навернулись слезы. Ему захотелось разбудить Клауса. Самоуверенность никогда не изменяла брату – интересно, что этот храбрец скажет, когда обнаружит, в какое положение они попали, найдет ли из него выход?
Но Вильхельм тут же устыдился своих мыслей – ведь он старший. Ему было приятно сознавать, что теперь именно он должен придумать, как выйти из положения, и позаботиться о брате и этих двух пьяницах, что храпели в передке саней. Клаус тоже спал непробудным сном, он выпил больше всех. Когда Даббелстеен наконец решил, что им следует выпить, потому что они сильно продрогли во время долгой дороги, Клаус, не раздумывая, опрокинул в себя первую рюмку. Вильхельм же оказался не в состоянии залпом выпить целую стопку вонючей сивухи, он закашлялся, и у него потекли слезы. Сидевшие вокруг засмеялись, а кто-то похвалил Клауса – вторую рюмку тот выпил, уже как настоящий мужчина.
Ветер немного ослаб. Или так только казалось оттого, что они находились в расселине?
Страх и растерянность были столь мучительны, что Вильхельм невольно пытался прогнать все чувства, все мысли, кроме одной: что делать? Он не хотел думать о таинственных делах Даббелстеена, приведших к тому, что они очутились ночью в глухом лесу и он, Вильхельм, оказался единственным здравомыслящим существом среди этих мертвецки пьяных людей, спавших в санях. Они внушали ему чувство стыда – ведь он понимал, что их учитель имел какое-то отношение к блуду и убийству, совершенному где-то на севере долины. Однако связи этого события с их движением в ту сторону Вильхельм не уловил, это смущало его, и мысленно он время от времени возвращался к этой страшной тайне.
Как бы там ни было, сейчас следует выбраться из этого леса. Что подумали домашние, когда они не вернулись?.. Матушка, должно быть, тревожится за них. А отец рассердился. Что он скажет и как поступит с ними, когда они вернутся домой?..
Но Вильхельм не знал, сколь далеко уехали они от дома. Он не знал даже, где они находятся. Сейчас нет смысла поворачивать назад, лошадь, конечно, устала, но она пойдет к своей конюшне и найдет ее. Только бы добраться до людей, а там уж они придумают, как вернуться домой.
Вильхельм тихонько тронул вожжи и причмокнул:
– Но! Пошла, Пегашка!
Лошадь уперлась копытами в доски моста, дернула сани и пошла.
Вильхельм шел рядом и тихонько разговаривал с нею. Это успокаивало его самого. В начале зимы, до того как начались морозы, в долине было много волков. Слышал он и о грабителях – крестьяне нередко возвращались домой без денег, если им случалось ехать пьяными или в одиночку.
Каждый звук, чудившийся Вильхельму сквозь шорох леса и постукивание полозьев о камни, пугал его до дрожи. Он не без злорадства думал о том, как отец встретит господина Даббелстеена, когда они вернутся домой. А вдруг он откажет учителю от места? При этой мысли сердце мальчика сжалось, ему было жалко господина Даббелстеена и вовсе не хотелось расставаться с любимым наставником. Им еще ни с кем не было так интересно и весело, как с ним.
Время от времени лошадь останавливалась, и Вильхельм позволял ей перевести дух. Страшное одиночество, лунный свет, наводящий жуть, темный, шелестящий лес, крутой подъем в этой бесконечной неизвестности – Вильхельм с трудом дышал, вслушиваясь в шорохи и борясь с желанием заплакать, его так и подмывало броситься на спящих в санях людей, растормошить их, растолкать, крикнуть, чтобы они проснулись, – словом, вести себя, как ребенок. Он был голоден, ноги у него промокли и застыли, во рту пересохло, и все время к горлу подступала какая-то горячая отвратительная горечь. Вильхельм злился на Даббелстеена. О доме, о матушке, о сестрах и братьях он старался не думать. Из последних сил он держался за сани, сосал ледышку и приговаривал:
– Ну, ну, Пегашка!
Наконец подъем кончился. Дорога и дальше шла лесом, здесь, в укрытии густых елей, она была еще крепкая. Вильхельм забрался в сани, потеснив безжизненные тела спящих. Несмотря ни на что, он был доволен собою. Лошадь тянула хорошо, местами дорога шла под уклон.
Матушка… Верно, сейчас она ломает руки от страха за них. А они все удаляются и удаляются от нее. Но ведь он тут ни при чем. Конечно, ему не следовало пить водку в Сандтангене. Однако господин Даббелстеен настоял, чтобы они выпили, – иначе они захворают, сказал он. В том, что они пили, он, безусловно, признается матушке. Но ни слова не скажет ей о том страшном, о чем Даббелстеен говорил с Андерсом Эверли, это он знал точно. Вильхельму становилось нехорошо при одной мысли, что его домашние могут узнать об этом. Лучше уж прикинуться, что ему ничего ни о чем не известно.
Вильхельм нашел какую-то овчину и прикрыл ею колени. Ноги у него стали отогреваться, ступни он грел, засунув их между спящими. А вот руки совсем окоченели. Муфта Даббелстеена! Вильхельм вспомнил, что у учителя была с собой муфта, когда они вышли из дома. Кажется, с тех пор прошла вечность, новая волна боли нахлынула на Вильхельма при мысли о заснеженных, залитых солнцем полях, о том, как они с Клаусом катались с пригорков на санках, а длинноногий Даббелстеен, приплясывая, бегал за ними. У него был такой смешной вид – одновременно и щеголеватый и потертый – в старом сюртуке их отца и треугольной шляпе с меховым кантом на отогнутых вверх полях. Он бегал и махал им муфтой. Они собирались только спуститься в трактир Элсе Драгун – Даббелстеен надеялся, что кто-нибудь из возниц захватит его письмо с собой на север долины, письмо было к его матери. «Небось опять хочет клянчить у нее денег», – шепнул Клаус, и Вильхельм рассердился. Так говорить было некрасиво. Но Клаус никогда не понимал, что можно говорить, а чего нельзя.
Может, они и попадут к мадам Даббелстеен, подумал Вильхельм и приободрился. Он много слышал про нее. Говорили, что она писала проповеди для своего мужа. И что умела вызывать и заговаривать кровь. Вильхельму хотелось увидеть эту необыкновенную женщину…
И тут же он вспомнил о матушке: как она, верно, тревожится сейчас за них!.. Ему вдруг сделалось нестерпимо горько, что он едет, сам не зная куда, что ночь так ужасна и что у него больше не осталось сил.
Вильхельм наклонился и потряс пьяных, спящих у его ног. Черт бы их побрал! Незнакомец был бородатый, борода у него намокла и слиплась комками, у Даббелстеена из угла рта текла слюна, он был весь мокрый. Вильхельм брезгливо отдернул руку и вытер ее о попону – нет, уж пусть лучше спят. Однако он не удержался и, усаживаясь поудобней на облучке, пнул их ногой. Это придало ему мужества. Свиньи! Ему приходится одному отдуваться за всех.
Муфту Вильхельм нашел на дне саней. Он мог спокойно спрятать в нее руки. Лошадь все равно слушалась только себя.
Теперь дорога шла по ровному месту, заснеженная земля сверкала в лунном свете. Низкие березки и ивы отбрасывали короткие тени – это было болото. По краю болота сбились в кучку несколько строений, с южной стороны к ним подступали луга, черные и голые, здесь жил арендатор. На крыше сеновала была прибита елочка с рождественским снопом, растрепанным и белесым на фоне светлого неба с редкими далекими звездами. Лошадь трусила дальше, они опять въехали в лес. Вильхельму снова захотелось плакать. Он устал и закоченел…
Вдруг Вильхельм вздрогнул – должно быть, задремал, – сколько прошло времени, он не знал. Сани подпрыгивали и двигались толчками, лошадь изо всех сил сдерживала их. Дорога шла под уклон. Лес кончился, и Вильхельму открылась долина с большим селением. Он живо соскочил на землю, ухватился за сани и стал помогать лошади. От движения он почувствовал себя лучше.
Они находились еще высоко. Луна отодвинулась на север, освещая поросшие лесом склоны, далекие заснеженные вершины и заливая глубокую чашу долины мерцающим светом. На дне долины виднелись белые берега и черные полыньи реки, далеко на севере долина разделялась на две, Вильхельму почудилось в ней что-то знакомое. На северных склонах чернел лес с белыми заплатами небольших усадеб. На южных – карабкались вверх поля, снега на них не было, Вильхельм разглядел светлые русла ручьев, уже наполнявшиеся водой.
Лошадь, и Вильхельм вместе с ней, остановилась перед очередным подъемом. Он весь дрожал от нетерпения. Должно быть, это и есть главная долина. Значит, они скоро доберутся до какого-нибудь жилья и этой ужасной ночной поездке придет конец. На небе не было ни облачка, и ветер почти прекратился, это Вильхельм заметил только сейчас, остановившись и прислушиваясь к далекому шуму воды, доносящемуся сюда из спящей долины.
Было морозно, дыхание белым паром поднималось изо рта лошади. Под полозьями саней хрустел свежий лед. Они ехали вдоль изгороди – к северу от дороги тянулись поля, в окнах большого крестьянского двора отражался лунный свет, блестели светло-коричневые бревенчатые стены. Залаяла цепная собака, издалека ей откликнулась другая. Вдоль изгороди намело сугробы, сани ехали, накренясь. Вильхельм слышал, как тела спящих, подпрыгивая, стучат о доски саней, – поделом им, его это не тревожило. Наконец сани снова выровнялись, теперь они ехали через березовую рощу, по снегу скользили узорчатые тени. Потом дорога свернула в тень от пригорка, тоже заросшего березами; высоко над кружевными от инея кронами поднималась островерхая, крытая лемехом крыша со стройным шпилем, и сердце Вильхельма радостно подпрыгнуло: церковь в Херберге! Залитый лунным светом крестьянский двор, мимо которого они только что проехали, был один из дворов Херберга, а это означало, что к югу от моста должна лежать усадьба Люнде, где жила их бабушка. Вильхельм узнал эту местность, и искорки радости побежали по его окоченевшему, усталому телу. Он вспрыгнул на облучок – отсюда, насколько он помнил, дорога спускалась полого. Что, интересно, скажет бабушка, когда он под утро заявится к ней в Люнде и поведает о своих приключениях? Скажет, что он не дал маху, это уж точно. Мысленно Вильхельм уже начал рассказывать свою сагу о событиях этой ночи.
Выехав на тракт, мохнатая лошадка тоже приободрилась и побежала резвее. Однако когда Вильхельм свернул на дорогу, ведущую к мосту, ее прыти поубавилось – дом лошадки явно находился не в той стороне. На подъеме к Люнде Вильхельм, как мог, подталкивал сани сзади, они двигались с трудом. Лошадь совсем выбилась из сил, полозья то и дело скрежетали по камням. Вильхельм гневно поглядывал на свой спящий груз, наверное, следует сейчас же растолкать эту компанию, выбранить их, согнать с саней и заставить идти пешком. Но он не сделал этого, лишь пощелкал кнутом, который отыскал на дне саней. Сейчас он приедет в Люнде, постучит кнутовищем в дверь и разбудит спящих хозяев. Вот они удивятся! А потом придет сам ленсман, и бабушка…
Но, преодолев последнюю часть пути, Вильхельм увидел свет в окнах дома – там еще не спали. На дворе стояли запряженные сани. Не успел он въехать в ворота, как его окликнули. Вильхельм не разобрал слов, но понял, что его приняли за возницу, приехавшего за кем-то. Должно быть, нынче ночью тут были гости.
– Да нет же! – Вильхельм хотел крикнуть громко, но голос его звучал хрипло и слабо. – Мы хотели просить у вас ночлега…
Открылась какая-то дверь; на фоне огня возник черный силуэт. Стоя у саней, Вильхельм приветственно поднял кнут:
– Мы со стекольного завода… Я – Вильхельм Адольф Теструп, внук хозяйки. – И он начал тыкать кнутом в своих спящих спутников.
Кто-то подошел помочь ему будить спящих. Первым они растолкали низкорослого седобородого крестьянина, который был никому не знаком, и подвели его к свету, падавшему из двери кухни. Потом поставили на ноги Даббелстеена, он был без шляпы, темные волосы беспорядочно обрамляли его бледное грязное лицо. Разбуженные таращили глаза, как совы, и ничего не понимали спросонок. Кто-то засмеялся:
– Сразу видно, что эти люди не постились там, где останавливались в последний раз!
– Пьяны в стельку! – бодро начал Вильхельм, но его голос скрипнул и сорвался. Он стал скидывать с Клауса мешки. – Проснись, mon frère[8]8
Брат (фр.).
[Закрыть], приехали! Давай, давай, просыпайся…
Какой-то человек поспешил ему на помощь, он снял Клауса с саней и поставил его рядом с двумя другими.
В дверях показался ленсман Хоген Люнде. Одежда его была в беспорядке, и он не совсем твердо держался на ногах, когда вышел на крыльцо. Ленсман тыкал своей длинной трубкой то в одного, то в другого, плохо понимая, кто же из них внук его жены. Вильхельм шагнул вперед и протянул ленсману руку:
– Добрый вечер, господин ленсман… или, вернее, доброе утро! Не самое подходящее время вот так заявляться в усадьбу… Свалиться… свалиться, как снег на голову… – Вильхельм старался держаться независимо, однако голос не слушался его. – С нами случилась забавная история, вы только послушайте…
– Добро пожаловать! Заходите в дом, прошу вас! – Ленсман не совсем внятно выговаривал слова. – Так это ты будешь Вильхельм Адольф Теструп? Заходи, заходи…
Вильхельму оставалось последовать за ленсманом. Заметив, что лошадь уже выпрягли из саней, он подбежал к ней и погладил по морде верного товарища, разделившего с ним все тяготы и тревоги этой ночи.
– Пегашка, бедная Пегашка! – Лошадь ласково ткнулась мордой ему в грудь, понюхала его руки. – Мы приехали из Сандтангена… – Из глаз Вильхельма брызнули слезы, от облегчения, от сочувствия к этой доброй старой лошадке.
Служанка повела Пегашку так нежно и осторожно, что ему вдруг захотелось остаться одному и поплакать оттого, что эта злосчастная поездка была уже позади. Но ленсман Хоген Халворсен Люнде ждал его в дверях. И во главе своих жалких и совершенно растерянных спутников Вильхельм вошел в дом.
Воздух в большой зале был густой от табачного дыма, пахло пуншем. В синеватых облаках, лениво колыхавшихся над свечами, стоявшими на длинном столе, пылали раскрасневшиеся лица. Из присутствующих Вильхельм узнал лишь одного – Уле Хогенсена, своего дядю, единоутробного брата его матери.
– Ну вот, прошу располагаться, – сказал ленсман, но обращался он только к Вильхельму. Трое других кучкой сгрудились у двери, Вильхельм же подошел к камину и протянул к огню замерзшие руки. – Садись же, садись. – Крупное, красивое лицо ленсмана побагровело и блестело от пота. Он кивнул служанке, убиравшей со стола, и она подвинула Вильхельму стул, чтобы он сел возле камина.
Тогда и его спутники опустились на скамью, стоявшую у двери. Они еще не понимали, куда попали. Клаус понемногу начал приходить в себя, глаза его с удивлением бегали по сторонам.
– Тяжелая была дорога? – завел разговор ленсман. – Во многих местах снег уже сошел; я слышал, что дорога от Торстада до Бергумсбаккена совсем очистилась от снега. Да и у нас в селении на санях уже не больно-то поездишь.
– Наверху дорога еще хорошая. А в селение мы не заезжали. Мы спустились в Херберге, проехали мимо церкви…
Ленсман кивнул:
– Значит, вы ехали верхней дорогой. Весьма благоразумно. А то на тракте во многих местах снега уже не осталось.
– Бог свидетель, что это так! – Вильхельм не мог удержаться, чтобы не говорить громко и бодро, хотя голос плохо повиновался ему. – Но только не моя заслуга, что мы выбрали этот путь. Из Сандтангена мы поехали к озеру Крокшёен, и там наш возница свернул на дорогу, по которой возят лес. Мы все были навеселе… Ладно, не буду об этом… – Он засмеялся так, что на незнакомых красных лицах появились улыбки, но ленсман взглянул на него с серьезным удивлением. – Когда я проснулся, было уже за полночь, мы стояли в лесу, но я не мог понять, где мы находимся. Остальные спали – они же были под хмельком. Мне ничего не оставалось, как взяться за вожжи и позволить лошади самой найти дорогу из леса. Увидев Гуллаугкампен, я понял, куда мы заехали. И решил ехать прямо сюда и просить вас с бабушкой приютить нас на ночь. – Вильхельм опять засмеялся, бессмысленно и победоносно, двое из гостей засмеялись вместе с ним.
Двери распахнулись, и на пороге показалась мадам Элисабет, бабушка Вильхельма и Клауса. Он вздрогнул – хотя они давно не виделись, Вильхельм полагал, что он ее хорошо помнит, однако теперь, когда она стояла перед ним, оказалось, что она выглядит совсем иначе. Встретив взгляд ее необычных глаз, он испуганно замолчал – глаза у мадам Элисабет были похожи на большие темные шары, катавшиеся в старых набрякших веках. Что-то в ее лице напоминало и мопсов и догов. В самой середине ее крупного лица, желтоватого, как и ее ночной чепец, торчал маленький курносый носик с большими открытыми ноздрями, она как будто смотрела этими ноздрями или принюхивалась, совсем как животные. Плоские щеки тяжело свисали вокруг маленького ротика с выпяченной нижней губкой, круглой, как вишня, и упрямо или презрительно опущенными уголками губ.
С возрастом тело мадам Элисабет сделалось бесформенным. Вильхельму она напомнила каменную глыбу. На ней была зеленая ватная кацавейка, синяя, в белую полоску нижняя юбка и большие домашние туфли из оленьей кожи с цветными бантами и помпонами. Вильхельм в смущении подошел к ней и поцеловал протянутую ему руку. Украшенные кольцами, грязноватые руки мадам Элисабет были маленькие, пухлые, все в ямках и складочках, толстые пальцы заканчивались длинными розовыми ногтями с черной каймой под ними.
– Ну-ка, покажись! Какой же ты стал большой, мой мальчик! Ты очень вырос с тех пор, как я тебя видела. Значит, ты у нас Вильхельм Адольф. А там, надо полагать, Клаус Хартвиг? Добро пожаловать в Люнде!
Вильхельм уловил, что грубоватый голос бабушки немного потеплел, словно вид Клауса зажег прятавшуюся в ней улыбку. Когда Клаус тоже поцеловал ей руку, она потрепала его по щеке.
– Ну-ка, ну-ка, наши мальчуганы стали настоящими мужчинами. – Теперь она погладила и рыжие вихры Вильхельма. – Боже мой, Вильхельм, Клаус уже перерос тебя! А что я сказала, когда видела вас последний раз? Я сказала, что Клаус скоро перерастет своего брата!
Вильхельм почувствовал себя маленьким, тщедушным и нелепым рядом с высоким красивым Клаусом. Над ним с детства подшучивали из-за его зеленых глаз и рыжих волос, имевших склонность виться ореолом вокруг лба, что давало повод людям, хотевшим подшутить над ним, дуть ему на волосы, словно они пытались задуть свечу. Еще Вильхельма называли лисичкой за его треугольное небольшое лицо с мелкими изящными чертами и острым, вытянутым вперед носом. Его нежная, бело-розовая кожа была усыпана веснушками, которые зимой лишь немного бледнели. Он скорее догадывался, чем знал, что в его облике есть что-то привлекательное: когда мать поднимала его лицо за подбородок и подолгу смотрела на него, Вильхельм чувствовал: что-то в нем радует ее сердце.
И все-таки детство Вильхельма было омрачено сознанием, что он, в отличие от Клауса, некрасив. Красота Клауса была совсем иного рода, чем, к примеру, Биргитте или Элисабет, они были просто хорошенькие девочки, которыми восхищались даже незнакомые и которых баловали и отец и слуги. Он и сам гордился своими сестричками, если только они не донимали и не смущали его. Или Бертель… У Вильхельма больно сжималось сердце всякий раз, когда он вспоминал, что Бертель слишком мал ростом для своего возраста и едва ли не горбат, ему так хотелось, чтобы этот бледный, тщедушный мальчик с красивыми темными глазами и каштановыми локонами вырос большим и сильным, что в своей вечерней молитве он постоянно горячо молил Бога избавить Бертеля от его страшной сутулости… И Рикке с Кристеном тоже были такие славные, в Вильхельме никогда не поднималось чувства протеста, когда он слышал, как женщины восхищенно ахали при виде этих невинных малюток.
Но Клаус… с ним все обстояло иначе. Разница в возрасте между ними была не больше года, тогда как Бертель был моложе Клауса на целых четыре года, к тому же он был слишком слабый и маленький. С Клаусом они были как бы в одной упряжке. И вместе с тем Вильхельму всегда напоминали, что он старший. Все запреты и приказания в первую очередь касались его: он должен быть более благоразумным и служить примером младшему брату. Они с Клаусом всегда учили одно и то же, но от него ждали, что он будет скорее и легче усваивать знания, чем Клаус. Если они спорили из-за чего-то, ему, как старшему, приходилось уступать брату. Если делили что-нибудь вкусное, он был вынужден отдавать младшему лучший кусок. И даже того преимущества, коим он пользовался, покамест они были маленькие, и состоявшего в том, что Клаусу приходилось донашивать за ним одежду, во всяком случае башмаки и сапоги, из которых Вильхельм вырос, он теперь был лишен. Сперва руки и ноги у Клауса стали больше, чем у него, потом Клаус потолстел и, наконец, перерос старшего брата на полголовы. Теперь Вильхельм донашивал платье за Клаусом.
Именно то обстоятельство, что мать часто напоминала ему о его обязанностях старшего и что он смутно, но безошибочно догадывался, что он ближе ее сердцу, чем все остальные дети, хотя она и делила свою любовь поровну между ними, заставляло Вильхельма нести бремя своего первородства, не испытывая при этом обиды. Бертель занимал в семье несколько иное положение, чем остальные, – у него было особое право на заботу и нежность матери. Отцу было некогда заниматься сыновьями, они любили его, но в их любви было больше уважения и веры в отца, чем доверия к нему. Отец приходил домой усталый и, как правило, предпочитал отдохнуть в невинном обществе своих веселых маленьких дочерей. С особенной нежностью он относился к Биргитте, названной в честь его покойной матери, ее простодушное щебетание и смешные повадки приводили отца в живейший восторг. Двоими младшими детьми занимались попеременно мать, кормилица и няня. Вильхельм же был связан с Клаусом.
Клаус был всеобщий любимец. Вильхельм видел, как родители гордятся своим сильным и красивым сыном, да иначе и быть не могло, он и сам гордился своим братом. В их большой семье Клаус занимал как бы особое положение, тесня Вильхельма. Да, Вильхельм шел впереди Клауса – остроносый, с огненно-рыжей шевелюрой, физически он был слабее Клауса, но здоровье у него было отменное, сильный Клаус легко подхватывал любые недуги, тогда как Вильхельм был вынослив, как черт, и едва ли пролежал в постели хоть один день в своей жизни – он был обречен всегда идти впереди брата, так сказать, мостить дорогу, чтобы Клаус мог пройти по ней во всем своем великолепии…
Ленсман решил, что им следует сесть за стол и подкрепить силы. Служанка накрыла для вновь прибывших на конце стола. В доме ленсмана ели на фаянсовых тарелках большими серебряными ложками. Другая служанка внесла оловянную супницу и стала разливать горячий и жирный мясной суп, в нем плавала капуста и мясо. Это был любимый суп Вильхельма, но сейчас его нутро противилось любой пище – в груди у него жгло, и во рту был неприятный привкус. К нему подошел Уле Хогенсен с большой серебряной кружкой, покрытой пенной шапкой, и предложил ему выпить…
Никогда в жизни Вильхельм не пил ничего вкуснее этого холодного пенистого пива! Он уткнул лицо в кружку и с наслаждением глотал горьковатый утоляющий жажду напиток. Уле с улыбкой наблюдал за ним. Из-за края кружки Вильхельм улыбнулся ему. Вот теперь можно было приняться и за суп! Он встряхнул огненной шевелюрой и с гордой глуповатой улыбкой взглянул на своих спутников, которые сидели за столом сонные и присмиревшие.
Вильхельм не знал никого из гостей ленсмана, по виду все они были состоятельные крестьяне. Он понял, что высокий худой человек, которого ленсман называл Ларсом, был Ларе Гуллауг, отец Ингебьёрг, нареченной дяди Уле. Поразительно, что его бабушка вышла замуж за простого крестьянина, даже если этот крестьянин был ленсманом и капралом, и что у его матери был единоутробный брат из крестьянского сословия. Однако Уле и не желал менять своего положения – Вильхельм знал, что он воспротивился планам своей матери, которая хотела, чтобы он стал пастором. Неожиданно Вильхельму показалась, что он понимает желание Уле. Здесь, в этой зале, было так хорошо и уютно. И все свидетельствовало о приятной, зажиточной жизни, даже спящие по лавкам и на кровати, стоявшей у двери в соседнюю комнату, гости, которых он сразу не заметил. Огромные старинные шкафы у бревенчатых стен были покрыты затейливой резьбой, дверцы их украшал цветной узор – в этих шкафах была какая-то неизъяснимая прелесть…