
Текст книги "Пляжное чтиво"
Автор книги: Шейла Дайан
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Глава восьмая
Белая
В два часа дня мне предстояла встреча с доктором Пресмэном. Когда я шла к Башне, чтобы принять душ и одеться, мое внимание привлекли громкие пронзительные крики двух чаек, ссорящихся у лестницы променада. Казалось, нападала птица поменьше. Она клевала большую чайку и пыталась засунуть свой клюв в ее. «Требует еду», – решила я. Хотя меньшая чайка и не совсем выросла (я предположила, что это мальчик), он не был уже птенцом, которого должна кормить мать. И большая чайка воевала со своим отпрыском, отбегала от него, но не очень далеко. В конце концов юноша пошел прочь. Усвоил ли он урок? Или просто сдался? И тогда мать побежала за ним и пронзительно кричала, пока сынок не вернулся. Они продолжали свою мучительную игру, пока я поднималась по ступенькам и пересекала променад, думая про себя: «Вот что случается, когда они еще не совсем взрослые; прощание с материнством – нелегкое дело даже для птицы».
– Меня немного пугают эти головокружения, доктор Пресмэн, – говорила я племяннику Эммы Чэнкин в его кабинете в среду днем, решив не напоминать ему о нашей первой встрече двухлетней давности, и была разочарована и благодарна, что он не вспомнил сам. Вообще-то я едва узнала мужчину, встретившего меня, только прядь надо лбом напоминала прежнего бойскаута из супермаркета, но даже она казалась другой – поседевшей.
– Я хочу осмотреть ваши глаза, Алисон. Поднимите голову и смотрите прямо перед собой, – командовал он, приближая свое лицо к моему, пока офтальмоскоп в его руке не разделил нас.
Доктор Пресмэн вглядывался в мои глаза, а я не смела дышать, чтобы не выдать своего смятения. Меня осматривал очень привлекательный врач… очень красивый врач на расстоянии поцелуя.
– Прекрасно, Алисон. С глазами все в порядке.
– Моя подруга считает, что все дело в голове, – сообщила я пряди над незнакомым лицом.
– Возможно. Симптомы, которые вы описываете, часто соответствуют процессам, происходящим во внутреннем ухе.
Доктор Пресмэн открыл высокий стеклянный шкаф, полный пластмассовых моделей увеличенных органов: мрачный музей человеческой анатомии. Он выбрал ухо, принес его мне и раскрыл.
– На вид довольно сложно, – сказала я.
– Вот костный лабиринт, – начал он лекцию, указывая на три костистых полости. – А внутри видны трубочки лабиринта мембраны…
Я пыталась следовать за доктором через лабиринт медицинского жаргона, но совершенно заблудилась, хотя несколько лет назад написала статью об отите – роке, преследующем матерей дошкольников.
– Понимаю, – солгала я.
– Похоже, у вас проблемы с вестибулярным аппаратом, – пояснил он.
– Понимаю, – повторила я, пытаясь найти связь между психическим и физическим равновесием.
Закончив осмотр, доктор Пресмэн нацарапал что-то на листке бумаги.
– Я хочу, чтобы вы сделали магнитно-резонансное исследование головы – это вроде рентгена, – сказал он, вручая мне листок с неразборчивыми каракулями. – Моя секретарша даст вам брошюру с разъяснениями. Вы сможете на этой неделе?
– Да. Я в отпуске…
Тихий стук в дверь возвестил о прибытии лаборантки, как будто точно знавшей, когда появиться.
– Барбара сделает вам анализ крови, и позвоните мне, если вам станет хуже или появятся какие-нибудь вопросы. И, Алисон, не волнуйтесь. Не думаю, что у вас что-то серьезное.
Очевидно, он хотел успокоить меня, но я разволновалась еще больше.
– И, пожалуйста, передайте от меня привет тете Эмме. Она стала моим главным источником пациентов. И любимым – она посылает мне только красивых, – сказал он, направляясь к двери.
Я снова напряглась, не уверенная, старается ли он успокоить или очаровать. Смущенная присутствием лаборантки, я вцепилась в свою рубашку и уставилась на гигантское ухо на столе.
Вернувшись домой около четырех, я обнаружила на автоответчике послание Шела:
– Мам, тебе не нужна компания на ужин? Позвони мне. Я свободен и на мели. Угощаешь ты.
В шесть часов Шел явился на ужин.
– Мам, ты странно ведешь себя.
– Что ты имеешь в виду?
– Не знаю. Ты выглядишь очень счастливой. Что случилось?
Мой сын хорошо меня знает.
– Ничего серьезного. Я счастлива, потому что ты ужинаешь со мной, – сказала я, вынимая мясной соус из микроволновой печи и тыча ножом в не желавшие размораживаться ломти мяса.
Сунув блюдо назад в печь, я полила макароны растопленным маслом и щедро посыпала чесноком, а Шел принес из холодильника бутылку диетической пепси.
– У нас опять спагетти? – спросил он.
– Почему "опять"? Я уже вечность не кормила тебя ужином! И потом, мои спагетти – твое любимое…
– Я просто пошутил, мам. Я люблю подшучивать над тобой: у тебя так забавно краснеют уши.
Он засмеялся, подошел ко мне сзади и потер мои уши.
– Перестань, Шел! Ты портишь мне прическу.
– Ах, ах, ах. Неужели ты волнуешься о прическе! Так что же новенького на пляже, мам?
– Вообще-то сегодня я была не на пляже. Я ходила к врачу, – как можно небрежнее сказала я, хотя мне не терпелось рассказать Шелу о моей болезни… моей возможной опухоли… моей вероятной близкой смерти.
– У врача? Ты заболела? – теперь он изо всех сил старался казаться беззаботным.
– Ничего особенного… просто небольшое головокружение.
– И кто этот врач?
– Племянник миссис Чэнкин.
– Акулы Чэнкин?
– Шел!
– Так что он сказал?
– Он хочет, чтобы я сделала магнитно-резонансное исследование. "Это вроде рентгена", – процитировала я доктора Пресмэна. – Он хочет выяснить, что у меня с внутренним ухом… и мозгом.
– Может быть, мне пойти с тобой? – предложил он, и теперь его голос был таким же озабоченным, как и лицо.
– Спасибо, но я вполне могу пойти сама.
– Что он ищет?
– Точно не знаю, но это как-то связано с моим вестибулярным аппаратом, – сказала я, представляя, как вихляет гироскоп в моем черепе.
– Звучит пугающе.
– Да нет. Доктор считает, что ничего серьезного, – успокоила я, ставя дымящиеся спагетти перед Шелом, а плетенку с хлебом – в центр стола.
– Ну, если бы ты потеряла равновесие на балконе, глядя на облака, это было бы довольно серьезно. Ты могла бы нырнуть, как твоя соседка… семнадцать этажей до променада и… плюх! – сказал он, хлопая рукой по столу для пущей убедительности.
– Ты преувеличиваешь, Шел, – раздраженно заметила я, хотя прекрасно понимала, что ему необходимо обмануть страх – страх потерять меня, и объяснила как ребенку: – Я не могу упасть с балкона, перила очень высокие. Наверно, Марджори кто-то помог упасть, – добавила я, меняя тему. – Я слышала или читала в газете сегодня утром, что балконная дверь Марджори была заперта… изнутри, так что полиция расследует убийство.
– «Тайны "Башни из слоновой кости"!» – фыркнул Шел, хватая кусок хлеба и вгрызаясь в спагетти, пока я занималась салатом. – Между прочим, разве балкон миссис Форестер не прямо над балконом Марджори?
– Откуда ты это знаешь?
– Я не знаю. Я просто размышлял. Не обращай внимания.
– И о чем же ты просто размышлял, если не секрет?
– Я подумал, что Эплбаум могла упасть и не со своего балкона.
– А с балкона миссис Форестер?
– Вот именно.
– И почему ты об этом подумал? Что ты знаешь об этой женщине? – спросила я, представляя себе Бренду Форестер – совратительницу детей, а не Бренду Форестер – возможную убийцу.
– Только то, что я слышал… и то, что я тебе уже рассказал. Помнишь? Мамтрахалки? – сказал он, ухмыляясь в свою тарелку.
– Неужели я могла об этом забыть? – я покраснела, вспоминая, что слышала от Робин… что написала.
– Ты же знаешь, Шел, что можешь рассказать мне что угодно, дорогой, – умаслила я сына, уверенная, что он хочет рассказать мне что-то… например, о том дне, когда он исчез с пляжа, что для меня было гораздо важнее убийства.
– Что угодно? Ну конечно, мам, – язвительно сказал он.
– В каком смысле "конечно"?
– Поверь, есть вещи, о которых я не могу тебе рассказывать… которые ты определенно не поймешь.
– Какие, например?
– Ну, разные мужские дела.
– Какие мужские дела?
– Ну… ну, спорт, например.
– И что еще? – спросила я, уверенная, что не проскочила жизненно важный поворот разговора, что у сына на уме не бейсбол и не теннис.
– Ну, свидания. Помнишь: сви-да-ни-я? Когда ты последний раз ходила на свидание, мам? Держу пари, ты и не вспомнишь, – ответил Шел, прерывая допрос.
Я вдруг ощетинилась, защищаясь, и попыталась вспомнить. Если не считать чокнутого нейрохирурга, с которым познакомила меня Робин прошлым летом и который предложил мне заняться любовью, когда делал мне энцефалограмму, у меня было лишь одно свидание… но даже после него прошло уже шесть месяцев.
– В прошлое воскресенье! – наконец сказала я, вспомнив ужин с Джефри Кауфманом и мысленно благодаря Робин за то, что она оставила нас наедине.
– Да? И с кем же?
– С Джефри Кауфманом. Он…
– Я знаю. Психиатр. Прошлым летом его жена сбежала с мужем Эплбаум – спасателем.
– Ты точно в курсе местных слухов. Надеюсь, в колледже у тебя дела пойдут не хуже.
Он закатил глаза.
– Так как психиатр?
– Он был очень мил. Мы ужинали у Барни.
– Только не забывай про Резинового Робби, – поддразнил сынок.
Я закатила глаза.
– Думаешь, он годится? – спросил Шел.
– "Годится"?
– В мужья.
– Ладно, – сказала я, откладывая вилку и внимательно глядя на сына. – Так что же случилось?
Шел намеренно уклонился от разговора о Бренде Форестер – я не смела думать почему, но чувствовала, что он сменил тему не только для того, чтобы избежать допроса.
– Почему ты вдруг так заинтересовался моей личной жизнью?
– Я всегда ею интересовался. Просто я хочу видеть тебя счастливой. Ты знаешь… чтобы о тебе заботились.
– Мне кажется, что я прекрасно забочусь о себе. В действительности я прекрасно забочусь о нас обоих последние пятнадцать лет. Так почему ты решил, что обо мне должен кто-то заботиться?
Шел набил рот хлебом и, вероятно, поэтому не ответил на мой вопрос…
– Почему ты думаешь, что обо мне должен кто-то заботиться? – спросила я отца.
Прошло девять месяцев со дня смерти Карла, и все это время мои родители вели себя очень необычно: мать перестала звонить мне в дождливые дни и объяснять, что Шел должен надеть настоящие ботинки, а не кроссовки, которые промокают в дождь и ведут к простуде, ангине и пневмонии. И я не могла вспомнить, когда в последний раз она предупреждала меня о бакалейных кошмарах: пестицидах в винограде, ботулинусах в анчоусах, сальмонеллах в цыплятах. Наверное, она чувствовала, что у вдовы с маленьким ребенком достаточно забот и без этого.
Но, в конце концов, не совсем достаточно, поскольку в тот вечер после ужина в родительском доме мать отправилась с Шелом играть в домино, оставив меня с отцом.
– Поговорим немного, – сказал отец. – Как ты справляешься?.. Как Шел?.. Тебе нужно что-нибудь?.. Тебе хватает денег? Мы с мамой беспокоимся… Ты бравый маленький солдат… но прошел почти год, и тебе надо начинать подыскивать кого-то, кто будет заботиться о тебе.
Именно тогда я и спросила:
– Почему ты думаешь, что обо мне должен кто-то заботиться?
Бен Шипмэн позвонил на следующей неделе. Он был сыном партнера отцовского дантиста. Недавно разведенный – жена ушла к тренеру по теннису из их загородного клуба, когда узнала о его интрижке с лаборанткой. Теперь Бен пытался «вернуться к жизни». Мой отец предложил ему позвонить мне. «Вы, ребятки, будете хорошей компанией друг для друга», – сказал он.
Мы провели несколько вечеров в лучших ресторанах Филадельфии, где он угощал меня хорошим ужином, прекрасным вином, беспрерывным нытьем о пороках его жены и адвокатов, личных трудностях и о том, как он научился любить себя, и, как я прекрасно поняла к четвертому свиданию, любовь к себе занимала теперь в его жизни главное место.
Но я так никогда и не поняла, почему отправилась на пятое свидание с ним и почему после этого свидания занималась с ним сексом. Может, потому, что он был красив, от него приятно пахло и я не спала ни с одним мужчиной после смерти Карла (я предпочитала не принимать во внимание мое безумное совокупление с Филипом Краузеном). А может, самое главное, я занималась сексом с Беном Шипмэном, потому что мне было необходимо почувствовать себя хорошо… почувствовать себя нужной. Вероятно. Но более вероятно, я занималась сексом с Беном Шипмэном потому, что была сексуально озабочена.
Итак, после ужина с вином я пригласила Бена в свою квартиру и провела его в свой уютный кабинетик. Мы уселись на диване, поговорили о фториде в зубной пасте, то есть об уходе за зубами, и затем он меня нежно поцеловал. Так, как целовал на прощание после нашего второго свидания, – милый неугрожающий поцелуй, приличный поцелуй, который вполне мог стать последним, но когда я совершенно случайно повернулась, его левая рука слегка коснулась моей груди, совершенно голой под тонкой шелковой блузкой. И это случайное прикосновение разожгло во мне страсть, удивившую нас обоих. Ну, во всяком случае, меня. Я не уверена, что мужчин можно удивить страстью.
Потом, скатившись с меня, он сказал:
– Алисон, позволь мне заботиться о тебе.
Я положила его вялую руку на свою неудовлетворенную плоть.
– Лучше погладь меня, Бен, нежно, – сказала я, не поняв его слов.
Однако он уже спал. Он проснулся, теплый и освеженный, полчаса спустя и лизнул меня в шею.
– Ты все это время так умело справлялась одна. Позволь не заботиться о тебе.
– Почему ты решил, что мне нужна чья-то забота? – усмехнулась я, когда до меня дошел смысл его слов.
… Разве ты не считаешь, что я хорошо забочусь о нас? – спросила я сына, чувствуя, как моя уверенность тает от самомнения отца, самомнения Бена… молчания Шела.
– Хм-ум, – произнес нараспев Шел с полным ртом, не отрывая взгляд от тарелки со спагетти.
– Разве ты так не думаешь? – взмолилась я.
Шел сглотнул, но не поднял глаз.
Прежде чем он успел снова набить рот, я потребовала:
– Шел! Ответь мне… пожалуйста.
– Конечно, ты хорошо заботишься о нас, но…
– Но что?
– Ну, на тот случай, если ты не замечаешь, в нашем доме давным-давно уже двое взрослых. И я, кстати, думаю, что мы заботимся друг о друге…
Я смотрела на сына и удивлялась, когда он вырос… удивлялась, когда он решил, что вырос.
–… и теперь я уезжаю в колледж… и… ну… я буду далеко, – тихо сказал он, приоткрывая дверцу в свою душу, и я поняла, вероятно, чуть больше, чем он хотел мне позволить.
"Далеко", – сказал Шел. "Далеко от тебя", – имел он в виду. Сын беспокоился обо мне, но он также беспокоился о том, что я могу найти себе новую жизнь и отдалиться от него. И все это в тот момент, когда он так рвался освободиться от меня. Все это я увидела совершенно ясно, когда Шел сказал: "Я буду далеко". "Бедный ребенок", – подумала я, вспоминая чаек на пляже, разрываясь от желания покачать его как маленького.
– Ты будешь далеко, Шел. Ты будешь скучать по мне, не правда ли? – я потянулась через стол и коснулась его руки… его загорелой, мускулистой, очень взрослой руки.
– Не трогай мое тело! – с притворным ужасом крикнул он, отдергивая руку.
– На самом деле я уже скучаю по тебе, – призналась я, и мои глаза набухли слезами.
– Если ты заплачешь, я не съем больше ни крошки, – пригрозил Шел, пытаясь избежать проявления чувств.
Но я видела его лицо, лицо, которое я знала так хорошо, гораздо лучше, чем свое собственное. И, схватив пустую плетенку, я вскочила, чтобы наполнить ее теплым хлебом из печки… и уберечь гордость Шела… смакуя болезненно сладкое ощущение его почти пролитых слез, чувствуя, что была близка как никогда к тому, чтобы услышать, что он любит меня.
– Люблю тебя, Шел, – сказала я, клюнув его в щеку и ставя перед ним полную корзинку ароматного хлеба.
– Я думаю, мне следует пойти с тобой завтра, – повелительно сказал он, притворяясь, что не заметил моего пылкого жеста.
– Спасибо, Шел. Обещаю позвонить тебе, если разнервничаюсь.
Когда я в ту ночь закрыла глаза, размышляя о сложных чувствах Шела, мое собственное равновесие куда-то покатилось. Появилась бесконечная чернота, пропасть, я не могла сосредоточиться. Снова я вспомнила чаек, и крупные тяжелые слезы заструились из глаз в подушку – якорь для моей ускользающей души.
Глава девятая
Белая
Я проснулась в середине ночи с мыслями о камере. Нельзя было сказать, что я спала, но очнувшись, я тут же почувствовала, как камера сжимает мой мозг. Я вспомнила картинку из брошюры. «Что-то вроде железного легкого, – подумала я, – только моя голова – внутри, а ноги – снаружи». Я попробовала представить, как смогу двигаться в камере. Тесно. Я не могла шевельнуть ни головой, ни руками и не могла выползти… и мне не хватало воздуха… я кричала, но никто не слышал меня, и лаборанта уже не было в окне, и я была одна в трубе, душившей меня… и я резко села в постели, обливаясь потом.
"Я не смогу это сделать, – подумала я. – Никогда не смогу это сделать!" И я встала. Меня уже подташнивало. Я приняла две таблетки, надеясь облегчить воображаемую головную боль, включила телевизор, пробежала по каналам и закрыла глаза.
Каким-то образом мне удалось дожить до утра четверга. В половине девятого я позвонила доктору Пресмэну и сказала, что, вероятно, не смогу сделать это исследование… что у меня клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), что я не продержусь и тридцати секунд.
Он попросил заехать к нему… сказал, что даст мне транквилизатор. Он также предложил захватить в лабораторию пленку с любимой музыкой, в камере есть наушники. "У многих людей проблемы с этим тестом из-за клаустрофобии", – успокоил он.
Я почувствовала себя не такой сумасшедшей, когда он сказал, что сумасшедших вроде меня много.
Я пила кофе в кухне и мысленно составляла распорядок дня: принять душ и одеться, заехать к доктору Пресмэну и взять лекарство, заехать в библиотеку и заглянуть в фармацевтический справочник, чтобы убедиться, что у лекарства нет побочных эффектов, и в два часа – в лабораторию.
Побочный эффект. Медицинский термин для несчастного случая, и врачи умудряются убедить вас, что это случайность – реакция, которой у большинства людей нет; но на самом деле она проявляется гораздо чаще, чем вас уверяют, и часто бывает гораздо хуже, чем то, от чего вас лечат. Как, например, случилось с моей соседкой Джесси Гоулд. Она приняла слабый транквилизатор, чтобы облегчить приступы истеричности, связанные с климаксом, и так расслабилась, что описалась в парфюмерном отделе универмага. Она рассказывала, что из нее просто хлынул поток, как перед родами ее второго ребенка, правда, в тот раз она обмочила посудный отдел. Полное расслабление сфинктера – побочное действие лекарства, как позже объяснил ее врач.
По пути в душ я решила сначала позвонить в лабораторию и спросить о побочных действиях магнитно-резонансного исследования.
– Никаких, – сказала лаборантка, представившаяся как Дебби. Она объяснила, что МРИ – щадящее исследование и что, не в пример компьютерной томографии, не требует введения краски, способной вызывать аллергические реакции.
Смертельные аллергические реакции. Я вспомнила, что читала о смерти как побочном эффекте томографии.
– Сколько времени длится исследование? – спросила я, хотя в брошюре было написано, что тридцать пять минут.
– Около тридцати пяти минут, – подтвердила Дебби. – Но если ваш врач выписал гадолиний, то на несколько минут дольше.
– Гадолиний? – переспросила я.
– Это же природный элемент. Он есть в Периодической системе.
– Как мышьяк и плутоний, – возразила я.
Дебби не засмеялась.
– Ну, он помогает радиологу более ясно рассмотреть сомнительные детали. Совершенно безвредный. Не зарегистрировано ни одного побочного эффекта, – уверила она.
– Извините, что заставил вас ждать, Алисон, – сказал доктор Пресмэн, вручая мне белый конверт. – Думаю, это вам поможет.
– Спасибо… и, доктор Пресмэн…
– О, возможно, не помешает, чтобы вас кто-нибудь проводил. Лекарство вызовет сонливость. И позвоните мне, когда вернетесь домой. Я буду в кабинете до девяти.
–… А гадолиний?
– Гадолиний? Это же природный элемент. Он есть в Периодической системе, – ответил он, настолько дословно повторяя Дебби, что мне стало еще больше не по себе.
– Как мышьяк и плутоний, – попробовала я снова.
Он не засмеялся.
– Ну, не зарегистрировано ни одного побочного эффекта. Правда, одна дама пожаловалась, что потеряла после теста экстрасенсорные способности. Но ведь вас это не волнует? – добавил он со смешком.
Я не засмеялась.
– Так что же делает этот магнитный резонанс?
– Ну, магнитное поле заставляет ваши молекулы вращаться иначе, давая радиологу более резкие изображения.
Я представила молекулы своего тела, своего мозга, вращающиеся в миллионах направлений и сталкивающиеся друг с другом. Тело в борьбе с самим собой, мозг в полном хаосе, мчащийся во вселенную безумия. Побочный эффект гадолиния, скажет какой-нибудь специалист моему рыдающему сыну, в том, что он дает интересные научные данные.
– Не волнуйтесь, все пройдет отлично, – ободрил доктор Пресмэн, беря карту у медсестры и направляясь к смотровой комнате. Затем он обернулся: – Между прочим, мне очень знакомо ваше лицо. Я уверен, что мы встречались раньше.
– Не думаю, доктор Пресмэн…
– Айра, пожалуйста.
–… Айра. Вы выписали мне гадолиний?
– Это зависит от радиолога. Если ему понадобится более четкая картина.
– И как давно они пользуются гадолинием?
– Около трех лет, – ответил он, подтверждая мои худшие опасения: они все еще собирают данные.
У первого красного светофора по пути из библиотеки я вытащила конверт из сумочки, открыла его и обследовала картонку с двумя крошечными белыми пилюлями. Беглое посещение библиотеки снабдило меня ценной информацией, упущенной Айрой: длинным списком побочных эффектов, которые я решила проигнорировать, чтобы не поддаться искушению войти в камеру, не утихомирив первобытные инстинкты. И справочник сообщил мне, что обычная доза – одна таблетка.
Вернувшись домой, я попыталась дозвониться до Робин. Когда она не ответила, я отправилась на пляж, чтобы разыскать ее, но ее не было и там. Зато Джефри Кауфман был.
– Алисон! – позвал он, откладывая книгу и вставая. – Вы совершенно одеты. Собираетесь куда-то?
– Да. Я ищу Робин, чтобы она проводила меня. Вы ее не видели?
– Нет. А я могу быть чем-нибудь полезен?
– Ну, это довольно личное дело.
– Насколько личное?
– Мне нужно, чтобы кто-то проводил меня и проследил, как вращаются мои молекулы.
– Вот как… Это действительно личное. Мне кажется, что настолько я ни к кому не приближался. У вас или у меня?
– Ни там, ни там. Но я могу сообщить, что над кроватью есть зеркало, плюс стереосистема, камера, чтобы ограничить движение, и наблюдательный пункт, – ответила я, чувствуя, что уже превратилась в маньяка.
– Я весь ваш! Это гостиница "Любовное гнездышко"?
– Это лаборатория магнитно-резонансных исследований. Я назначена на два часа. Они хотят заглянуть в мою голову и выяснить, почему меня штормит на земле. Может быть, опухоль мозга… а может, какая-нибудь экзотическая нервная болезнь…
– Ну-ну, похоже, что доктор здорово напугал вас. Послушайте, я с удовольствием провожу вас.
– Спасибо, но я, наверное, позвоню сыну.
– Ну, если вы передумаете…
И тут я заметила, что читал Джефри. "Рубец времени", Слоан И. Даймонд. Я привыкла видеть свои книги на полках книжных магазинов, но смотреть, как кто-то читает их, наблюдать, как знакомый читает их, – вызывало несколько другое чувство: удовлетворения и тайного волнения.
– Нравится книжка, Джефри? – спросила я, пытаясь придать безразличие своему голосу.
– Это причудливая медицинская загадка. Вообще-то больше причуда, чем загадка, – улыбнулся он.
– Ну, в реальном мире действительно причуд больше, чем тайн, – сказала я, вдруг захваченная мыслями о тайне смерти Марджори Эплбаум.
– Это действительно тайна – и, возможно, странность – зависит от того, с какой стороны смотреть на жизнь, – ответил Джефри, смущенный и довольный одновременно. – И, отвечая на ваш вопрос, – да, мне нравится эта книжка.
– Ну, мне пора в камеру, – сказала я, польщенная похвалой.
– Между прочим, Алисон, один мой друг делал в прошлом году магнитно-резонансное исследование позвоночника. Он сказал, что ничего страшного, просто немного тесновато, – попытался успокоить меня Джефри.
"Немного тесновато… тесновато, давит, связывает, слепит…" – думала я в панике.
– Мне пора, Джефри.
И я помчалась по пляжу, пытаясь взять себя в руки…
Я выдавила одну из маленьких белых пилюль из пластикового пузырька, случайно расколов ее пополам, и проглотила обе половинки. Затем я позвонила Шелу на работу и спросила, сможет ли он отвезти меня в лабораторию. "Конечно", – сказал он. И я села на балконе в ожидании покоя. Примерно через полчаса, так и не дождавшись, я решила принять еще одну пилюлю. В конце концов, Айра дал мне две.
К моменту появления Шела я чувствовала… ну, я чувствовала очень мало. Как будто меня завернули в пластиковый пакет… мягкий, но крепкий… оградив от звуков и образов.
– Ты в порядке, мам? – спросил Шел, найдя меня на балконе неподвижно уставившейся вдаль.
– Прекрасно, дорогой. Думаю, нам пора ехать, – сказала я, не шевелясь.
Шел подождал с минуту, переминаясь с ноги на ногу, затем сказал:
– Так поедем!
Его сердитый тон скорее говорил о его тревоге, а не о нетерпении, так как у нас было еще много времени.
Хотя позже он рассказал, как его напугало полное отсутствие у меня каких-либо реакций, тогда я не видела, что он таращится в зеркала лифта, многократно отражающие мое молчаливое безучастие.
– Мы приедем рано, – сказал Шел, взглянув на часы, когда мы выходили из лифта.
Я не ответила.
– Господи, в каком виде твоя машина, мам! – сказал Шел, когда привратник подогнал ее к парадной двери. – Ты что, никогда ее не моешь?
В обычном состоянии я бы напомнила ему, что он мог бы и помочь мне, но сегодня у меня не было желания нападать на него.
– Все в порядке, просто немного запылилась, – ответила я.
– Мы действительно едем слишком рано, – сказал Шел, ведя машину к больнице.
– Все в порядке, – сказала я, определенно чувствуя в тот момент, что все в полном порядке.
– Знаешь что, мам, мы вымоем твою машину, – сказал Шел, поспешно сворачивая с дороги к автомойке.
Позже я осознала, что он пытался заставить меня как-то реагировать.
Я отреагировала:
– Шел, что ты делаешь?
– Ты должна лучше относиться к своей машине, мам.
– Но, Шел… Я не верю своим глазам! У нас сейчас более важные дела… Это лишняя трата денег… Я могла бы и сама это сделать. Вообще-то ты мог бы это сделать для меня! И зачем ты заказал полировку?! Мы не отдерем этот состав от стекол! – зудела я, пока машина медленно плыла в туннеле, мылась, чистилась и натиралась.
– Иногда можно и побаловать себя, мам, – сказал Шел.
В приемной я ничего не замечала. Затем высокая костлявая молодая женщина в белом отвела меня в лабораторию, где все тоже было белым – стены, пол, потолок… камера, окруженная белым, похожим на пончик, магнитом. Выполняя инструкции женщины, я легла на белую кушетку в белой комнате. С полным безразличием я смотрела на пухленького коротышку, тоже в белом, в стеклянной кабинке, пока женщина надевала на меня наушники и похожий на футбольный проволочный шлем. Затем кушетка покатила меня головой вперед.
Когда камера проглотила меня, паника проткнула мое искусственное самообладание. Но я крепко сжала веки и услышала в наушниках успокаивающий голос:
– Все в порядке?
– Да, – ответила я.
Затем заиграла музыка, расширяя мой замкнутый удушающий черный мир до бесконечной Вселенной освежающих сверкающих звуков. Через мгновение я уже перенеслась в первый ряд балкона филармонии и смотрела вниз на филадельфийский оркестр, исполняющий божественную первую часть Седьмой симфонии Бетховена…
На обратном пути я была спокойна – частично из-за транквилизатора, частично из-за Шела, который был болтлив, очевидно, от радости, что видит меня живой и здоровой, просидев в одиночестве в приемной почти час, или потому, что еще тревожился из-за моих вялых реакций.
Он сказал, что думает о том времени, когда много лет назад я осветлила волосы. Ему было одиннадцать. Все вокруг него менялось и вдруг единственное постоянное в жизни – никогда не меняющаяся мама – тоже изменилась. И он почувствовал одиночество, оторванность от меня, от мира. "Побочный эффект окраски", – подумала я.
Одурманенная транквилизатором, я не сразу поняла, что он снова чувствует себя оторванным от меня. На этот раз, однако, я разорвала связь, не он. Это оказалось приятным – я не привыкла к беззаботности. И не возражала. Но Шелу это не нравилось.
– Знаешь, ты немного пугаешь меня, – сказал он.
– Это просто лекарство, которое дал мне врач. Я стану сама собой через несколько часов, – сказала я, пытаясь успокоить его тревогу.
– Да нет, ничего, мам. Даже приятно для разнообразия. Может, мне воспользоваться случаем и рассказать тебе все, что ты хочешь знать обо мне и боишься спросить?
В обычном состоянии я бы попалась на удочку, ухватилась бы за приглашение заглянуть в жизнь своего сына, выудить из него то, что мне хотелось знать и он хотел рассказать. Но я сидела рядом с ним такая самодовольная, убаюканная транквилизатором почти до полного оцепенения, что просто улыбнулась и сказала:
– Ты знаешь, Шел, я всегда рядом, когда ты хочешь поговорить.
Как будто звякнул засов. Он замолчал.
– Где ты была вчера? – спросила Робин, появившись на пляже в пятницу утром, необыкновенно жарким утром.
– Мне крутили молекулы.
– Понятно. Значит, не моего ума дело. И все-таки, где ты была?
– Правда. Мне крутили молекулы, делали магнитно-резонансное исследование головы, чтобы выяснить, почему у меня головокружения.
– Звучит как чудесный аттракцион.
– Так и было. Вроде того. Айра дал мне транквилизатор, так что я проспала весь сеанс, и мне снился невероятно эротический сон, – ляпнула я не подумав.
– О? – встрепенулась Робин. – У тебя был эротический сон? Сгораю от нетерпения!
Я взглянула на Робин и представила ее так, как видела во сне, и подумала, что люди совершенно не могут вообразить сексуальное поведение других людей.
– Что случилось? – спросила Робин. – Почему ты так странно на меня смотришь?
– Я просто думаю о своем сне. Он связан с автомойкой и Бетховеном.
– Автомойка. Бетховен. Я не удивлена.
– Что-то не так с Бетховеном?
– Лично я в своих снах предпочитаю Стинга… в автосалоне…
– Каждому свое. Между прочим, где ты была вчера? Я все утро искала тебя на пляже, хотела, чтобы ты проводила меня в лабораторию, но тебя нигде не было… даже в твоей квартире.
– О, я заглянула к Марти Стейнеру и вышла на пляж около двух, – сказала Робин, вскакивая и вприпрыжку направляясь к воде.
Я последовала за ней, подпрыгивая на обжигающем песке, огибая тела, распростертые на одеялах. Прохладная вода охладила мои ступни, но обожгла тело.






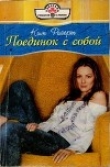
![Книга Даниель Деронда [старая орфография] автора Джордж Элиот](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-daniel-deronda-staraya-orfografiya-74984.jpg)
