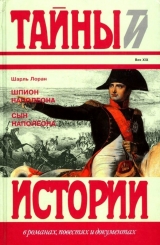
Текст книги "Шпион Наполеона. Сын Наполеона (Исторические повести)"
Автор книги: Шарль Лоран
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Сколько раз я видел его играющим со своим сыном! Он обожал его. Для всех ребенок назывался Гансом, только для своего отца он был Жан. Это был их секрет… Принц шептал ему очень тихо это имя, и малютка, бледный, с блестящими глазами, бросался в его объятия.
После двойной катастрофы, когда я решил вверить вам и вашему честному Карлу этих двух бедных крошек, я отвел мальчика в сторону и объяснил ему, как умел, о случившемся несчастье: «Ты будешь жить с сестрою твоей матери. Она так же прекрасна и добра. Повинуйся ей. Но она не знала твоего отца; береги же для себя одного воспоминание о том, кто так любил тебя. Когда мы встретимся, то будем о нем разговаривать».
Впрочем, незачем вас уверять, что он не знал ни звания, ни настоящего имени потерянного покровителя. В его глазах это был его отец, вот и все!
Дорогой малютка поступил так, как я указал ему. Это честный мальчик, он не изменил своим двум расам. У него сердце крестьянина, но в нем бьется королевская кровь. Он тверд и верен, мужествен и скрытен. Иногда, оставаясь со мной вдвоем, он смотрит на меня бледный, с покрасневшими от слез глазами. Я пробовал улыбаться и звать его тихо по имени Жан, которого он давно не слышал. Тогда он горестно подымал глаза, будто желая рассмотреть далекий образ. А у меня этим временем, при воспоминании о моем повелителе, сердце разрывалось от рыданий.
Берта плакала при воспоминании о своей исчезнувшей старшей сестре. Слова Франца Родека приподняли последнюю завесу, спущенную перед нею. Теперь раскрылось, чего она до сих пор не знала из жизни и любви Жанны. Она вспомнила, с какой строгостью принимал ее отец, уважаемое всеми должностное лицо в Сент-Мари-о-Мин, скромные попытки некоторых родственников, старавшихся вымолить прощение для отсутствующей дочери. Она смутно спрашивала себя, подозревал ли хотя один момент ее отец имя человека, для которого эта опозоренная девушка покинула родительский кров.
Затем она унеслась мысленно к своим юным дням и увидела себя под тяжестью неизвестной ошибки. С этой минуты она поняла, почему с такой поспешностью схватились за неожиданный случай, чтобы ее устроить. Ее выдали замуж за скромного иностранного купца, который жил везде понемногу, не имея нигде ни связей, ни привязанностей. Правда, он искренно к ней привязался, но не очень домогался ее руки!.. Однако этот случайный муж был совершенство по своей доброте к ней, хотя после совершившегося она не имела никакого права жаловаться.
Ее мысли завертелись вихрем и смешались… Они толпой ворвались в ее ум в продолжение молчания, последовавшего за рассказом старого шуана. Самая упорная из них, которая беспрестанно появлялась, едва успев исчезнуть, была мысль о детях-сиротах, живших с нею. Она заботилась о них от всего сердца и воспитала, как могла лучше, их, последних отпрысков почти королевской расы, настоящих французских принцев.
Она любит их по-прежнему, но теперь присоединилось еще чувство уважения.
Внезапно открылась дверь, и маленький мальчик вошел своим обычным шагом.
Первый раз ей показалось недостаточным посмотреть на него, и она принялась изучать его. У него были белокурые волосы и естественно бледное лицо. Он был худ, но энергичен и крепок. Его глаза были голубые, а взгляд казался то твердым, то мечтательным. Как это случилось, что Берта никогда не замечала этого холодного решительного лица, этого не то что высокомерного, но какого-то недосягаемого вида.
Мальчик заметил, что на него смотрят иначе, чем обыкновенно. Он уловил на лице старого Франца выражение, похожее на то, какое он видел во время их тайных бесед. Затем Ганс перенес свой взгляд на Берту и увидел ее потрясенной непонятным душевным волнением. Тогда он еще более побледнел и, казалось, колебался, что ему делать.
Она, не отрывая от него глаз, протянула к нему руки и дрожащим голосом сказала это простое слово:
– Жан!
Он сначала попятился, как будто от сильного удара в грудь, затем бросился к своей новой матери и начал яростно целовать ее, повторяя с улыбкой и слезами:
– Мама Берта, мама Берта!
Затем, высвободившись из нежных объятий и не говоря ни слова, он выбежал.
Родек и Берта переглянулись с удивлением.
Минуту спустя Ганс вошел, держа за руку свою маленькую сестру. Толкнув ее нежно к той, которая их обоих усыновила, он сказал едва слышно:
– Теперь ее надо звать Елизаветой. Это ее французское имя…
Около двенадцати часов дня маленькая деревенская тележка тихо катилась лесом.
Путешественники оставили дом открытым для ожидаемых гостей.
Слуги Мюрата могли распоряжаться по своему усмотрению погребом и хлебным амбаром. Правда, что погреб был очень скромный, а амбар плохо наполнен. Постели были готовы, стол накрыт; шкаф для белья не заперт; в конюшнях была приготовлена солома в снопах, которую только оставалось разбросать вилами, и подстилка была готова.
Далеко, уже очень далеко, по дороге, тянувшейся по другую сторону гор, ехала тележка ровным шагом, не очень скоро, но без остановки. Впереди шел гигант с седыми волосами. Его гибкая походка и крепкая сильная фигура обличали осторожный и степенный вид. Около него шел ребенок, которого приводило в восторг каждое встречающееся обстоятельство и развлекала каждая птичка. Он хлестал мимоходом своим прутиком по печальным ветвям сосны, протягивающимся к почве, подобно опустившимся волосатым собачьим хвостам.
В тележке сидела красивая, но все еще очень печальная женщина с маленькой, хорошенькой и очаровательной девочкой. Последняя смотрела на все: на солнце, на деревья, на камни, на лошадь, на небо, на старика, на горизонт, на бегущего ребенка, на летевшее насекомое, улыбалась всему и все время болтала своим ясным и невинным голоском, в котором слышалось пение, смех, опасения и радость.
Уже давно длился их путь. Они отправились после первого завтрака, отчего Лизбета уже проголодалась. Но она не смела признаться из боязни прервать чары путешествия. Ей так весело видеть своего брата идущим, как большой мужчина, и не чувствующим совсем усталости!.. Если бы она могла знать, кто из них ранее устанет – большой Франц или маленький Ганс!.. Вот будет весело-то, если такой великан захочет отдохнуть раньше мальчика!.. Да разве Ганс еще мальчик, он идет с таким решительным видом?.. Когда перестают быть детьми? Разве когда позволяют ходить по дорогам пешком, не боясь запряженных в экипаж лошадей?.. Наверно, Лизбете никогда не позволят такой свободы. Это, вероятно, оттого, что она не переставала еще быть маленькой девочкой!.. Тогда зачем же позволяют ее брату? Должно быть, он уже больше не маленький мальчик.
Эти рассуждения заставили ее восторгаться своим обычным товарищем по играм. Она захотела тотчас высказать ему радость и, наклонившись, закричала:
– Ганс, Ганс! Поди-ка сюда.
Он с видом любезного покровителя повернулся к ней и, улыбнувшись, сказал:
– Оставь меня, моя Лизбета, я смотрю, спокойно ли на дороге!
Тогда, убедившись, что ее брат не только сделался взрослым человеком со вчерашнего дня, но превратился даже в героя, она бросилась в материнские объятия Берты, готовые всегда принять ее. Ее личико внезапно изменилось: щеки побледнели, глаза сделались печальны, и она сказала:
– Мама Берта, я голодна!
Часть вторая
I
Генерал Мак был сильно разгневан. Уже в продолжение нескольких дней все складывалось так, что уничтожало все самые старинные его познания и совершенно противоречило военным принципам. Так весь свет до сих пор соглашался признавать, что на европейской карте существует несколько традиционных позиций, давно уже определенных знатоками военного дела, как необходимый театр действий. Все сколько-нибудь образованные офицеры, изучившие основы, знали, как близкие к делу люди, сколько надо войска, чтобы защищать их. Утвердиться на одном из них, когда предстояло охранять соседнюю дорогу, было азбукой стратегии. Например, было бы совершенной нелепостью охранять Германию от нападения французов, не заняв Ульмского укрепленного лагеря, это все равно, что не надеть на голову шляпы, желая предохранить себя от холода. И вот в армии, которой он командует, нашлись среди генералов, командующих главными корпусами, фантазеры, отказывающиеся преклониться перед этим святым правилом! Да, дошли до того, что позволили даже в его главном штабе поддерживать то мнение, что его стратегия «старая игра». Они говорили даже, будто ничего в общем не доказывает необходимости иммобилизировать армию перед выходами из Черного Леса, до тех пор пока не знают наверно, по какой дороге пойдет неприятель. Точно неприятель может идти по другой дороге! Точно в продолжение двухсот лет и более не было безусловным правилом для французской армии выходить через Адскую долину или соседние холмы в долину Швабии или Вюртемберга.
Мак поднял плечи и начал прохаживаться по кабинету. Он в особенности сердился на эрцгерцога Фердинанда, номинального начальника над императорскими силами, которыми в действительности же руководил он сам. Без сомнения, это храбрый принц, но не утверждает ли он, как и другие, что Наполеон может прекрасно пройти по другому пути и обмануть ожидания генерала?..
Наполеон! Они все говорят о Наполеоне. У них на языке только Наполеон. Четырехкопеечный император, которого контрреволюция поджидала в Париже, развлекающийся устройством балов в Сен-Клу, чтобы утешить себя в невозможности захватить Англию!.. Его искусство в маневрах более расхвалено, чем оно есть на самом деле. Скверный, ничтожный артиллерийский поручик, сделавшийся начальником сумасшедшей нации только потому, что он был безумнее остальных!.. Его победы? Счастливая случайность! Правда, он разбил Альвинцга, Вурмсера и Меласа в Италии, но именно благодаря небрежности этих же генералов: они упустили случай занять существенные пункты, освященные обычаем.
И затем в Италии не было Черного Леса. Немцы там были не у себя. Между тем как здесь, в Ульме…
Наконец, нельзя иметь малейшего сомнения в истинных намерениях неприятеля, потому что рапорт превосходного шпиона, живущего в Страсбурге, извещает день в день о приготовляемых движениях!..
Мак остановился перед высоким окном, откуда перед ним открывалась длинная, узкая улица с маленькими неправильными домами. Она составляла главный вход города. Вдали он заметил вершины Мишельсберга, где находилось его войско, непреоборимое и готовое поразить осаждающих, все равно, с какой стороны они ни пришли бы. Он улыбнулся с сожалением, думая о тех, кто не понимал цены этого места.
Мак был в полном смысле тип офицера старого порядка. Длинный белый мундир с сурово поднятым и застегнутым воротником охватывал его худой, нервный стан. На нем был напудренный парик, какие носили офицеры во времена Марии Терезии, затканный золотом шарф, знак его командования, обхватывал его талию и единственный нарушал однообразие его одежды.
В то время как он, барабаня по стеклу оконной рамы, расходовал негодование старого воина, потревоженного в своих привычных комбинациях, движение на улице становилось все шумнее и разнообразнее. Несколько групп кавалеристов поочередно приближались к главной квартире, и лица разного возраста, вида и костюмов соскакивали с лошадей перед ее дверью, приветствуемые караульными солдатами при помощи ружья.
– А! Вот и фельдмаршал Кленау! – произнес Мак. – Какой-то удивительный рапорт он представит нам сегодня?
Если его послушать, то надо было покинуть этот добрый город Ульм и пойти навстречу русским союзникам, т. е. показать пятки неприятелю, черт возьми!.. Смотри! Кто это такой позади Кленау?.. А это Шварценберг, глубокомысленный человек и дипломат на поле битвы!.. Гьюлай следует за ним. Хороший воин этот Гьюлай… Дисциплинированный!.. Если бы все были таковы, то все пошло бы хорошо.
Но так как голоса становились слышнее в соседних комнатах, то генерал Мак перестал смотреть на улицу и пошел навстречу своим гостям. Он принял последовательно главных генералов, которых он видел сходящими с лошадей перед его дверью. Вскоре в их свите появились: Вернек со своим угрюмым и недовольным видом; Иелашич, усатый, как гусар, говорящий всегда громко и крепко ругавшийся, как немецкий рейтар; Ризе – серьезный и молчаливый; Матцерой – ничтожность в человеческом образе, наконец, эрцгерцог Фердинанд с благосклонностью принца крови, счастливый тем, что пользуется наружным авторитетом, принимая почести, относящиеся к его положению. Впрочем, он полагался в подробностях войны на суждения лиц, единственное ремесло которых было видеть ясно в дыму.
Храбрый и решавшийся хорошо действовать, он требовал только одного, чтобы не выставляли под шах человека его происхождения. Он привез с собой свои экипажи и покраснел бы, если бы они были замешаны в отступлении.
Все собрались для совещания и уже поместились вокруг стола, в конце которого находился эрцгерцог. Внезапно отворилась дверь залы, и вошла личность, не известная никому из присутствующих.
Это был маленького роста человек. Для тех лет, которые отпечатывались на его лице, а в особенности, судя по его мундиру главного интенданта первого класса, он был необыкновенно силен как с виду, так и по походке. По своему чину он мог, согласно правилам немецкой иерархии, иметь право на фельдмаршальские почести.
Однако он направился к эрцгерцогу и приветствовал глубоким поклоном, как прекрасно воспитанный придворный кавалер. Затем он сам представился генералу Маку и другим с достоинством человека, стоящего выше их и снисходившего до знакомства с ними.
– Его величество, – сказал он, – пожелали дать мне почетное поручение посетить последовательно все его армии на походе. Я главный интендант Калькнер… Между вами, господа, я думаю, мало кто меня знает, ибо государь соблаговолил меня призвать к службе после очень долгой отставки.
Последовало молчание. Каждый из присутствующих генералов искал в своей памяти какие-нибудь следы из прошлого Калькнера. Мак в особенности был удивлен более других, как человек, старший по возрасту. Он воображал до этого дня, что знает лучше всех кадры главного штаба, и вдруг новое имя прозвучало в его ушах!.. Калькнер!.. Где же, черт возьми, этот Калькнер мог жить и служить раньше, чем представился ульмской армии в качестве делегата императора Франца.
Пришедший, однако, казалось, был знаком с обычаями. Его костюм был вполне правильным, установленным и не казался заимствованным. У него были прекрасные манеры, и он выражался хорошо. Самое большое, что могли заметить в нем, это некоторое стеснение в движениях, когда он в свою очередь садился по вежливому приглашению принца. Его сабля не падала без колебания во всю длину стула, но зато его шляпа была ловко положена рядом с перчатками на столе. Его рука, достававшая из левого кармана, находившегося под лентой и крестом, рекомендательное, может быть, не существующее письмо, была довольно бела.
Эта рука так и не окончила своего жеста. Разрешающая улыбка и любезное слово эрцгерцога избавили его от этого труда. Главный же интендант Калькнер со своей стороны не настаивал. Он тотчас же начал рассматривать пристально и решительно генерала Мака, очевидно, единственного из всех присутствующих, ревнивой прозорливости которого нужно было опасаться. Калькнер объяснил в нескольких выражениях свое желание узнать мнение присутствующих знаменитых генералов.
Читатель простит нам, если мы не войдем в детали прений. В то время как начальники австрийской армии высказывали последовательно свои мнения относительно лучшего расположения войска в случае неожиданного вторжения французской армии и повторяли, что уже по сто раз говорили друг другу, мы предпочитаем поискать, откуда вышел неизвестный их коллега, внезапное появление которого так удивило всех. Мы вернемся в совет позже и довольно рано для того, чтобы узнать результаты.
Прежде всего, как случилось, что никто не подал мысли главному начальнику о таком важном деле, как появление главного интенданта без эскорта их офицеров? Калькнер, как человек осторожный и одаренный исключительной скромностью, вошел в Ульм пешком, один, очень рано утром без барабанного боя и трубных звуков. Но его форма должна была бы его выдать; как же случилось, что никто не знал о его присутствии в городе?
Но Калькнер не удовольствовался тем, что пришел один, он даже явился одетый обыкновенным горожанином.
Но, наконец, какое имя и звание сказал он, чтобы быть принятым без затруднения? Он сказал, чтобы его ожидал хозяин главной гостиницы в городе, почтенный и богатый человек, управляющий судьбою гостеприимного дома, на вывеске которого красуется величественная сосна с написанными под нею словами: «Зеленое дерево».
Калькнер свободно пробрался таким образом в старую баварскую крепость. Затем он написал под рубрикой иностранцев три буквы «К.Ш.К.», сопровождаемые вещей формулой (служба императорского штаба). Его кошелек казался хорошо наполненным, и с него больше ничего не спрашивали.
Затем он почти все утро отсутствовал, после того как заявил, что придет обедать и чтобы ему накрыли обеденный стол в отдельном зале в назначенный час.
– На сколько приборов? – спросил хозяин.
– На три.
Когда он возвратился, немного ранее назначенного часа, его сопровождали действительно два очень известных офицера, принадлежавшие к главному штабу. Один из них был поручик Венд, другой поручик Рульский. Первый принадлежал к свите эрцгерцога Фердинанда. Прямой начальник второго был генерал Киммейер, отряженный на дорогу к Аугсбургу в нескольких верстах оттуда. Войдя в гостиницу, они велели внести в комнаты их товарища тяжелый чемодан, на взгляд переполненный вещами, который их слуга вез за ними в тележке. Во время обеда они выказывали совершенное уважение к скромному горожанину, с которым они сидели за столом. В самом деле, если бы они видели в нем самого высшего начальника, они не обходились бы с ним почтительнее.
К удивлению хозяина, незнакомец, записавшийся в его книге «К.Ш.К.», явился к обеду в великолепном мундире генерала империи. Лакеи искоса посматривали на кресты, украшавшие ему грудь; помощник повара смотрел в притвор двери, чтобы полюбоваться его шпагой, шарфом, лентами и ботфортами.
Он дышал безразличным спокойствием человека, сильного мира сего, привыкшего к почтению презренного плебса. Он чувствовал себя прекрасно в этом «старье», обшитом галунами, и казался в тысячу раз живее, одетый в этот костюм пугала, чем в своей небрежной одежде путешественника. Он говорил мало, но более смотрел и наблюдал, слушая своих собеседников.
Был ли причиной напудренный парик, надетый на нем, или его плохо рассмотрели раньше, только теперь он казался гораздо старше, чем утром. Правда, что он держался все время прямо и его походка осталась так же тверда и быстра. Он дал даже ловкий толчок, чтобы отодвинуть табурет, забытый перед камином, но морщины, незамеченные раньше, изрезали теперь его лоб и глаза. Его лицо как бы поблекло от времени, а губы, сложившиеся в складку от обычной гримасы, выражали беспрестанное напряжение мысли, профессиональную скрытность и, может быть, даже гений.
Правда, его физиономия изменилась в особенности от того, что он срезал усы и совершенно выбрил лицо. Это обнаружило многие детали, оставшиеся раньше незамеченными.
Приглашенные не изменили своего обращения, пока длился обед. Но когда они остались одни после обеда, то их тон тотчас же изменился.
– Скажете ли вы наконец, на что понадобился этот маскарад? Я помог вам, как только мог, его исполнить. Я указал вам лоскутника, оружейника, портного, шляпочника, которые могли вас снабдить частями костюма; но что за сцены намерены вы разыгрывать?
– Вы слишком любопытны, друг Венд! – отвечал псевдоинтендант, в котором, может быть, читатель узнал Карла Шульмейстера… – С вас будет достаточно узнать, что если я собрал часть сведений, благодаря вам и моей личной предприимчивости, относительно настоящей численности императорской армии и проектов ее начальников, то есть еще некоторые детали, ускользнувшие от меня, но я тоже овладею ими.
– Но, – возразил поручик Рульский, – я надеюсь, что вы не будете собирать справки в этом костюме?
– Это – мое дело.
– Извините, – подхватил Венд, – нас видели вместе, и каждый ложный шаг с вашей стороны будет иметь для меня и Рульского самые неприятные последствия.
– Что же?.. Вас будут, может быть, подозревать в соучастии со мною?.. Не беспокойтесь об этом.
– Но ведь…
– Полноте! – перебил Карл. – Вы хотите, чтобы я поставил точку над «i»?.. Пусть будет так! Я поставлю ее. Вы столько же оба поручики, сколько я – интендант! Что вы носите мундир с тех пор, как здесь армия, не может служить причиной тому, чтобы вы, Венд, перестали быть любимым разведчиком его высочества эрцгерцога Фердинанда. По его приказу вас зачислили в контроль главного штаба, хотя вы никогда не были в списке офицеров, по крайней мере, под этим именем. Еще меньше причины, чтобы Рульский не оставался тайным агентом генерала Киммейера, который очень хотел бы забыть, чтобы иметь вас около себя, несчастное столкновение с дисциплинарным советом. Дайте мне, пожалуйста, все высказать! Мы – старые знакомые; при каждом сражении на Рейне мы работали вместе; вы знаете поэтому, что я умею держать слово. Каждому из вас я обещал по пять тысяч франков в случае вашей помощи. Вот они золотом. Откройте наудачу любой из свертков, чтобы убедиться, а теперь, чтобы не терять более времени, выслушайте меня до конца.
В то время как оба соучастника одинаковым движением ногтей торопились раскрыть один из своих пяти свертков, расположенных перед каждым из них, Шульмейстер продолжал:
– В данный момент я от вас ничего не требую. Наш завтрак окончен; теперь два часа: я отправлюсь к генералу Маку… О, не удивляйтесь, это моя мысль!.. Прежде чем я у него выведаю все, что следует, я хочу, чтобы он порасспросил меня, как сумеет. Сегодня вечером вы наведаетесь, здесь ли я еще. В случае, если меня уже не будет, то возвращайтесь в ваши почтенные жилища и ожидайте меня там. Вы, конечно, знаете, тот и другой, какие новости надо сообщить вашим начальникам, если они станут вас расспрашивать ранее сегодняшнего вечера. Этого достаточно. Так мы порешили?
– Да, – ответили в один голос оба агента, – но…
– Прибавлю еще, если все пойдет, как я хотел бы, вы получите через восемь дней такую же сумму, какую я вручил вам сегодня.
Глаза обоих офицеров засияли от радости.
– А затем, – прибавил Шульмейстер, – так как мы отныне сошлись во всем, возвращайтесь к вашим занятиям, а я пойду по своим делам.
Они вышли все трое, сопровождаемые низкими поклонами хозяина и слуг. Но не долго они шли вместе; в то время как Венд и Рульский удалялись в одну сторону, Шульмейстер, или, скорее, его превосходительство интендант Калькнер, направился спокойный и с достоинством к главной квартире, где в это время решалась судьба восьмидесяти тысяч человек австрийской армии.
II
Теперь мы можем возвратиться в военный совет под почетным председательством эрцгерцога Фердинанда и действительным – генерала Мака. Мы в точности знаем намерения всех его участников.
Дело в том, что, наслушавшись всласть в продолжение более часа различных сообщений генералов, фальшивый Калькнер кончил тем, что более ничего не стал понимать. Правда, что раньше чем покинуть Страсбург, он навел справки из хороших источников и имел право считать себя в точности осведомленным. Тем не менее все стратегические соображения, выраженные защитниками Ульма, начали его волновать. Находясь в новой атмосфере, он не считал уже их более нерассудительными. Он дошел до того, что спрашивал себя, не во сне ли он видал или не был ли он сумасшедшим…
Действительно ли видел он Наполеона? Разговаривал ли он с ним? А солдаты Мюрата, чуть не захватившие его при входе в оффенбургский дефиле, прикроют ли они, как предполагал Наполеон, обширное движение флангов, произведенное всеми французскими силами. Не будет ли это, как предполагает Мак, крайняя точка авангарда великой армии, производящей атаку по прямой линии, через Черный Лес?
Одним словом, давая ему секретное поручение, действительно ли Наполеон сказал ему все?
Конечно, они отчасти были правы, не доверяя ему там!.. Впрочем, как допустить, чтобы все генералы австрийской армии были обмануты так легко неосновательными признаками?.. Каким образом среди них не нашелся хотя бы один достаточно развитой человек, чтобы угадать маневр противника и помешать этой хитрости… если действительно существовала хитрость?
В особенности Шульмейстер интересовался, чтобы у него определенно осведомились по этому последнему вопросу, прежде чем установить отношения с немецким главным штабом с целью сказать им лишь то, что могло бы служить в пользу плана Наполеона.
По правде, это был единственный результат, который он мог надеяться получить от смелого предприятия и переодевания.
Он захотел тотчас же выяснить дело.
– Насколько я понял, господа, – сказал он, – вы все допускаете мысль, что неприятель выйдет прямо против нас?
– Разумеется, господин главный интендант, – поспешил ответить Мак, задетый за живое, – люди дела не могут ошибаться!.. Впрочем, я должен вам сказать, что мои сведения об этом вопросе – я подразумеваю, полученные из совершенно верного источника, из самого Страсбурга, – согласуются с прецедентами.
Шульмейстер вежливо поклонился, прежде чем отвечать. Это ему помогло скрыть улыбку, вызванную этим намеком, посланным им же самим из Эльзаса.
– А ваши офицеры того же мнения, генерал? Простите мою настойчивость. Я хотел бы доложить его величеству императору Францу Иосифу всевозможные мнения, что не мешает мне a priori преклоняться перед вашим мнением.
– У меня иное впечатление, чем у нашего начальника, – ответил Венек. – Я думаю, что Бонапарт нам втирает очки, чтобы помешать смотреть в настоящую сторону.
– Я того же мнения! – отвечал мягко генерал Ризе.
– И я тоже! – пробрюзжал Иелашич.
– А! Видите ли, генерал! – возразил Шульмейстер, – эти господа сомневаются.
– Очень возможно, – поторопился ответить Мак. – Но я, со своей стороны, сомневаюсь так мало, что не колебался бы с разрешения его высочества воспользоваться моим авторитетом и предписать необходимым войскам двинуться предупредительной атакой на запад. А моего авторитета, надеюсь, никто здесь не будет оспаривать.
– Конечно, нет! – отвечал Иелашич. – Только я не хочу попасть в капкан и предупреждаю вас, я постараюсь устроиться, чтобы не быть запертым в мышеловку, как другие, когда французы неожиданно очутятся у нас за спиной.
Теперь Шульмейстер знал достаточно, чтобы быть уверенным в необходимости действовать как можно скорее на этих слишком прозорливых офицеров. Но, в то время как Мак тратил свое красноречие, доказывая Иелашичу справедливость своих взглядов, агент прежде всего думал воспользоваться настоящим положением, чтобы пополнять свои собственные сведения.
Пользуясь минутой, пока главный генерал переводил дыхание, он сказал:
– В общем, я вижу, что мнения относительно планов завоевателей могут быть различны, но зато все исполнят свой долг, с какой бы стороны ни была произведена атака. Мне остается сообщить вам кое-какие сведения, собранные в Вене, благодаря официальной и секретной корреспонденции императорского правительства. Его величество совершенно прав так же, как и ваш достойный начальник, генерал Мак, что неприятель собирается выйти именно из Черного Леса. Движения, которые ваши ближайшие ведетты обозначили, отвечают тем, какие ожидал император. Достаточно вам сказать, что наш государь, зная цену армии, которой вы командуете, и силу вашей позиции, вполне уповает на благоприятный результат. Чтобы подтвердить эту высочайшую надежду, я буду вам очень благодарен, если вы скажете мне точно, каким определенным наличным составом вы можете располагать для сражения.
Генерал Кленау, не произносивший еще ни слова, при этом вопросе навострил уши.
– По моему мнению, – продолжал псевдо-Калькнер, – французский узурпатор не может переплыть Рейн с войском более шестидесяти тысяч человек. Это, должно быть, все, что он мог отозвать в такое короткое время из армии, находящейся в Булони и собранной против Англии. Если у вас столько же войска здесь или даже немного меньше, то, когда будут посланы силы укрепленному лагерю, наше положение будет превосходно. Сколькими пушками владеете вы? Сколькими саблями? Сколькими штыками?
Мак открыл рот, чтобы отвечать, а эрцгерцог, остававшийся всегда оптимистом, принялся с обычной любезностью считать силы, находящиеся под его номинальным начальством, как неожиданно грубый голос фельдмаршала Кленау раздался в первый раз.
– Меня удивляет, – сказал он, – что главный интендант, посланный государем, не имеет понятия о положении дел!.. Во всяком случае, я со своей стороны подаю голос против того, чтобы ему сделали сообщения по этому предмету. Подобные вещи должны храниться в тайне, и если бы мой отец был еще жив и предложил бы подобный вопрос, то, несмотря на его мольбы, я ответил бы ему: нет!
Это «нет» было произнесено таким тоном, что Шульмейстер, несмотря на свой апломб, немного всполошился. Он чувствовал, что зашел слишком далеко. Но самое важное – он понял в то же время, что его достоинство не допускает пятиться назад, после того как он подвинулся настолько. Императорский авторитет, представителем которого он явился в совет, не допускал, чтобы он теперь отступал от требования справок, в которых ему уже отказали. С другой стороны, замечания Кленау были настолько справедливы, что поразили всех членов совета. Многие из них стали относиться с недоверчивостью, правда, запоздалой, к дерзкому незнакомцу, перед которым они так свободно высказывались.
Как быть?..
Шульмейстер встал, не выказывая своего беспокойства, которое овладело им при мысли о возможных и неизбежных последствиях его ужасного предприятия. Одно слово, один неосторожный жест могут его выдать, и все это значительное число довольно сильных генералов может схватить его без всякой посторонней помощи. Кроме того, они могут позвать одного из гвардейцев и запрятать его в тюрьму, где недолго ему придется ожидать решения своей судьбы.
Он взглянул между тем, приветливо улыбаясь, на Кленау. Затем его глаза пробежали по внимательным, но бесстрастным лицам других генералов. После этого он взял со стола свою шляпу и перчатки и произнес следующее приветствие:
– В добрый час! С удовольствием вижу, что все здесь исполняют свой долг и говорят лишь то, что должны сказать. Его величество узнает это. До свидания, господа!
И, склонясь перед эрцгерцогом, он прибавил:
– Ваше высочество, позвольте вам выразить мое глубочайшее почтение.







