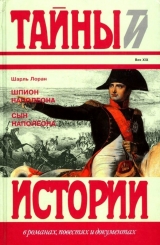
Текст книги "Шпион Наполеона. Сын Наполеона (Исторические повести)"
Автор книги: Шарль Лоран
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Ты не любишь Мюрата? – спросил Наполеон.
– Я люблю молчаливую храбрость и ловкую силу, – ответил Шульмейстер.
– В день Абукира он прекрасно ходил в атаку, заметил Наполеон.
– Потому что было множество народа, который на него смотрел…
– А у Пирамид! А Маренго!
– И в другом месте еще!.. Ваше величество правы. Но он ни разу не брал столько знамен, сколько я дам вам.
– Берегись, смотри! Он способен поддержать такое пари!
– Я только этого и хочу.
– Что ты так восстаешь против него? – спросил Наполеон.
– Не знаю!.. – ответил шпион. – Может быть, инстинктивно… Может быть, потому, что он красив, а я дурен.
VI
Соединившиеся перед Келем полки должны были расположиться на двухдневный отдых, прежде чем приступить к переправе через Рейн. Император приказал начальникам различных корпусов, выстроившихся эшелонами во всю длину реки, явиться самым секретным образом к нему в Страсбург. После продолжительных разговоров с ними Наполеон решил, что все хитрости были излишни, так как неприятель и без них не успеет узнать раньше первых стычек истинную цель его маневра. Что же касается исполнения его плана, то он брал это на себя. Не отступая от плана, составленного им же месяц назад, он хотел окончательно сбить с толку мнение Европы и с этой целью устроил вечером бал для страсбуржцев, пригласив всех своих генералов присутствовать на нем.
Спустя несколько часов приехала из Парижа императрица Жозефина. Хотя медовый месяц уже давно прошел в их семейной жизни, но зато теперь наступала радужная заря империи. Любезная и легкомысленная креолка, получившая год тому назад в соборе Парижской Богоматери императорскую корону из рук своего мужа, все еще находилась под чарующим впечатлением и была приятно взволнована тем неожиданным величием, которое доставили ей усилия и гений этого авантюриста войны, женой которого она сделалась.
Вопреки ее летам, Жозефина все еще была грациозна и более чем когда-либо хороша собою, так как неправильности черт ее лица стушевывались гармонией ее царственного величия. Ее присутствие обещало скрасить этот смело предложенный Наполеоном бал и доставить удовлетворение самолюбию этого властелина. Впрочем, благодаря своей страсти к обществу и роскоши, она с удовольствием явилась в Страсбург. Императрица знала, что она затмит всех самых молодых и красивых дам величественной гибкостью, своей походкой и прелестной улыбкой, которую она как бы нечаянно бросала окружающим. Под ней Жозефина прекрасно скрывала свою усталость. Но более всего она приводила в восторг и вызывала зависть молодых придворных дам своим врожденным изяществом.
Она была так кокетлива, а на этом балу ей предстояло быть царицей вечера; а этого было достаточно, чтобы развеять страх новой императрицы, видевшей в первые же годы своего царствования, что ее короне угрожает европейская коалиция. Но что же могли сделать Австрия, Россия и даже сама Англия, грозная более своими субсидиями, чем армией, против очаровательной и счастливой улыбки государыни, которой Наполеон настойчиво советовал быть как можно прекраснее и наряднее, чтобы возбудить ревность всех женщин, а к себе зависть мужчин?
В девять часов вечера радостно сияющая Жозефина вошла с Наполеоном в главный зал префектуры. Разодетая в шелк, бархат и кружева и вся усыпанная бриллиантами, с маленькой бриллиантовой короной на своих прекрасных волосах, императрица была очень эффектна. Наполеон тоже улыбался. Его ясные, живые глаза с горделивым доверием перебегали с толпящихся офицеров на группы дам, расположившихся по сторонам залы, где должна была пройти императорская чета, как бы отыскивая в самых отдаленных рядах дружеские фигуры, которые напомнили бы ему прошедшее. Снова увидев в этот торжественный чао товарищей своих первых битв, он, казалось, говорил им: «Что ты поделывал после Тулона, после Италии и Египта?» «Я знаю, что ты около меня, и я рассчитываю на твою храбрость и пре данность». «Будь завтра тем, чем был вчера».
Среди приглашенных, которые находились с правой стороны от Наполеона, он тотчас же заметил одну группу, менее блестящую, чем другие. Только одно лицо, составляющее центр этой группы, отличалось богатством костюма. Вся грудь его была вышита золотом и украшена аксельбантом, а на его меховой шапке красовались громадные белые перья. Что же касается офицеров, которые его окружали, то они точно все сговорились явиться на бал в походных костюмах. На них были накинуты тяжелые походные шинели, и вместо шелковых чулок на ногах были надеты высокие запыленные сапоги, на которых еще виднелись следы путешествия. Наполеон очень взыскательный к этикету, по-видимому, однако, не был ни удивлен, ни оскорблен этой небрежностью.
Напротив, его лицо прояснилось еще более; чувство доверия и приветливости выразилось в его глазах, как только он их заметил.
Он замедлил шаги и, обращаясь к императрице, сказал громко:
– Видишь, Жозефина, вот эти заслуживают, чтобы перед ними остановиться. Это четыре славные поддержки империи. Ты знаешь их; помнишь, они были в Тюильри в праздничных костюмах; взгляни на них, как они одеваются, чтобы одержать победы! Вот Даву, который ведет двадцать шесть тысяч человек 3-х корпусов великой армии в Германию. Вот Сульт, начальник сорока тысяч бойцов 4-го корпуса. Вот Ней, храбрый из храбрых, у которого в распоряжении только двадцать четыре тысячи человек, но он один стоит их всех. А вот Ланн, которого я вызвал из Португалии в Булон; я возьму его с собой из Страсбурга в Вену, потому что я не хочу и не могу ничего сделать великого без него. Кроме них, у меня есть Бернадот, который направляется из Ганновера во главе семнадцати тысяч старых солдат, Мармон, который идет из Голландии с двадцатью тысячами человек; он известил сегодня утром, что потерял дорогой только девять отсталых, и Ожеро, который будет здесь только через восемь дней с пятнадцатью тысячами ветеранов, которых он ведет сюда из глубины Бретани… О Мюрате уже я не говорю: ты, должно быть, его видела первого при входе в зал, так как он прекрасен, как небесное светило. Скажи им всем доброе слово, мой друг! Судьба Франции в их руках: это – мои наместники.
После этих слов в зале произошла сцена, трогательная по простоте… Эта императрица, разодетая в белое с золотом платье, с накинутой на своих грациозных плечах красной бархатной мантией, опушенной горностаем, должна была в продолжение одной минуты олицетворить целую нацию перед глазами начальников армии. Она слегка пожала концы затянутых в перчатки пальцев Наполеона, как бы прося представить себя этим героям, хотя она уже давно их знала. Пока они, бледные и озабоченные, смотрели на нее, она сделала им низкий придворный поклон, выражая свою почтительную благодарность и чувство восхищения.
Казалось, что сама Франция приветствовала своих маршалов.
– Благодарю вас! – сказала она, обращаясь к ним и выпрямляясь во весь рост.
И, бросив грациозно ласкающий взгляд на их походный костюм, она продолжала свой путь через весь зал, среди низко склоненных от волнения и почтения голов.
– Черт возьми, – сказал Ланн своему соседу, когда императорская чета удалилась, – изобретательно же это животное.
И его маленькие черные глазки заморгали, чтобы проглотить несколько слезинок, так как, по словам Наполеона, «Ролан армии» был в одно и то же время самый впечатлительный и плаксивый человек… когда не было Ожеро.
Даву и Сульт наслаждались с законной гордостью оказанной им честью. Что же касается до Нея, то его воинственное лицо сделалось настолько красно, что его волосы огненного цвета и морщины на щеках, казалось, превратились в белокуро – золотистые.
Мюрат слышал лишь похвалы своему костюму.
Вскоре праздник оживился, хотя потерял свою торжественность. Наполеон удалился в другую комнату, оставив Жозефину сидящей в конце залы среди придворных дам.
Но Жозефина вздумала воспользоваться таким важным случаем, чтобы больше сблизить некоторых из своих прежних приятелей, старинных аристократов, которыми она любила себя окружать, с воинами-авантюристами, уже образовавшими, хотя и без титулов, новую аристократию, рожденную победами. Около нее находился любезный старый граф Коленкур, смотревший с очевидным сочувствием на маршалов, которым император только что оказал необыкновенную честь.
– Возьмите под руку де Коленкура, дорогая герцогиня, – сказала Жозефина, обращаясь к своей соседке, г-же Ларошфуко, – проводите его к Нею, Ланну и другим. Он знает их только по имени. Представьте их от моего имени. Вы согласны, скажите, мой дорогой друг? – спросила она своего верного телохранителя.
– Я буду очень счастлив тоже приветствовать этих господ, – ответил, поклонившись, всегда любезный старый дворянин. – Это превосходные воины, и я часто сожалел, что мог ими любоваться только издали.
– Вы не очень будете строги к их манерам? Не правда ли? – спросила Жозефина. – Подумайте только, что они сыны своих подвигов и чаще посещают лагерь, чем салоны.
– Э, ваше величество, не все ли мне равно? Вы знаете, что я сам старый рубака.
При этих словах Коленкур любезным жестом предложил свою руку г-же Ларошфуко.
– Если вы позволите, – сказал он, направляясь к группе прославленных начальников, – то представьте меня сначала маршалу Ланну. Этот человек мне очень нравится. У него прекрасная воинственная фигура. А затем…
– А затем? – спросила г-жа Ларошфуко…
– Признаться ли вам в моей слабости? Он пудрит волосы, а потому, должно быть, самый любезный из маршалов.
Герцогиня имела хитрость ничего ему не ответить и направилась с ним к маршалу. Она сказала, подойдя к Ланну:
– Ее величество поручила мне представить вам г-на де Коленкура, старого генерала, очень заслуженного. Он всегда любил славу и очень желал бы познакомиться с вами.
Лицо Ланна осветилось доброй, радушной улыбкой, и, крепко пожимая руку Коленкура, он сказал:
– Очень тронут, старина! Я люблю старинных воинов. У них всегда можно чему-нибудь научиться. Скажите, вы служили в армии – двуногой или четвероногой?..
Удивленный Коленкур не мог сдержать ужасный приступ кашля, который помог ему скрыть свое удивление.
– О! Черт возьми! – продолжал Ланн. – По-видимому, мы теперь поступили в полк королевских пер… что ли?!
Так как кашель Коленкура усиливался, то он стал тихонько поколачивать в спину «старины», как делают детям, когда они подавятся, быстро глотая кушанье.
– Черт! Черт! Это упорно, как коклюш… Причина известна, папочка!
Камергер Жозефины едва удерживался от гнева, и хотя он сердился, но победил в себе дурное настроение и протянул, улыбаясь, свою коробочку с конфетами маршалу.
– Ну, еще, – заметил последний, – теперь бонбоньерка!.. Ах, уж эти свиньи, офицеры старого режима, поверите ли, что они умели заботиться о себе.
Но не успел он окончить фразы, как один из его адъютантов приблизился к нему и шепнул ему на ухо несколько слов. Маршал сразу совершенно переменил тон.
– Простите меня, г-н Коленкур, – сказал он громко. – Кажется, что вы отец двух храбрых молодых людей, из которых один в двадцать семь лет уже полковник в карабинерском полку… Это уже одно доказывает, что вы хороший француз… Вы воспитали для страны ваших мальчиков! Вы их не продали за границу, как многие другие!.. Позвольте мне расцеловать вас.
И, не дождавшись разрешения, он обхватил своими крепкими руками плечи старого аристократа и прижал его крепко к своей груди.
– Прекрасный воин! Прекрасный воин! – говорил Коленкур императрице несколько минут спустя. – Но, Боже мой, какой у него разговор!..
– Но вы хотели познакомиться в особенности с генералом Ланном, граф? – спросила Жозефина.
– Это правда, но я никогда не предполагал, что можно в одно и то же время пудриться по-маршальски и иметь манеры «sans-cullottes».
– Не хотите ли, чтобы вам показали других? – спросила Жозефина.
– Благодарю вас, ваше величество, я подожду еще немного: мне нужно прийти в себя. Как я подумаю, что выбрал этого по случаю его пудреных волос!..
– Что было бы, – возразила тихо г-жа Ларошфуко, – если бы вы услышали Ожеро!..
– Как?! Тот еще лучше?!
Внезапно появился Наполеон. Но теперь это был не тот спокойный и счастливый человек, который несколько мгновений тому назад проходил по зале с Жозефиной. Смертельно бледный, с бледными губами и нахмуренными бровями, он искал глазами маршалов и незаметно для других подзывал их к себе. Толпа раздвинулась. Вскоре у двери, в которую он только что вошел, собралась группа, с виду очень внушительная. Наполеон в своем легендарном мундире, в белых шелковых панталонах и чулках, Даву, Ней, Сульт и Ланн в походных одеждах. Мюрат, блестящий, как венгерский магнат, и, наконец, маршал Дюрок, возвратившийся из Берлина и напрасно пробовавший склонить молодого прусского короля к союзу.
– Он колеблется? – сказал император. – Он хочет меня провести? Он ожидает события, чтобы решиться!.. Хорошо, это заставляет меня отправиться немного раньше. Тем хуже для него! Бернадот и Мармон пройдут через его владение Анспах, вот и все. Они пройдут, если возможно, друзьями, а если надо – врагами. И я отплачу ему. Тебе, Мюрат, лучше было бы отправиться немедленно. Сегодня же вечером возьми с собой четыре самых быстрых полка, переправься через реку, иди всю ночь и явись с двумя из них к первому дефиле. Два других пройдут к следующему, между тем как ты будешь притворяться, что делаешь рекогносцировку, направленную к югу. Как только неприятель увидит тебя, отступи и продолжай свой путь. Те, кто будет идти впереди тебя или кого ты определишь, должны следовать тем же приказаниям. Затем я пришлю тебе инструкции с другими полками. Отправляйся!.. Ах, кстати, не забудь мой совет: я не хочу, чтобы завязалось настоящее дело. Запрети драться!
Выслушав приказание Наполеона, Мюрат вышел, надев на голову свою громадную меховую шляпу с белыми перьями. При виде его все дамы направили на него свои взоры, но Мюрат первый раз в жизни забыл о своем фатовстве. Он отправлялся во главе авангарда великой армии, и, конечно, не было времени, чтобы заниматься женщинами.
Между тем Наполеон продолжал отдавать свои приказания другим маршалам.
VII
Было четыре часа утра. Начальник поста при понтонном мосте, расположенном против Страсбурга, внимательно осматривал стоящего перед ним мужчину с рыжими волосами, который только что вручил ему бумагу. В ней заключалось следующее:
«ПРИКАЗ
Податель сего приказа, Карл-Людвиг Шульмейстер, уроженец Нового Фрейштата (в Германии), должен немедленно покинуть французскую территорию, а потому предписывается как гражданскому, так и военному начальству, беспрепятственно пропустить Шульмейстера, его семью и багаж. Он должен будет, однако же, подчиниться настоящему приказу до 28 сентября утром, в противном случае будет сделано особое о нем постановление.
Префект Шее
Дивизионный генерал Савари».
Прочитав приказ, офицер спросил Шульмейстера, указывая на едва обрисовавшуюся в темноте повозку.
– Что у вас в повозке?
– Моя жена… – ответил Шульмейстер. – Да вот и она сама, посмотрите! – В этот момент Берта высунула голову из-под натянутой над экипажем парусины. – Позади нее на соломе спят еще двое детей, – прибавил Шульмейстер.
– Для моего рапорта мне необходимо проверить, что вы везете с собой, – заметил офицер.
– Проверяйте! Только, знаете ли, я буду вам очень благодарен, если вы можете осмотреть, не разбудив детей.
Пока они переговаривались, к повозке приблизился солдат, держа над головой большой фонарь, и принялся осматривать внутренность экипажа. Офицер, в свою очередь, тоже бросил взгляд, но ничего другого не нашел, кроме чемодана очень незначительных размеров и двоих детей.
Берта в это время обернулась лицом к свету, так что осматривающие повозку могли видеть ее тонкий профиль, оттененный золотистой линией на темном фоне ночи и окруженный ее волосами, как бы легким ореолом.
«Черт возьми! Красивая женщина», – подумал про себя офицер.
– Ну, так проезжайте, господин немец, и постарайтесь, чтобы вас в один прекрасный день снова не нашли здесь.
– Забудем прошлое, капитан! Надеюсь, что вы снова меня встретите здесь и с самым законным разрешением.
В ответ офицер только вежливо улыбнулся, благодаря приятному личику, которое он видел в экипаже. Шульмейстер уселся на свою скамью в тележке, и лошадь тронулась скорой рысью.
Спустя несколько минут Берта спросила мужа:
– Ты ничего не слышишь? Как будто вправо от нас раздается топот ног войска и звон оружия?
Шульмейстер остановил лошадь и стал прислушиваться. Нет никакого сомнения. Слышен был очень явственно правильный такт галопа, отбиваемого вдали по шоссе другой дороги. Металлический звон сабель вторил этому ритмическому топоту. Хотя шум мало-помалу удалялся к югу, но опытное ухо могло разобрать его значение.
– Там идет, по крайней мере, целый полк, – сказал вполголоса Шульмейстер, как будто рассуждая сам с собою. – По какой дороге, черт возьми, они идут? Можно подумать, что они направляются к Фрейнбургу!.. Ах, я знаю. Это начало необходимого отвода глаз, чтобы обмануть… тех. Это – уловка. Кавалеристы покажут свои мундиры со стороны, противоположной той, где происходит настоящая атака. В дорогу! В дорогу! Мне нельзя терять ни минуты, если я хочу спокойно проехать по ту сторону гор.
Он тронул вожжою лошадь, и она снова побежала. Большие глаза Берты посмотрели на него вопросительно.
– Послушай, – сказал он жене, погоняя лошадь, – мы скоро будем в Оффенбурге, находящемся самое большее в пятнадцати верстах от реки. Я оставлю тебя там, чтобы продолжать мой путь пешком, пока еще не наступил день. Я предупредил вчера нашего старого друга Родека, что ты пробудешь у него с месяц. Этот честный человек многим обязан нам и очень любит тебя, а также и детей. Кроме того, он знает, что не будет в убытке, поместив тебя в своем доме.
Ты найдешь его совершенно устроенным, для того чтобы вы трое могли там поместиться.
– А ты? – спросила Берта.
– Я, моя Берта, я уйду в Ульм, чтобы исполнить свой долг.
– Относительно кого?.. Увы, Карл, поручение, которое тебе дали, не будет ли состоять опять в том же, чтобы кого-нибудь обмануть?.. – спросила Берта.
– Дорогая и пугливая совесть, успокойся! Благодаря тому, кому я служу теперь, у нас начнется новая жизнь, и спящие дети увидят спокойное будущее. На моей ответственности громадная задача, и я отправлюсь вперед один, чтобы атаковать неприятеля, а я уверен в его поражении. Это предприятие, за которое никто другой не мог бы взяться, есть выкуп за мою свободу и за прощение, которое мне даровали. Когда я выполню его, ты увидишь, что я не буду более никогда ни притворяться, ни прятаться. Доверься мне и будь мужественна, дорогая жена.
Она молчала, смущенная и беспокойная… Молодая женщина представляла себе, каким ужасным опасностям подвергается ее муж. Эти опасности заставляли ее в одно и то же время бояться и краснеть. И где-то там, в самой глубине ума, за той таинственной завесой, где начинают видеть уже глаза души, рисуя себе внушающие страх события с самой жестокой и необыкновенной точностью, она узнала в человеке, стоящем на коленях с повязкой на глазах перед ротой солдат, готовых его расстрелять, черты лица своего Карла… Около него стоял громадного роста кавалерист в вышитом золотом мундире, со шляпой, украшенной белыми перьями, и с короткой шпагой, которую он поднял, чтобы дать сигнал открыть огонь.
Лязг колеса, попавшего на камень, заставил сильно вздрогнуть Берту, она приняла его за страшный грохот выстрелов… Карл обнял ее и успокоил ее опасения, что заставило молодую женщину улыбнуться. Он указал ей на зарю и сказал:
– Смотри, вот и день!
Солнечные лучи были еще далеко за вершинами Малых Альп Швабии, но в неопределенном еще утреннем освещении дорога казалась чернее, а долины светлее. Равнина поднималась мягкими уступами к косогору, где начиналась чаща густого Черного Леса. Вдали отражалась сероватым силуэтом на темном фоне сосен деревня: это был Оффенбург.
Далеко ли это? Нет. Напротив, путешественники были совсем близко от нее. Иллюзия, мало-помалу исчезающая, удвоила расстояние. Шульмейстер выскочил из тележки, даже не желая разбудить Ганса и Лизбету, которые спали, свернувшись на соломе. Он сделал прощальный жест рукой, тогда как Берта, подхватив вожжи, направила лошадь к первому дому. Шульмейстер пошел по извилистой тропинке, которая должна была его привести через несколько сотен метров к входу в дефиле.
С радостным сердцем он легко вскарабкивался по косогорам. Какая была для него новость топтать свободно землю и идти в свое удовольствие к намеченной цели!.. Какая гордость быть солдатом Наполеона и гонцом армии, а не торговцем секретов и продажным предателем! Он чувствовал, что его честь наполовину восстановлена и он сделался как будто выше.
Шульмейстер смотрел на окружающие его деревья, которые, казалось, тоже хотели возвыситься одно перед другим, взяв приступом холмы, и вдруг, как бы остановленные, укоренились на месте в самой середине приступа. На них был красноватый колорит осени, но трава и мох у их корней сохраняли весенний вид. Тропинка была очаровательная: она то поворачивалась, то поднималась, то суживалась, то опускалась. Но вдруг показалось между ветвями деревьев солнце, это было для путника непреодолимой и в то же время безрассудной радостью. Влажные листья искрились; золотистый отблеск ласкал высокие коричневые стволы дубов. Окончательный свет наложил немного бледно-зеленого колорита на темные ветви сосен…
Вскоре он достиг настоящей дороги и нашел ее еще более пленительной. Какая прекрасная вещь – дорога. Это состояние всех, как бедных, так и богатых, как дикого зверя ночью, так и птиц днем. Леса и долины направо и налево могут иметь владельцев, которые их закрывают и стерегут. Дорога же всегда открыта, всякий человек может проходить по ней. На ней нет границ; привал удлиняется, согласно крепости пешехода, и даже сам горизонт, который мог бы служить границей, отодвигается и исчезает по мере приближения к нему.
Шульмейстер быстро продвигался. Всякий раз, как он оборачивался, он видел у своих ног просыпавшуюся в утреннем тумане долину Рейна необъятной и светлой. Перед ним почти прямо расстилалась дорога, ведущая в Гегенбах, а оттуда в самое сердце гор, близ Гайзаха, чтобы затем выйти в долины Вюртемберга. Она слегка извивалась, как широкая желтая лента, покоящаяся на громадных зеленых волнах.
Он заметил справа маленький город Лар, уже полный движения…
В самом деле, как же случилось, что он различал там в такой ранний час столько приходящих. Земледельцы и рабочие, идущие на свои занятия, не имеют обыкновения подымать такую пыль. Да они и не загромождают так все улицы; они не представляют собою таких значительных черных масс, перемещающихся с такой правильностью. Что же это такое?
Шульмейстер присел на каменистый утес и вынул из кармана коротенькую подзорную трубку. Едва он приблизил ее к глазам, как воскликнул:
– Как я глуп! Да это кавалерия, которую я слышал сегодня ночью. Они сделали привал, а теперь приготовляются снова отправиться. А… да, вот я вижу блеск сабли, которую вытаскивают из ножен… Сейчас подадут трубный сигнал… Отлично! Вот он: это драгунский мотив! – воскликнул Шульмейстер.
Он услышал несколько отдаленных нот и отрывок долетавшего сигнала, чтобы седлать лошадей…
– Наверно, это драгуны!.. Я вижу отблеск красок и искры, которые обозначают карабины. Как будто они направляются в эту сторону. Живо! В дорогу!
Он встал, положил трубку в карман и повернулся, чтобы пуститься в путь… Но внезапное удивление заставило его тотчас же попятиться: два французских гусара, соскочившие с лошадей, которых они держали за поводья, прицеливались в него спокойно из своих больших пистолетов.
Откуда они вышли?
Шульмейстер не мог знать распоряжений Наполеона: он не подозревал подробности хитрого маневра. Он угадывал только главные линии его. Между тем как драгуны шли по направлению к соседней долине, другой кавалерийский полк Мюрата, отправившийся ранее, уже достиг входа оффенбургского дефиле. Стоящие перед Шульмейстером гусары составляли один из его патрулей. Они заметили его, когда он наблюдал, вскарабкавшись на утес, и направились в его сторону, чтобы расспросить его, а при необходимости и захватить.
– Во фронт! – сказал один из них, постарше. – Что ты там фабрикуешь, краснолицый, со своей пушченкой в глазу?
Карл принял самый глупый вид и сделал знак, что ничего не понимает, чего от него хотят. Однако ж он все-таки тихо приблизился к ним.
– Ты только говоришь, что не понимаешь по-французски? Прекрасно!
– Удобно же будет нам объясняться! – заметил один из солдат. – Не стыдно ли тебе в твои годы быть таким невеждой!..
– Простите, гусары, может быть, вы знаете по-немецки?
– Смотри-ка, заговорил!.. Полно, отвечайте, о чем у вас спрашивают.
– Я смотрел на солдат, вот там…
– Откуда вы?
– Я живу в Оффенбурге, в деревне, которую вы не можете видеть из-за поворотов. Она находится по эту сторону, в получасовом расстоянии.
– Так значит, вы прогуливались? Что же, вы взяли с собою эту карманную игрушечку для вашего увеселения?..
– Без сомнения! – ответил Шульмейстер.
– Да… Отчего же вы торопитесь направиться в противоположную сторону от вашей проклятой деревни, имя которой я уже забыл?.. Ага! Это вас беспокоит! Гм, что я заметил?! Хотите, я скажу вам? Вы расскажете людям, находящимся на другом конце этой дороги, т. е. кейзерликам, все, что вы только что видели? Вот вам!..
– Но я уверяю вас…
– Без лишних фраз! Следуйте за мной, прошу вас, по доброй воле, – в противном случае!..
Шульмейстер прежде всего рассудил, что всякое сопротивление бесполезно. Он принял приветливый вид и, склонив низко голову, приблизился еще на несколько шагов, чтобы послушно отдаться двум солдатам. Он ни одним движением не выразил сопротивления, ни тогда, когда кулак ветерана сурово опустился к нему на плечо, ни тогда, когда пальцы рекрута схватили его за воротник. Но хладнокровие мало-помалу вернулось к нему, и он стал спокойно взвешивать все обстоятельства.
«Нужно ли было повиноваться? Или лучше сопротивляться?»
Он совершенно неожиданно был поставлен в это странное положение. Пожертвовать жизнью в случае его бегства или испортить успех порученного ему дела, если он допустит себя взять? Неожиданный противник, стоящий перед ним, принадлежал именно к партии, которой он хотел служить.
Если он последует за гусарами, то они, наверное, отведут его к офицеру, который его станет расспрашивать, а он не может ему ответить ничего удовлетворительного. Его обыщут и найдут довольно значительную сумму денег, затем бумаги и в особенности приказ об изгнании, который докажет его немецкое происхождение, а это возбудит подозрение. Самое благоприятное для него было, чтобы его задержали до более подробных справок, но в таком случае – мат его предприятию.
Сто раз лучше подвергнуться выстрелам и погоне, но спастись бегством. Можно себе представить, как быстро он все это сообразил, и когда оба гусара приготовились прыгнуть на лошадей, все было уже кончено…
Увы! Нет совершенства! Ветеран, до тех пор говоривший, был отличный солдат, но раб постановлений. Чтобы взобраться в седло, он левою рукой захватил по всем правилам искусства поводья и прядь гривы, а правой, после того как запрятал в кобуру разряженный пистолет, он зажал в кулак заднюю луку седла. Но, в то время как он приподнимался с земли, Шульмейстер наклонился, схватил его за правую ногу и с такой силой поддал его вверх, что злополучный ветеран, пролетев гораздо выше своей лошади, упал во весь рост на мох на другую сторону.
Второй гусар в это время тоже вскарабкивался на свою лошадь, которая закрывала своей фигурой происходящую сцену. Когда он уселся удобно верхом, то, к его крайнему удивлению, не увидел более ни своего товарища, ни узника. Шульмейстер, не выпрямляясь, пробрался, скользя под лошадью невинного рекрута, после чего скрылся в чаще леса.
В одно время оба солдата, один с трудом поднимаясь, другой стараясь понять, почему его «старина» изменил закону равновесия, казалось, советовались глазами.
– Черт возьми, – вскричал первый, – где же он?
Если можно сказать, что немота иногда бывает выразительна, то второй гусар достиг высоты приверженцев Цицерона, подняв плечи до ушей и вытаращив глаза, между тем как углы его рта опустились совершенно. Вся его фигура, с ног до головы, казалось, говорила:
– Я не знаю!
Вдруг послышался с левой стороны какой-то шорох, как бы произведенный убегающим диким зверем, и его мозг сразу прояснел. Он схватил пистолет и хотел выстрелить.
– Глупости! – вскричал ветеран. – Приказ отдан не стрелять. За ним!..
И оба, стегая своих лошадей, бросились по бесконечным тропинкам вдогонку за краснолицым крестьянином, который очень был невежлив.
Шульмейстер бежал так быстро, как контрабандист. Чтобы верно направляться между кустарниками и скалами, ему служил безошибочный проводник – солнце. Направляясь прямо на него, он шел к востоку, в сторону неприятеля, т. е. к спасению, так как, увы, за ним гнались друзья.
Он выгадал короче путь до места, перерезая тропинки, по которым его преследователи должны были проезжать. По временам он надеялся совершенно от них избавиться, так как звук копыт их лошадей становился все отдаленнее и слабее. Однако шум их галопа совершенно не исчезал. Разве они знали так основательно лес, они, чужеземцы, явившиеся, без сомнения, сюда впервые?
Нет, тут должно быть что-нибудь другое… После двадцатиминутного бешеного бега Шульмейстер едва дышал. Его лицо и руки были совершенно расцарапаны обо все кустарники, между которыми он спасался, его шаги не были уже так уверены. Он наталкивался на деревья, желая избежать их, спотыкался о корни и ветви цветов, стелющихся по земле. Пот лил с его лба… Он был более не в силах…
Шульмейстер остановился и стал прислушиваться. Адский топот копыт продолжался!.. Но дело было хуже: топот как будто бы умножился. Уже не две лошади гнались за ним по пятам. Он слышал со всех сторон, справа, слева, впереди и сзади, звук оружия, движение лошадей и голоса людей!
Он был окружен.
Более нет сомнения: два солдата, должно быть, разыскали своих товарищей, рассказали свое приключение, и в лес был спущен целый взвод, а, может быть, и эскадрон, чтобы пресечь ему дорогу.
Эскадрон? Так что же, тем лучше! Там будет штаб-офицер или, по меньшей мере, капитан, и ему удастся объяснить… Увы! Что же мог бы он сказать им? Кто ему поверит? С ним нет приказа, ни одного письменного свидетельства, подтверждающего его слова. Напротив, все его обвиняло.
Только и есть одно средство выйти из этого положения: это – зарыть куда-нибудь деньги и бумага. Если бы он очень захотел, то его не нашли бы ранее пяти добрых минут. У него есть время…







