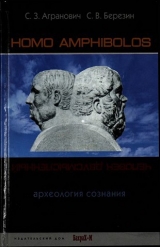
Текст книги "Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания"
Автор книги: Сергей Березин
Соавторы: Софья Агранович
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Любопытно, что случайное падение, имитирующее сильную боль и страдание, до сих пор является излюбленным приемом комедии положений и клоунады. Архаические формы смеха живы и сейчас, но находятся в состоянии постоянной репрессии и корректировки со стороны возникающих табу. Поэтому в некоторых мифологиях ритуальный смех при расчленении хаоса весьма редуцирован. Таков, например, античный миф о расчленении Пифона Аполлоном. Совершенно другую картину мы наблюдаем в древнекитайской мифологии. Миф о хаосе, который у китайцев носит имя Хунь-тунь, и сотворении Вселенной явно насыщен мощным смеховым зарядом.
Владыку Южного моря звали Шу – Быстрый, а владыку Северного моря звали Ху – Внезапный, а владыку Центра – Хунь-тунь – Хаос. Шу и Ху часто ради развлечения навещали Хунь-туня. Хунь-тунь встречал их необычайно приветливо и предупредительно. Однажды Шу и Ху задумались о том, как отплатить ему за его доброту. Каждый человек, сказали они, имеет глаза, уши, рот, нос – семь отверстий на голове, для того, чтобы видеть, слышать, есть и т. д. У Хунь-туня не было ни одного, и жизнь его не была по-настоящему прекрасной. Самое лучшее, решили они, пойти к нему и просверлить несколько отверстий. Взяли Шу и Ху орудия, подобные нашим топору и сверлу, и отправились к Хунь-туню. Один день – одно отверстие, семь дней – семь отверстий.
Акт творения укладывается у них в то же время, что и у библейского творца.
Китайский мифолог Юань Кэ отмечает в этом древнем тексте, включающем в себя одну из основных мифологических концепций сотворения мира, явный комический оттенок. Хунь-тунь, на теле которого Шу и Ху, олицетворяющие быстротечность времени, просверлили семь отверстий, умер, но в результате возникли Вселенная и Земля. Отмечая, что письменная фиксация китайских мифов является довольно поздней (всего лишь около двух тысяч лет назад), а записи в древних книгах крайне скудны и лаконичны, и поэтому восстановить подлинный облик древнекитайской мифологии весьма трудно, Юань Кэ замечает, что есть основания выделить более позднее представление о хаосе. Так, хаос Хунь-тунь в преданиях последующих поколений превратился в нечто неприятное. Хунь-тунь там – это дикий зверь, похожий на собаку и бурого медведя, имеющий глаза, но ничего не видящий, имеющий уши, но ничего не слышащий. Столкнувшись с добродетельным человеком, Хунь-тунь в дикой ярости набрасывается на него, а к злому, дурному человеку и насильнику подползает, кивая головой и махая хвостом.
Китайский миф, как мы видим, зафиксировал в своих относительно поздних пересказах значительную роль смеха в акте расчленения хаоса и космогонии.
Стоит заметить, что любой космогонический миф повествует о том, что разъятие, разрубление, разрезание хаоса порождает элементы, из которых строится мир, космос. Есть основания предполагать, что эти мифы являются попытками воссоздать не процесс формирования Вселенной, поскольку наши предки жили в природной среде, упорядоченной ее объективными законами, а мыслительным экспериментом по воссозданию состояния сознания переходного существа, стоящего на грани между животным (или почти животным) и формирующимся человеком. Вряд ли в головах этих существ царили благополучие и порядок. Развивающаяся рефлексивная функция, порожденная резким изменением информационного поля, лишала их упорядоченности жизни, основанной на инстинктах. Человеческий разум только формировался и еще не успел выстроить мифологическую модель Вселенной, границы были неустойчивы, бинарные оппозиции только складывались. Все это, вероятно, не могло не вызывать невротическую дезориентацию и мучительную неопределенность. Может быть, это и был хаос?
Одной из главных черт хаоса, связанных с представлением о его нерасчлененности и синкретическом единстве, некоем сращении всего и вся, полном отсутствии четких моделей, является его протеизм, то есть произвольная, спонтанная и безграничная возможность превращения всего во все. Эта безграничная свобода превращений при отсутствии всяких границ собственно свободой и не является. «Переливы» хаоса, как всполохи северного сияния, «игра» хаоса, как блики на воде, не имеют никакого смысла, последствий и логики до тех пор, пока не появляется космос. В этом отношении гротеск можно рассматривать как недоструктурированные, недоразъятые «фрагменты», куски хаоса, прорвавшиеся в только что возникший космос и там продолжающие переживать метаморфозы. Гротеск – это модель, еще не обретшая совершенства и внутреннего баланса и стремящаяся к ним. Встреча с гротеском в силу его изначально остаточной двусмысленности всегда вызывает явную неопределенность, страх и еще не явленный, потенциальный, как бы рождающийся смех. Гротеск – это уже модель, то есть часть космоса, жизни, человеческого мира, но, с другой стороны, в силу своей незавершенности, «недомоделированности», «недоделанности» он вызывает постоянную рефлексию и неуверенность по поводу границы.

Давая свое определение гротеску, М.М. Бахтин рассказывает историю появления этого термина в эпоху Возрождения. По его словам, в Риме в XV веке при раскопках подземных частей терм Тита был обнаружен до того времени неизвестный вид римского орнамента, который назвали по-итальянски от слова «grotta», то есть грот, подземелье – гротеск. Описание этого орнамента у М.М. Бахтина является одновременно и тонким анализом его природы и особенностей. М.М. Бахтин пишет:
Вновь найденный римский орнамент поразил современников необычайной, причудливой и вольной игрой растительными, животными и человеческими формами, которые переходят друг в друга, как бы порождают друг друга. Нет тех резких и инертных границ, которые разделяют эти «царства природы» в обычной картине мира: здесь, в гротеске, они смело нарушаются, нет здесь и привычной статики в изображении действительности: движение перестает быть движением готовых форм – растительных и животных – в готовом же и устойчивом мире, а превращается во внутреннее движение самого бытия, выражающееся в переходе одних форм в другие, в вечной неготовности (выделено автором) бытия. В этой орнаментальной игре ощущается исключительная свобода и легкость художественной фантазии, причем свобода эта ощущается веселая (разрядка автора), как почти смеющаяся вольность (разрядка автора) [151]151
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. С. 40.
[Закрыть].
Люди эпохи Возрождения дали этому типу римского орнамента название по месту его обнаружения, то есть относительно случайное. Так же тип видения и отображения действительности в этом орнаменте терминологически определяет и М.М. Бахтин. Мы берем на себя смелость утверждать, что участники раскопок подземных помещений терм Тита – люди эпохи Возрождения – не могли не быть знакомы с образами таких существ, как химеры, сатиры, кентавры, сфинксы и т. п., то есть собственно гротескные фигуры им были известны. Что же так поразило их в увиденном? Они увидели, конечно, весьма позднюю, модернизированную, полностью относящуюся к области искусства, где царит вольная художественная фантазия и веселье, попытку изображения хаоса. Заметим, что название, которые получило это новое для людей XV века художественное явление, и случайно, и неслучайно. То, что роспись именно такого характера была сделана римскими художниками не в верхних помещениях терм, а в подземелье – дань архаической традиции: вторичный, хтонический хаос мыслился пребывающим в подземном мире. Роспись, сделанная на стенах подземелья, маркирует его как место хаоса. И в данном случае не столь важно, насколько выбор тематики осознавался римскими живописцами. Их вела уже почти переставшая осознаваться мыслительная традиция, восходящая к архаическому мифу. Участников раскопок поразило проступающее сквозь веселье и изящество форм римского искусства архаическое видение мира с его универсальной метаморфозой, то есть безграничной возможностью перехода всего во все, в конечном итоге сметающей всякий ритм и художественность и превращающей мир в некую телесную «нерасчлененность», в аморфную массу первообразов архаического сознания. Увиденное в подземелье было не гротеском, а тем первичным материалом, из которого после его разъятия родится гротеск.
В мифологиях всех народов гротескное существо изначально – это хтоническое чудовище, сражающееся с человеком. Сражение хтонического чудовища с человеком и победа человека над ним является традиционной темой архаического эпоса (по терминологии В.М. Жирмунского – богатырской сказки) и одним из распространеннейших сюжетов героического эпоса. Хтоническое чудовище – это всегда гротесковая фигура, в которой соединяются несоединимые части и элементы, это некий монстр, уцелевший обломок хаоса, прорвавшийся в космос. Функция человека-героя заключается в том, что он не только убивает, расчленяет, уничтожает это существо, представляющее для людей опасность (оно всегда несет смерть и часто является пожирателем человеческой плоти), но и очищает космос, жизнь, структурированный упорядоченный человеческий мир от остаточных элементов прорвавшегося в него хаоса. Если демиург или демиурги побеждают хаос в целом, то человек-герой сражается с его обломками, тоже выполняя демиургическую функцию.
Раннее представление о гротесковом чудовище кажется односторонне серьезным. Связанный с ним смех вытесняется формирующимся в человеческом сознании восприятием гибели человека как страшной утраты. Хтоническое чудовище является теперь носителем чистого насилия, и поэтому смех по отношению к нему кажется невозможным. Отсутствие смеха делает эти фигуры, как бы выразился М.М. Бахтин, грозными, страшными или ходульными, ибо насилие не знает смеха. Однако эти грозные и страшные чудовища в силу своей бинарной природы, а значит потенциальной двусмысленности, по-прежнему содержат в себе нереализованный смеховой заряд. Актуализация смеховой реакции на гротесковость происходит в процессе развития моделирующей функции сознания, устремленного ко все большей упорядоченности мира. Освоение человеком природы и осознание им своих внутренних возможностей, развитие рефлексирующей функции сознания порождают сюжеты, в которых гротескные существа лишаются не только мощи и силы, но и серьезности.
Так, в одном из палеоазиатских мифов хтоническое чудовище – пожиратель людей – побеждено девушкой-богатыркой. В борьбе с ним она проявляет силу и хитрость. Девушка бросается навстречу чудовищу, вбегает в его гигантскую разинутую пасть и ставит вертикально огромный, заточенный с двух концов ствол сосны. Чудовище не может закрыть пасть. Всю зиму целое становище льет туда помои. Весной богатырка глумится и насмехается над монстром, берет с него клятву не появляться в человеческом мире и никого не трогать. А потом выбивает бревно и отпускает. Гигантская бесформенная гротесковая туша навсегда уходит под землю [152]152
См. об этом: Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки (азиатские эскимосы, чукчи, кереки, коряки и ительмены). М.: Наука, 1971.
[Закрыть].
«Серьезность нагромождает безвыходные ситуации, смех подымается над ними, освобождает от них. Смех не связывает человека, он освобождает его» [153]153
Бахтин М.М. Из записей 1970–1971 гг. С. 339.
[Закрыть]. Человек побеждает гротескные чудовища своим искусством или интеллектом. Так, например, Хорхе Луис Борхес в своей «Книге вымышленных существ» пишет, что в одной легенде, записанной знатоком мифологии Аполлодором (II в. до н. э.) говорится, что Орфей на корабле аргонавтов пел слаще, чем сирены, и по этой причине сирены побросались в море и были превращены в скалы, ибо им было суждено умереть, когда их чары окажутся бессильными. Борхес добавляет, что также и сфинкс, когда его загадку отгадали, бросился в пропасть.
В этих сюжетах смех еще в буквальном смысле не звучит, но его присутствие явно ощущается. Загадка сфинкса определенно двусмысленна, она рассчитана на то, что всякая архаическая загадка имела две отгадки: сакральную – для посвященных и профанную – для всех. Сакральная отгадка была связана с называнием каких-то мифологических существ и когда-то функционировала в ритуале, в первую очередь в ритуале инициации, а профанная – с угадыванием бытовых предметов, природных объектов и других явлений человеческого мира. В поздний период античности существовала специальная смеховая интеллектуальная игра, в которой участники пиров загадывали друг другу загадки. И так как к этому времени сакральная отгадка уже не была тайной ни для кого, победителем становился тот участник пира, который мог назвать обе отгадки. Удачное двойное отгадывание сопровождалось общим смехом пирующих, знаменуя собой раскрытие двусмысленности. A.C. Пушкин перевел одну из таких загадок и опубликовал ее под названием, являющимся профанной отгадкой. Это его стихотворение «Вино», которое является переводом стихов Иона Хиосского (V в. до н. э.):
Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам шумный заступник любви!
С одной стороны, это описание воздействия вина на человеческий организм и психику, но, с другой стороны, это явное описание тех превращений, которые совершал отрок Загрей, когда его убивали куреты: злой отрок Загрей, молодой старик Хронос, могучий Зевс – именно эти личины принимал юный бог виноделия, умирающий и воскресающий Дионис, пытаясь спастись от своих убийц. Именно об этих превращениях он рассказывал в ритуальном тексте дифирамба козлам, бурно переживающим его гибель и радующимся его возрождению. Любопытно, что само название ритуала, дифирамб, переводится как «восхождение сквозь двойные двери».
Загадка сфинкса не просто коварна, она является потенциально смеховой. Можно предположить, что предшественники Эдипа погибали потому, что мышление их было более архаичным, чем у него. Когда они слышали загадку сфинкса, описывающую таинственное существо, которое утром ходит на четырех ногах, днем – на двух, а вечером – на трех, то начинали лихорадочно вспоминать некое хтоническое чудовище, имеющее гротескный образ. Разрешение же загадки заключалось в том, чтобы дать сфинксу профанный ответ. Загадка сфинкса по своей природе двусмысленная, причем превалирует в ней смысл космический и человеческий.
Загадка сфинкса – это его двойное послание путникам. Участь путников всегда была жестокой и кровавой, потому что они были не в состоянии выйти из тупика, создаваемого для них сфинксом. Эдип справился с задачей. Распутал петлю двусмысленности, разжал ее капкан. Для современного сознания финал мифологического рассказа о столкновении гротескного сфинкса и человеческого Эдипа, когда Эдип побеждает, а сфинкс, проиграв окончательно, в отчаянии бросается в пропасть, не кажется смешным. Однако смех уже таится на дне пропасти. До понимания смешного в гротеске, до полного снятия страха перед обломком хаоса, до полного утверждения торжества человечности сознанию человека остается несколько шагов. Гибель сфинкса знаменует не только победу человека над чудовищем, но, прежде всего, победу нового, профанного человеческого сознания над сознанием, погруженным в хаос сакрализации. Гротеск вновь становится смешным, но смешным по-новому.
Смех выступает здесь как механизм преодоления неопределенности границы. Смех мотивирует к завершению модели, преодолению границы между космосом и остаточным хаосом, к прекращению всяких метаморфоз.
Сфинкс сам бросается в пропасть, в хтоническую бездну, он продолжает существовать теперь только как лишенный эмоционального заряда конструкт сознания, то есть элемент человеческого, организованного, структурированного пространства. Путь между Коринфом и Фивами свободен, точно так же как свободна «дорожка прямоезжая» между Черниговом и Киевом от гротескной фигуры другого хтонического чудовища – Соловья-разбойника, уже явно смешного, когда Илья Муромец отнимает у него силу, выбив ему «право око со косицею». Теперь Соловей пригоден только для создания комической ситуации – Илья забавляется, пугая им князя Владимира и его присных.
Сверхзадача сознания в отношении хаоса заключается в его ограничении и удержании в виде контролируемой автономной оппозиции по отношению к космосу. Действительно, вторичный, хтонический (подземный) хаос существует параллельно космосу, между ними проведена граница. Хаос находится в состоянии потенциальной экспансии по отношению к космосу. Эсхатологические представления базируются на моделировании возможности победы хаоса в будущем в виде всемирного потопа, пожара, землетрясения, вселенской бойни и т. д., а героическое деяние определяется как сдерживание гротескно-чудовищных сил хаоса от прорыва в космос. Хтонический хаос сохраняет в себе черты первичного хаоса, такие как непознаваемость, источник тревоги, страха и опасности. Он продолжает жить даже в современном сознании в образах, например, тумана, мрака, лабиринта. На границе космоса и хаоса всегда пребывает смех, маркируя извечность оппозиции, а потому и неразрушимость бинарной мировой модели.
В образах гротескных монстров, этих осколков хаоса, уцелевших в процессе его разъятия и прорвавшихся в космос фантастических существ, с которыми сражались герои, человеческое сознание осмысливало идею упорядоченной бинарной картины мира, победы космоса над хаосом, жизни над смертью, человеческого над дочеловеческим, разума над неупорядоченным, дочеловеческим, животным восприятием мира. Вероятно, параллельно этим образам в сознании возникают гротескные образы, где отсутствует сращение человеческого и нечеловеческого и гротескность реализуется только в антропоморфных формах. Примером гротеска первого порядка является сфинкс, гротеском второго порядка – изображение человеческих тел с преувеличенными формами. В гротесках первого порядка природное слито с человеческим и одно естественно переходит в другое. Здесь рефлексия осуществляется по поводу тела человека и сросшегося с ним природного объекта. Главный конфликт заключен именно в границе человеческого и нечеловеческого, а второстепенный, менее значимый и менее актуальный – в рефлексии по поводу границы всего тела и окружающего его мира. Такой гротеск представляет собой явный обломок хаоса, прорвавшийся в космос, где основным элементом является метаморфоза, как бы остановившаяся и замершая в своей незавершенности. То ли львица, недопревратившаяся в женщину, то ли женщина, недопревратившаяся в львицу. Метаморфоза как бы остановлена возникшей оппозицией «человек – зверь» и является по большей части метаморфозой пространственной.
Гротеск же второго порядка антропоморфен и осуществляется уже в рамках возникающей и формирующейся индивидуальной телесности. Тело еще не определилось и как бы колеблется в своих размерах, масштабах и пропорциях. В такой форме гротеска рефлексия существует по поводу границ индивидуального тела и тела народного (родового), мирового, космического. Метаморфоза здесь осуществляется как проникновение частей тела в мир и мира в тело и является не столько пространственной, сколько временной, ибо знаменует бесконечную череду смертей и новых рождений. Главная идея здесь – отделение не столько природного от человеческого, сколько индивидуального от родового и самостоятельная жизнь человеческого тела в бесконечной череде новых рождений. Это особенно заметно в том, что индивидуальное тело начинает мыслится как тело мира или тело первосущества, где граница проходит в его рамках, разделяя материально-телесный низ (аналог хтонического хаоса) и духовный верх (аналог космоса).
Не исключено, что первым гротескным существом, осмысливавшимся уже только в рамках антропоморфной телесности, были не герои, подобные Санчо Панса с его огромным брюхом, а еще носящие в себе черты чудовищ мифологические великаны. В культуре великан из враждебного человеческому миру порождения хаоса постепенно превращается в образ, знаменующий мощь и бессмертие вечно возрождающейся человеческой природы. Если мрачный и грозный Полифем пожирает спутников Одиссея (следует заметить, что расправа хитроумного Одиссея с Полифемом несет в себе мощнейший смеховой заряд), у Франсуа Рабле сам мотив пребывания человека в пасти великана осмысливается совершенно по-другому. Он перестает быть причастен ужасу смерти и соотносится с жизнерадостным смехом. Случайно попавшие в рот гиганта Пантагрюэля монахи вынужденно гадят там, оповещают великана о своем пребывании ударом посоха по больному зубу, а он весьма сожалеет о случайно причиненной им неприятности и вежливо извиняется.
Для нас гротеск интересен не столько как художественный прием, распространенный в искусстве, сколько как один из механизмов человеческого сознания, сформировавшийся еще в глубокой архаике и продолжающий работать на всем протяжении истории человеческой культуры, трансформируясь и видоизменяясь. Гротеск как художественный прием интересен нам лишь как материальное воплощение одного из механизмов сознания.
Гротеск как механизм познания мира несет в себе исходные мыслительные модели, и в первую очередь это асимметрично-бинарная оппозиция и смех как медитативная единица, проводящая границу, то есть разделяющая, соединяющая и определяющая отношения ее асимметричных элементов. Смех в рамках гротеска как механизма сознания выполняет смыслопорождающую функцию.
Гротеск проходит через всю историю развития человеческого сознания, материально воплощаясь прежде всего в искусстве. Его можно наблюдать и в архаике, и в античности, и в Средневековье. Разнообразное воплощение гротеска мы находим и в творчестве Босха, Брейгеля, Гойи и т. д. Для гротескных форм в искусстве, даже самом позднем, свойственна тенденция к соскальзыванию в архаику. Таков, например, градоначальник из «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, у которого человеческое тело срослось с головой-органчиком, выкрикивающим всего две фразы: «Не потерплю» и «Разорю», таковы фигуры шемякинского скульптурного ансамбля, представляющего паноптикум человеческих пороков, таковы добрые и прекрасные великаны Рабле, вышедшие из могучих недр народно-площадной смеховой культуры, таковы чудовища Гойи, рожденные сном разума.
Нельзя не отметить особого места, которое среди этого хоровода гротесковых образов занимает персонаж повести Гоголя «Нос». Гоголевский гротеск почти лишен черт архаики, здесь отсутствует «сращение несовместимого», преувеличение размеров и форм тела – гигантские груди, фаллосы, утробы, огромные носы, орущие разъятые рты, вывернутые внутренности и т. д. Нос кавказского коллежского асессора Ковалева, «довольно недурной и умеренный», исчезает с его лица и начинает в Петербурге самостоятельную жизнь. Двадцать пятого марта 1835 года, в день Благовещения, то есть в день большого церковного праздника, знаменующего первую благую весть о вочеловечивании Бога, он тоже вочело-вечивается, воплотившись не в монстра, а в весьма благочестивого и благовоспитанного штатского генерала. События, происходящие в повести, кажутся трудно объяснимой и дикой фантастикой. Даже возвращение носа, целую неделю провалявшегося в доме майора Ковалева в отрезанном виде, на свое место в пасхальное утро мало что объясняет.
Исследователи творчества Гоголя предлагают самые разные, порою весьма оригинальные толкования этого сюжета. Исходя из нашего понимания гротеска, мы попытаемся объяснить то, что происходит в повести. В Петербург, славящийся своей упорядоченностью, космичносгью, структурированностью, является не просто «свежий» коллежский асессор, а коллежский асессор из тех, «которые делались» на Кавказе. Кавказ для русского человека – это воплощение военного, бытового, социального, ментального и всякого другого хаоса. Отъезд на Кавказ осмысливался в XIX веке как путешествие в иной мир. К концу XX – началу XXI века это восприятие Кавказа, которое на периферии сознания присутствовало всегда, вновь актуализировалось. Майор Ковалев – носитель особого кавказского менталитета – является своеобразной гротесковой фигурой, осколком хаотического мира, ворвавшимся в мир космический и упорядоченный, дисциплинированный и будто проведенный по линейке. Петербургский космос пытается очень своеобразно «упорядочить» Ковалева: он то ли отрубает, то ли отрывает ему нос. Перепуганный майор Ковалев, в голове которого и без того все смешано и сдвинуто, который воспринимает мир Петербурга явно неадекватно, который лишен в огромном столичном городе каких-либо социальных связей и живет в беспочвенных мечтах, начинает свое хаотическое, почти «броуновское» движение по улицам города в поисках утраченного носа. И вдруг оказывается, что Петербург не космос вовсе, а неупорядоченный, безумный и бредовый хаос, такой же как Кавказ. Город оставляет попытки структурировать героя, ибо его очеловеченный нос оказывается более упорядоченной моделью разумного существа, чем он сам. Пытавшийся бежать через Ригу за границу, нос возвращается на прежнее место как пасхальный подарок, а весь мир сливается в единое, бредовое и хаотическое пространство. Благая весть об очеловечивании не оправдалась, хаос неизбывен и непобедим, он кусает себя за хвост, как мировой змей.
Гоголь создает совершенно оригинальную форму гротеска. Картина мира, созданная им, лишена границ, вернее, они чисто иллюзорны. Структурирующая космос и хаос граница проходит только через сознание читателя.
Если метаморфоза, вынесенная их хаоса в космос, порождает гротеск, а гротеск неизбежно порождает смех, то метафора является некоей противоположностью метаморфозы, и ее отношение к смеху значительно сложнее. Метафора изначально космична и связана с умножением форм выражения смысла. Метафора сама по себе уже является бинарной моделью. В ее состав входят разные формы выражения одного смысла. Встреча субъекта с метафорой предоставляет ему возможность выбора наиболее субъективно доступной для него формы выражения смысла. Невыбранная форма не только не отбрасывается, но и не подвергается сомнению, не закрепляется как оппозиционная выбранной, она продолжает существовать в поле потенциальных смыслов. Однако выбранная субъектом форма выражения смысла, присутствующая в метафоре, является для него не только наиболее доступной, но и субъективно наиболее значимой.
Смех, возникающий в ситуации встречи субъекта и метафоры, маркирует не границу между смыслами, воплощенными в ней, ибо границы этой просто нет, смех здесь маркирует инсайт, то есть момент озарения, нового видения ситуации, себя, жизни, обретение нового смысла. Смех при встрече с гротеском и метаморфозой маркирует границу жизни и смерти, потому что и гротеск и метаморфоза обращены именно к этой границе. Смех при встрече с метафорой маркирует границу между привычным видением мира и новым, небывалым, только что возникшим, между старой и новой картиной мира. Смех при встрече с метаморфозой знаменует победу жизни над смертью, уверенности над страхом; смех при встрече с метафорой знаменует преодоление субъектом самого себя, выход за пределы своего привычного осмысления мира в пространство новых смыслов, победу нового мировосприятия над старыми формами мышления.
В рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Другой» старый писатель в 1969 году случайно встречается в парке с юным поэтом, который оказывается им самим, живущим в 1918 году. Они вступают в разговор, который не вяжется, собеседники не только плохо понимают друг друга, но им явно оказывается почти не о чем говорить. И Борхес, и Другой испытывают разочарование столь глубокое, что, вероятно, по крайней мере младший навсегда забудет эту странную встречу. Даже разговор об искусстве, который они пытаются завязать, показывает кардинальное несоответствие их взглядов.
Как на грех, толковали о литературе и языке – боюсь, я не сказал ничего нового по сравнению с тем, о чем обычно говорю с журналистами. Мой alter ego верил в надобность создания или открытия новых метафор, я же – лишь в точное соответствие слов, уже созданных нашей фантазией, моим собственным образам или общественным понятиям [154]154
Борхес Х.Л. Круги руин. СПб.: Азбука, 2000. С. 224.
[Закрыть].
Если для молодого поэта творчество является процессом поиска и конструирования новых метафор, то старый писатель считает его лишь освоением и осмыслением гигантского интеллектуального опыта человечества, воплощенного в устойчивых мыслительных структурах. Если для молодого поэта творчество – это самовыражение через продуцирование новых, небывалых метафор, то для старого писателя творчество – это самовыражение в процессе поиска соответствия между аутентичными переживаниями и мыслительными конструкциями, накопленными гипертекстом культуры.
* * *
Итак, мы утверждаем: человек и смех родились одновременно. Человек – из высокоорганизованного животного, а смех – из генерализованной аффективной реакции этого животного. Особое, новое, двусмысленное человеческое сознание формировалось в процессе приспособления мозга к уникальным изменениям коммуникативного поля, возникшим в результате мутации. Смех не породил человеческое сознание, он спас его, но и человеческое сознание не породило смех, хотя на протяжении тысячелетий пытается понять его генезис, функции и структуру.
Двуединство сознания и смеха почувствовал еще Аристотель. Невольно напрашивается метафора. Человеческое сознание и смех столь же неразделимы и едины, как фигура древнего правителя и его шута. Единство шута и правителя (короля, царя) тоже замечено очень давно. Действительно, одежды их схожи, шут так же, как и правитель, одевается в красное («дурачки красненькое любят») – цвет избранника и жертвы. Шутовской колпак всегда пародирует корону. Недаром мучители, высмеивая «царя иудейского», желая превратить его в шута, одели Христа в багряницу и увенчали пародийным, сделанным из антиматериала, царским венцом из грязного придорожного колючего кустарника. Шут и правитель всегда являлись вместе, причем шут не только пародировал правителя, но и был его alter ego. Недаром развенчанный шекспировский король Лир удаляется в степь, в бурю, фактически в хаос в сопровождении шута. И результатом диалога-спора, который он ведет с ним, а фактически с самим собой, становится не возрождение умершего короля, а рождение Человека, который возвращается в мир, увенчанный не королевской короной, а скромным венком из полевых трав и цветов. Давно доказано, что присутствие шута при правителе является не проявлением прихоти богатого и сильного человека, порождено не жаждой развлечений и веселья. Шуты досаждали своим хозяевам, вызывали раздражение, лишали покоя и комфорта. Они не делали жизнь царя радостнее, терпеть их присутствие было одной из неприятных традиционных ритуальных обязанностей правителя. Фигура политического, военного и экономического правителя эпохи ранней государственности получила шута в наследство от своего предшественника – царя-жреца эпохи родового строя. Генезис и культурная динамика взаимоотношений царя-жреца и более позднего правителя, «настоящего» царя, раскрыты в замечательной работе Дж. Фрезера «Золотая ветвь».








